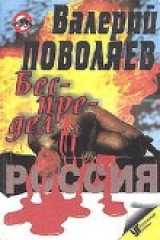
Текст книги "Беспредел (Современные криминальные истории)"
Автор книги: Валерий Поволяев
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Пьяная квартираБытовые преступления ныне стали настоящим бичом, они захлестнули Россию своим помойным валом, катятся почти беспрепятственно, поражая своей жестокостью, бессмысленностью, кровавостью. И в ту же пору – это самые легко раскрываемые преступления: и жертвы, и преступники почти всегда оказываются на виду. Это не заказные убийства, которые тщательно продуманы, подготовлены, обставлены деталями, наводящими на ложный след. Бытовые убийства обычно совершаются спонтанно, по злобе да по пьянке.
…Ох и пьянка же это была, ох и пьянка! Лихая, с магнитофонным грохотом и чмоканьем в донышко опустошенных стаканов, с матом и песнями «а-ля Высоцкий», с сигаретным дымом и танцами-шманцами-обжиманцами… Танцевали прямо на осколках битой посуды, в лужах крови.
Весь Орел, кажется, гудел от беспутного веселья молодых людей, собравшихся в доме № 5 по улице Цветаева, но, когда восстанавливали детали этого лихого загула, оказалось: никто особого ничего и не видел, и не слышал. Ни воплей, ни песен, ни предсмертных хрипов… Впрочем, все видели и все слышали.
А происходила пьянка в квартире Петрачковых, матери и дочери, 46-летней Валентины Захаровны и 18-летней Наташи. И мамаша, и дочка, надо заметить, пить умели ну не хуже мужчин, и так же, как мужчины, они научились целовать донышко опорожненного стакана.
Среди гостей в тот вечер, плавно перешедшего в ночь, находились самые разные люди: неработающий Виктор Свистунов по кличке Свист, его приятель Леха Стебаков по прозвищу Портной, он действительно был портным, работал в ТОО «Шевро», мать четверых детей Татьяна Алексашина, бывший курсант военного училища, а потом – студент-неудачник Орловского пединститута Олег и другие. Людей было много, они менялись, будто фигурки в некоем странном зловещем калейдоскопе. Кроме постоянно действующих лиц застолья, были еще лица временные, которые то появлялись, то исчезали: всякие Лены, Ромы, Ирины, Гришки и так далее. Всех имен и не упомнить.
Первой закосела многодетная мать, Татьяна Алексашина. Уже ночью стрелки приближались к той самой поре, когда из всех щелей начала вылезать нечистая сила, – Татьяна стала материться по-черному, громко стучать по столу и петь одну и ту же, набившую оскомину песню «Ромашки спрятались, поникли лютики». Но с песней она не справлялась, срывалась, из глаз ее лилась мокреть: видать, эта песня была сочинена про нее, бедолагу… Хозяйке дома, младшей Петрачковой, Татьянино мычание надоело, и она, морщась брезгливо, подошла к Олегу Лановскому:
– Выведи ее! А то она мне всю квартиру своими соплями испачкает.
– Сейчас! – Лановский готовно поднялся со стула.
Но Татьяна Алексашина уходить не пожелала, ей это вообще показалось обидным.
– Водка-то на чьи деньги куплена? – прокричала она в лицо Наталье. Отдай мне мои деньги, и я уйду!
Наталья даже ответить не успела, как к Алексашиной подскочил мгновенно вскипевший Свист, заполыхал, зафыркал, будто чайник на газовой конфорке, и ударил Татьяну кулаком в лицо. Потом ударил еще раз. Татьяна упала. Ее подхватили за ноги и потащили, как куклу, на кухню. Свист шел следом и продолжал бить Алексашину ногами. Да все по голове, по голове, по лицу. Никто даже не думал остановить его. Наталья Петрачкова поморщилась:
– Все, сортиром в квартире запахло. Она нам все изгадит. Волоките ее не на кухню, а на улицу. Пусть там проспится.
Свист, Лановский и молодой их помощник Гришка Курганов выволокли Алексашину на улицу, дотащили до лесопосадки, проходившей неподалеку от дома и бросили.
В час ночи Курганов обеспокоенно проговорил, обращаясь к Свисту:
– Надо бы посмотреть, что там с этой коровой происходит… А?
Многоопытный Свист согласился с юным приятелем.
По дороге Курганов подобрал серый силикатный кирпич, здоровенную такую дуру…
– Зачем? – спросил Свист.
– Вдруг пригодится, – туманно отозвался Курганов.
Алексашину нашли сразу, она лежала в кустах без сознания; в темноте белели широко раскинутые ноги, из черного разбитого рта вырывался тяжелый хрип. Свист произнес с удовольствием:
– Живучая, курва!
– Женщины живучи, как кошки, – знающе подтвердил Курганов. – Это известно всем, – он оглядел широко раскинутые ноги Алексашиной и сладко поцецекал языком: – А не кинуть ли нам в бой застоявшегося коня? – Курганов выразительно похлопал себя по ширинке.
– В таком виде не употребляю, – гордо отказался Свист.
Курганов сдернул с Алексашиной трусишки, пристроился к ней бочком… Затем, закончив дело, взял в руки кирпич и, подкинув его для ловкости, несколько раз врезал им Алексашиной по голове. Та перестала хрипеть. Свист действия напарника одобрил:
– Правильно. Иначе она, очнувшись, незамедлительно сдаст нас ментам.
– У меня такое впечатление, что она еще жива, – подумав, произнес Курганов.
Свист молча взял в руку кирпич и несколько раз с силой ударил им Алексашину по голове. Его удары были сильнее ударов Курганова и, судя по всему, оказались решающими: Татьяна Алексашина была хоть и живуча, но ударов Свиста не выдержала.
– Вот теперь, кажется, все, – Свист удовлетворенно вздохнул.
Когда возвращались, Курганов зашвырнул кирпич в кусты.
– Улика. А улики нам ни к чему.
Впоследствии следователи Орловской прокуратуры насчитали на теле Алексашиной 88 ран. Восемьдесят восемь!
Вернулись в квартиру, а там дым коромыслом, веселье бурлит пуще прежнего, в доме появились свежая выпивка и новые музыкальные записи пришел Рома Васильков и принес магнитофон. А может, он ушел, но магнитофон свой оставил, кто разберет? Все в этом доме перевернулось. И весело было, очень весело.
Свист и Курганов замыли кровь, освежились одеколоном и как ни в чем не бывало включились в веселье. Ох и лихо же получилось все! Из Ромкиного магнитофона выжали все, что могли… Угомонились где-то в четыре утра, когда за окнами забрезжил рассвет, – попадали замертво. Надо было хотя бы немного поспать, отдохнуть, чтобы утром вновь заняться трудным делом отдыхом.
Проснулись в десять часов. Пришла Наташкина мама Валентина Захаровна, принесла бутылку водки. Растолкала Свиста:
– Эй, кавалер! Поухаживай-ка за дамой, открой посудину. Выпить пора! У нас ведь как водится: если с утра не глотнешь немного живой воды – считай, весь день насмарку, за что ни возьмись – все из рук валиться будет. Поднимайся, кавалер!
Свист кряхтя поднялся. Открыл бутылку, налил полстакана опухшей, с крошечными оплывшими глазками Валентине Захаровне – тоже, видать, время недурно провела женщина, – и себя не забыл, налил чуть больше. С сожалением посмотрел на полуопустевшую бутылку.
– Хор-роша, зар-раза, да больно быстро тает.
Валентина Захаровна с этим утверждением была согласна: действительно быстро тает. Будто снег на горячем солнце. Закусывать было нечем. Выкурили по сигарете, послушали сами себя: что там организм подсказывает? А организм подсказывал одно: надо бы продолжить начатое дело. И вообще борьбу с зеленым змием прерывать нельзя ни на минуту.
– Может, еще по одной? – предложил Свист. – Когда мало – это вредно. Даже очень вредно.
– А ребятам? – Валентина Захаровна оглядела лежавших вповалку гостей. – У них ведь тоже в голове колокольный звон стоит, а во рту, как в конюшне, – лошадь переночевала. Им тоже надо.
С этим Свист, компанейский парень, согласился. Тем более народ начал продирать глаза – Наталья, Лановский, Курганов… И все потянулись к бутылке. Через несколько секунд она была пуста.
А душа жаждала, ох как жаждала хмельного зелья! И не только зелья, а и воли, музыки, красивых слов, сигаретного дыма, ласки. Тосковала душа.
Некоторое время они соображали, где бы достать денег. Вывернули карманы – пусто. Не на что купить горючее. А без горючего известно что происходит с самолетом – он хлопает на землю. Выручила Валентина Захаровна, широкая душа, добрейшая женщина. Ей и самой выпить до смерти хотелось. Она вдруг махнула рукой, решительно сказала:
– Ладно, ребята… Продадим обеденный стол-книжку и… и палас-дорожку. Стол все равно в квартире – лишняя мебель, пообедать можно и на подоконнике, а палас… Это вообще роскошь. Для «новых русских». Но только мы не «новые русские»!
Под восторженное «Ура!» выволокли стол с дорожкой и потащили к ближайшей торговой точке – коммерческому киоску. Там без особых хлопот обменяли на две бутылки водки и пачку сигарет «Родопи». Когда, довольные, шли обратно, Лановский заметил, что на скамеечке в сквере сидит размякший, довольно улыбающийся (такая улыбка бывает только у пьяных людей), хорошо одетый господин. Лановский толкнул Свиста локтем в бок:
– У этого козла есть денежки!
– Откуда знаешь?
– Определил по роже и оттопыренному карману пиджака. Одет вишь как? На тыщу долларов, точно.
– Что предлагаешь?
– Пригласим его, а там видно будет. Разберемся. Не может быть, чтобы он с нами не поделился своим богатством.
– Приглашай!
Так они прихватили расслабившегося Сашу Винокурова – полировщика АО «Научприбор». Привели его в дом, а там даже выпить не налили – самим было мало, прямо с порога начали избивать. Били чем попало. Сдернули с него пиджак, вывернули карманы, достали деньги. Собственно, денег было всего ничего – на три, максимум четыре бутылки водки (смотря, где ее покупать и какого качества). Котоновый пиджак, как боевую добычу, забрал Свист, свой пиджак отдал Курганову, а кургановский драный пиджачишко, словно бы с огородного пугала снятый, натянули на Винокурова. Тот был еще жив, хрипел надсадно, как сутки назад хрипела Татьяна Алексашина. Туфли Винокурова роскошные, с широкими модными рантами – взял Лановский. На деньги Винокурова купили водки.
Первой свалилась Валентина Захаровна, слабенькая она была: все-таки сорок шесть – это сорок шесть лет, а не восемнадцать, как дочке ее, Наталье. Приняла Валентина Захаровна еще полстакана и улеглась на диван почивать. Уже лежа, махнула рукой:
– Продолжайте без меня!
Проснулась она от шума. Свист и Лановский решили добить Винокурова очень уж тот мешал им своим хрипом. Противно, когда так хрипит человек. Свит нашел кусок двухжильного провода в белой пластиковой оболочке длиною 219 сантиметров, накинули Винокурову на шею и каждый потащил свой конец на себя. Но и это не подействовало: Саша Винокуров не хотел умирать.
Тогда Свист вспомнил о заточке. Заточка была сделана из электрода, заострена на манер шила и насажена на деревянную рукоятку. Бил, бил заточкой – бесполезно: Саша Винокуров продолжал хрипеть. Разъярившись, Свист схватил обычный кухонный нож с черным пластмассовым черенком и всадил его Винокурову в шею. Лишь после этого молодецкого удара тот перестал хрипеть.
– Наконец-то! – сплюнул под ноги Свист и скомандовал Лановскому: Давай оттащим его в ванную. Пусть отдохнет там.
И только сейчас он увидел, что Валентина Захаровна, приподнявшись на диване, с нескрываемым ужасом смотрит на него.
– Ты чего наделал? – сиплым шепотом спросила Валентина Захаровна.
Свист не ответил, отволок вместе с Лановским труп Винокурова в ванную комнату – нож у того по-прежнему торчал из шеи, – вернулся и внимательно посмотрел на Валентину Захаровну. Рядом с ним оказалась Наташка. Она словно бы почувствовала, о чем думает Свист, усмехнулась:
– Мать хоть и сильно пьяная, а все-все соображает, имей в виду. Может заявить в милицию. Так что думай, малый, думай…
Свист снова взялся за провод в белой изоляции и накинул его на шею Валентине Захаровне.
– Не надо! – заплакала та.
– Надо! – жестко произнес Свист и затянул провод. Потом нанес Валентине Захаровне три сильных удара ножом в шею. Он уже почувствовал вкус к убийству.
Труп Валентины Захаровны также затащили в ванную и бросили сверху на труп Саши Винокурова.
За окном было уже темно. Все устали. Пора было ложиться спать. Наступала очередная пьяная ночь.
А в лесопосадке тем временем нашли тело Татьяны Алексашиной. Район-то жилой, народ постоянно ходит, движение здесь, как на ином проспекте, – хоть регулировщика выставляй. Единственно, машины только не ездят, а все остальное «имеет место быть»…
Милиция незамедлительно начала прочесывание окрестностей, поиск свидетелей – а вдруг кто-то что-то видел? Город ведь не тайга, где свидетелем преступления может стать только зверь.
Вскоре был найден серый силикатный кирпич. Окровяненный, с отпечатками пальцев Свиста и Курганова. Немного времени понадобилось и на то, чтобы вычислить пьяную квартиру…
Все участники многодневной попойки были задержаны, все, кроме Свиста. Тот, словно бы что-то почувствовав – недаром у него за плечами была лагерная школа, – поднялся утром и ушел. Уходя, пригрозил Наталье Петрачковой:
– Если кому-нибудь хоть словечко, хоть полсловечка, – он показал ей заточку, – я тебя этим делом исковыряю, как решето. Понятно?
Через несколько часов Свиста искала уже вся орловская милиция. Но тот словно сквозь землю провалился. А ушел он к своей приятельнице Лене Манохиной, устроился к ней под теплый бочок и из квартиры решил носа не высовывать до тех пор, пока все не утихнет или хотя бы не прояснятся все обстоятельства событий, которые ему были хорошо известны. Но одно дело известны ему, и совсем другое дело – милиции.
Задержал его лишь через полтора месяца И. Галюткин, – бывший работник колонии, в которой Свист еще совсем недавно отбывал срок. Ныне же Галюткин работал в милицейском СОБРе и, как всякий оперативник, имел при себе ориентировку насчет Свиста. Свиста он знал как облупленного. И вдруг он встречает Свиста едва ли не в центре города, на многолюдной улице Тургенева.
– Стой, Свист! – закричал Галюткин. – Стой, стрелять буду!
Но, когда кругом народ, особо не постреляешь. Свист нырнул в толпу и чуть было не растворился в ней, но ему не повезло – на пути у него оказался еще один сотрудник милиции – И. Глюбин. Он и сбил бегущего Свиста с ног…
Ни психологи, ни писатели, ни философы, ни правоведы не могут понять: в чем причина такого страшного всплеска кухонной жестокости? В том, что общество разбилось ныне на два сословия – на очень богатых и очень бедных? В яростной зависти бедных к кучке богатых и эта зависть рождает отрицательные эмоции? Или причина в чем-то еще? Ведь Свист убил на пару с Олегом Лановским ни в чем не повинного парня, который и слова-то худого ему не сказал, убил только за то, что тот был одет лучше его, а в кармане, по предположению Лановского, имел деньги. Валентина Захаровна Петрачкова была убита лишь за то, что не вовремя проснулась. Татьяна Алексашина – что слишком быстро опьянела…
Ни Свист, ни Лановский, ни Стебаков по кличке Портной, который проходил по этому делу вскользь, хотя имя его в «подсудных» восьми эпизодах уголовного дела упоминалось несколько раз, ни Курганов не родились безжалостными убийцами – они таковыми сделались. У убитой Алексашиной осталось четверо детей, трое из них сейчас находятся в детдоме города Мценска. У Саши Винокурова остался двухлетний сынишка…
Единственное общее, что имелось у всех этих людей (не хочется их даже людьми называть), – они были все, как один, вспыльчивы и малоразвиты. Особенно Свист и Портной. Настолько малоразвиты, что их запросто можно считать дебилами. Но это еще не дает права поднимать руку на человека. Плюс ко всему – все алкоголики.
Приговор по делу Свиста и Ко несколько удивил меня. Сам Свист, попавший в разряд рецидивистов, был приговорен к высшей мере, взял, как на охоте, весь заряд «дроби» на себя. Лановский пошел по статье «за укрывательство» и получил всего три года. Стебаков – также три года (с отсрочкой), а вот фамилий Натальи Петрачковой и Курганова я в приговоре не встретил вообще.
Может, я их просмотрел? Дело-то ведь толстое, том в руке не удержать… Вряд ли.
Тогда в чем причина?
Леди О'Кей Мценского уездаМценск – город маленький, тихий. С рыбной медлительной речкой, на которой лихо клюет жирная плотва; с железнодорожной станцией, где поезда останавливаются ровно настолько, чтобы дать сигнал отправления; с шумными базарчиками, рыбой и еще чем-то очень вкусным – то ли свежими коврижками, то ли пивком, то ли горячим хлебом.
Базары в таких городах – это нечто вроде ИТАР-ТАСС – информационного телеграфного агентства, которое круглосуточно отстукивает всякие новости.
Сюда, на милый городской базарчик, стекаются бабки со всего города. В тот день их, кажется, было больше обычного. И все друг другу на ухо – по секрету: «Шу-шу-шу-шу!»
Даже оперативные работники местной милиции, привыкшие разгуливать по городу в штатской одежде, на что уж невозмутимые, и те встревожились: это чего же так засуетились местные «божьи одуванчики»?
Новость распространилась по городу Мценску в мгновение ока. Более того – о ней на следующий день узнали в городе Орле, хотя Орел расположен от Мценска совсем не близко. И завертелась, и закрутилась машина…
Мы все иронически относимся к брюзжанию разных старушек, с небывалым упрямством утверждающих, что раньше молодежь была – во, на пять! Настоящая, словом, а сейчас… Сейчас это люди без руля и ветрил, без чести и совести, без особых мозгов в голове, без чувства долга и локтя, без уважения и даже вообще без сердца. В общем, не молодежь, а сплошные недостатки. Вот раньше была молодежь!
Песенка в общем-то знакомая, и тем не менее, если исходить из мценской истории, в песенке этой есть доля правды. Все правильно: нынешние школьники – это не школьники 1967 года. Это совсем другие люди. Двадцать-тридцать лет назад и отношения в наших школах между мальчишками и девочками были совсем иными – более целомудренными, если хотите, более уважительными. Девчонками увлекались, за ними ухаживали. И неожиданно приподнявшееся на полсантиметра платьице над коленочкой вызывало такое сердцебиение, что хоть в медпункт беги – не то сердце выскочит из груди. Все это было, было, было! Было и, увы, прошло…
Сейчас и нравы другие, и романтика иная, и мужчина подчас смотрит на женщину не как на предмет романтических воздыханий, а как на вещь – пусть дорогую, пусть требующую украшений, но принадлежащую ему.
Эти отношения от взрослых перешли к детям, к соплякам и соплюшкам двенадцати – четырнадцати лет, которые, считая себя взрослыми, полагают, что им все дозволено, и ведут взрослую жизнь. Но рано ведь все-таки в двенадцать лет вести взрослую жизнь. Впрочем, только попробуйте сказать об этом какому-нибудь зеленокожему прыщеватому юнцу – ножиком пырнет. И ни на секунду не задумается.
Вот, выходит, и правы старушки, которые поют осанну молодым людям своей поры и плюются в сторону иных юных парочек, оккупировавших парковые и уличные скамейки для своих утех. А сцены там порою разыгрываются просто неприличные.
Помню, как в одной газете на развороте прошла ошеломляющая заметка о групповом сексе, вызвавшая состояние холодной оторопи: в одном из провинциальных городков родители застали дома своих детей за занятием более чем странным: двое семилетних мальчишек занимались любовью с шестилетней девочкой, и все у них происходило «по любви» и «взаимному согласию».
В тихом городе Мценске, в одном из домов тоже все происходило по любви и взаимному согласию. Только если у семилетних детишек никаких последствий быть не могло – не доросли еще, у тринадцати-четырнадцатилетних последствий бывает сколько угодно. И часто они приводят к беде, к трагедии, к преступлению.
Ольга Кнорикова, по прозвищу О'Кей – прозвище возникло из первых букв ее имени и фамилии, – девочка привлекательная, выглядит старше своих лет, особенно если приоденется, лодочки на высоком каблуке, макияж, накрашенные губы карандашиком обведет, – может такого звону на мценских тротуарах наделать, что… все мужики, как пить дать, попадают. А когда поднимутся побегут за юной девой. И вообще говорят, что мужчины всегда чувствуют в женщине женщину, сколько бы этой женщине лет ни было.
Все у Оли началось с походов в городской парк, на крутые берега реки Зуши, где легко дышится, пахнет цветами и крапивой и так сладко поют соловьи, что сердце разрывается. В американских фильмах, где физическая сила и неутомимость в сексе преподносятся как лучшие человеческие качества, и фильмах наших, которые запаренно вкладывают в свой хилый бег последние силы, поспешая за заокеанской продукцией, первые рюмки и первые поцелуи разительно отличаются от того, что происходит в жизни. Вино на деле часто оказывается горьким и протухшим, поцелуй – слюнявым. От юнца, с которым О'Кей поцеловалась первый раз в жизни, пахло чесноком и навозом, а на щеках и подбородке у него были гнойные прыщи… Словом, ничего романтического.
Но потом оказалось, что вино обладает одной особенностью – оно кружит голову, делает мир цветным и приятным, все худое куда-то исчезает, и прыщавый, пахнущий чесноком юнец – этакий Ромео из навозной кучи превращается если не в принца, то в очень приятного молодого человека, прижаться к которому – одно удовольствие. Да, вот с таких хмельных превращений все и начинается.
И хотя О'Кей училась всего-навсего в седьмом классе, она ощущала себя взрослой дамой, даже более – чувствовала себя настоящей тигрицей. Особенно если выпивала стопочку кислой бормотухи тмутараканского или голопупинского производства.
После стопки посовокупляться где-нибудь под крапивным кустом – самое милое дело. Да никакая английская или датская принцесса не устоит после голопупинской кислушки и тем более «плодово-выгодной». Так началась взрослая жизнь мценской семиклассницы. На берегу Зуши, под кустом. А может, и еще где – на дереве, скажем, среди листвы, в подвале, на куче старых ржавых батарей, на которые, чтобы не очень сильно мяли бока, была брошена промасленная дырявая телогрейка… Нет, датской принцессе такие условия не снились!
Все мы, конечно, прошли через это, только не так бесстыдно, не в таком возрасте, и не под крапивным, извините, кустом, хотя – у кого как…
Вернемся к нашей героине. Прежде чем у нее появился постоянный Ромео, было несколько одноразовых любовников, но это оказались так себе, обычные сморчки, хотя и старше ее, ничему нашу Олечку они не научили, а потом пришел ровесник, он оказался много опытнее сморчков. Оля была благодарна Жорке Антошину за сексуальную науку.
Жорка жил в Мценске у бабушки, которая с внуком явно не справлялась: он не то чтобы не слушался ее, он вообще свою родную бабульку за человека не считал, с утра до вечера в доме колготились пьяные компании, кодлы краснощеких с чугунными, коротко остриженными затылками молодчиков Жоркиных дружков. Жорка перестал учиться, бабку каждую минуту посылал куда подальше, и той уже начало казаться, что великий и могучий русский язык только из мата и состоит, и самый страшный мат перестал застревать в ушах, как клич: «Все на выборы!» или призывы к миру.
– Ох ты и шалопай, Жорка. Ох и шалопай! – удрученно качала головой бабка и в ответ получала «путевку в жизнь» вместе с пожеланиями идти далеко-далеко. Она слала одно за другим письма в Красноярский край Жоркиным родителям со слезной просьбой: «Заберите, ради Бога, Жорку своего, совсем парень от рук отбился, для него нет ничего святого… И учиться не хочет, и работать не хочет…»
Жоркины родители на бабкины письма реагировали вяло: сын для них был обузой. Особенно в нынешние времена, когда жить стало как в сказке: чем дальше – тем страшней. В Сибири народ обитает более жестокий, чем в каком-то Мценском уезде, – Жорка может пристрять к мафии, погибнуть в бандитской разборке либо вообще податься за кордон и словить пулю на границе… Словом, перспектив у него, если он появится в Сибири, много. Но все – не те. Так что брать Жорку к себе они не спешили.
И Жорка продолжал жить в тихом Мценске на широкую ногу. В городском саду как-то приглядел рослую привлекательную девочку. Это была Оля Кнорикова, О'Кей.
– Медам, вы не подскажете, как пройти к ближайшей станции метро? обратился он с вопросом, как ему казалось, очень умным.
Он не ошибся: вопрос действительно оказался неотбиваемым, зацепка сработала. Оля посмотрела на него с интересом, хотя «медам» этой было всего-навсего тринадцать лет.
Сейчас уже, наверное, и не вспомнить, чем угощал свою даму Жорка Антошин в тот первый вечер, – вполне возможно, это было сделано по старой популярной побасенке, помните? В ресторан приходит некий великовозрастный Вася и, как истинный аристократ, призывно щелкает пальцами: «Официант!» Когда тот подбегает, произносит громко, на весь зал: «Вина и фруктов!» Затем добавляет тихо, лишь для одного официанта: «Бутылку пива и два огурца!» Возможно, было что-то другое, не знаю.
Наш Ромео такую тонкую материю, как искренность чувств, не исследовал, и уж тем более не исследовал столь непростую вещь, как серьезность чувств. Наш Ромео постарался поскорее бросить свою Джульетту в постель: едва бабка отвернулась – у нее на сковороде подгорали блины, – как Оля очутилась в измятой, испачканной пивом, пеплом и еще чем-то явно органического происхождения, постели.
Исполнив свое дело, Ромео как-то понурился, сделался скучным и озабоченным.
Тем временем и бабка подоспела с блинами, поставила на стол целое блюдо – ароматных, пышных, невольно вышибающих слюну, – подслеповато сощурившись, оглядела Олю:
– М-да, детка… Сколько же тебе лет?
– Скоро стукнет семьдесят пять! – не растерялась Оля.
Ромео, услышав, как его Джульетта подсекла старуху, повеселел.
Старуха пригорюнилась, присела на край стула, подперла подбородок кулаком.
– Эх, дети, дети… какие же вы еще дети!
Да, они еще были малыми детьми, хотя и играли во взрослые игры.
Жорка с Олей рассмеялись, поели блинов и выбежали на улицу – в доме больше ничего интересного не было, нравоучения бабки вызывали зубную боль, а на улице кипела жизнь, было интересно: музыка и «танцы-шманцы-обжиманцы»; баночное пиво в коммерческих ларьках и игральные автоматы, в единоборстве с которыми, говорят, может повезти и тогда есть шанс обзавестись автомобилем «линкольн»; толкотня на дискотеке и просто променад по тихим мценским улицам под бренчание гитары или песни Сюткина, победно несущиеся из переносных пластмассовых магнитофонов.
Улицы, свобода, простор, воля, собственные позывы влекли, манили наших героев, это была их стихия, они отдались ей.
Жоркина бабка тем временем написала новое письмо родителям: если, мол, хотите, чтобы ваш устоял на ногах, немедленно заберите его – с ним ведь сладу уже никакого нет, поймите, милиция несколько раз домой заявлялась, интересовалась: чем же думает заняться в будущем ваш оболтус? Пьет он уже как сапожник, научился у взрослых мужиков, матерный язык знает в несколько раз лучше языка русского, так что заберите его к себе, Христа ради! Иначе парень совсем отобьется от рук!
Пока шла эта переписка – совсем не дипломатическая, скажем прямо, пока родители прикидывали, как же поступить с сыном, Жорка брал от жизни все, что можно было взять. Что же касается его новой возлюбленной, окончательно запустившей школьные предметы и забывшей, как выглядит ее классная руководительница, то ей нравилось, что при первом же удобном случае он бросал ее в постель.
Результаты не замедлили сказаться – О'Кей забеременела.
Нельзя сказать, чтобы Ольга испугалась, – она была готова и к такому повороту событий: не она первая, не она и последняя. В конце концов сделает аборт, и никто на белом свете, кроме нее и Жорки, не будет знать, что с ней приключилось.
Но вот ведь как – она и Жорке побоялась сказать, что забеременела, побоялась, что тот испугается: мужчины ведь такие трусы! И она тянула, ничего не говорила своему Ромео. Потом, когда тревога, внутренняя маета, худые мысли совсем допекли ее, сообщила.
Жорка, надо отдать должное, не испугался, не сморщил брезгливо рот, а проникся неким мужским сочувствием к Оле и проговорил, озабоченно потирая рукою прыщавый подбородок:
– Как же ты так умудрилась?
– Не знаю… – губы Оли дрогнули.
– Как же не побереглась?
– Да разве я рассчитывала, что все это… м-м-м… произойдет? – Оля не выдержала, заплакала.
– Не надо плакать!.. Давай-ка лучше поищем акушерку.
– Не акушерку, а врача скорее, – Оля улыбнулась сквозь слезы. Акушерка – это когда уже рожать надо.
– Рожать нам не надо. Наше дело – не рожать… – начал было Жорка хулиганскую присказку, но вовремя споткнулся, остановился, озабоченно похмыкал в кулак.
– Надо искать врача! – повторила Оля.
Но не так просто найти в маленьком Мценске врача, который бы у себя дома, на кушетке, за плату, равную стоимости двух бутылок спирта, – а больше наши герои предложить не могли, – согласился бы сделать подпольный аборт. Как говорится, «себе дороже».
Нашли одну акушерку, тихую «надомницу», подрабатывающую абортами на кушетке, но та, осмотрев Олю, прикинула что-то про себя и сказала, поджимая губы:
– Иди-ка, милая, в больницу! Я не возьмусь тебя опрастывать! Рисково это… Поняла?
Оля понурила голову: все было понятно.
Пришлось идти в больницу. Жорка, белый от страха, пошел вместе с Олей – поддержать, так сказать, подбодрить, но оказалось, что его самого надо было поддерживать. Врач, осмотревший Олю, усадил ее на стул перед собой и спросил, насмешливо глядя прямо в глаза:
– И что же вы, сударыня, хотите?
– Аборт.
– По-моему, вы находитесь еще в том возрасте, когда люди за свои поступки не отвечают. Рано еще.
– Но я, но я… – Оля замялась, на глазах ее вспухли слезы.
– Вот видите, – врач усмехнулся, – приходите вместе с родителями, и мы сообща решим, стоит вам делать аборт или нет.
На улице Оля устроила своему Ромео истерику.
– Это ты все виноват, ты! – кричала она и била Жорку кулаками по плечам, груди, животу.
Жорка не отрицал, что виноват он, кто же еще?! Там, на улице, окончательно рассорившись, они разошлись в разные стороны: Жорка Антошин в одну, О'Кей в другую. К родителям О'Кей, конечно же, не обратилась: она боялась тяжелой руки матери, боялась насмешек отчима, боялась самой себя, боялась, что новость эта докатится до школы – мать либо отчим не выдержат, проболтаются, и тогда ей вообще жизни не будет. Тогда – хоть в петлю!
Некоторое время она еще тянула, а потом, когда решилась, оказалось, аборт делать поздно. Она стала ждать, когда же родители заметят, но родители ничего не заметили. О'Кей была девушкой крупной, в свои девчоночьи годы обладала женской статью, а при нынешней вольной одежде порою бывает невозможно понять, беременна представительница прекрасного пола или нет.
Жорка той порой укатил в Красноярск к родителям. Оля, узнав об этом, зло стиснула зубы: допекла-таки его бабка. С беременностью у нее портился характер, появилась взрослая злость, язык стал резким, глаз завистливым. Оля пристрастилась к выпивке. Школа ее перестала интересовать, да и сама школа ею не интересовалась – времена наступили такие.







