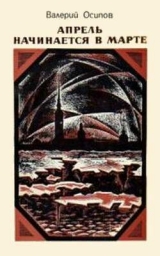
Текст книги "Серебристый грибной дождь"
Автор книги: Валерий Осипов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Правда, был еще один, «общественный» источник сведений об этом, но чаще он возникал тогда, когда это происходило между чужими мужьями и женами, и начинались всякого рода разбирательства, персональные дела, исключения, выговоры, выводы и т. д.
Я чувствовал, что это неотвратимо надвигается на мою жизнь, мои интересы и мои симпатии и привязанности. Но я никогда, наверное, не смог бы даже и подумать о том, что это может произойти с ней, с девушкой, которую я люблю. Я был воспитан семьей, школой, кино, литературой, комсомолом. И семья, и школа, и кино, и литература настойчиво исключали это из сферы своих интересов, будто этого действительно никогда не существовало в жизни. Это было нехорошо, стыдно, дурно, и я тогда искренне считал, что для меня этого не должно существовать до тех пор, пока я не окончу институт и не женюсь.
И я занимался спортом, принимал по утрам холодный душ, спал с открытой форточкой. Но все равно это накатывало, и иногда на улице я долго не мог оторвать взгляда от какой-нибудь незнакомой женщины и подавлял в себе приступы этого только очень большим усилием своей образцовой сознательности. Я утешал себя мыслью о том, что скоро окончу институт и женюсь. Тогда я искренне верил в то, что люди женятся только для этого.
… А на экране черноволосый итальянский парень продолжал любить свою черноволосую итальянскую девушку. Он только никак не мог жениться на ней, хотя и очень хотел этого. (Разумеется, он собирался жениться совсем не для того, как об этом думал я. Этого у него со своей девушкой хватало и до женитьбы.)
У итальянского парня не было работы, не было денег. Он был пролетарий, жил на чердаке какого-то облупленного дома, ходил по улицам, сплошь завешанным бельем на веревках, и вообще было непонятно, почему он до сих нор еще не умер от голода.
У него ничего не было, у этого нищего итальянского парня. Зато у него было огромное сердце – во весь экран. И он любил свою девушку как хотел – на всю ширину экрана. Из них прямо искры сыпались, когда они встречали друг друга.
А я только гладил ее по руке в последнем ряду на последнем сеансе, да еще целовался с ней в темном подъезде ее дома.
Да и то это было в лучшие времена, еще до той осени, когда она сказала мне, что собирается выходить замуж.
После кино мы долго бродили по улицам. Она ничего не говорила и не уходила. И я тоже больше ни о чем не спрашивал у нее и тоже не уходил.
Где-то в середине дня мы неожиданно оказались около зоопарка.
– Зайдем? – не глядя на меня, спросила она.
– Зайдем, – согласился я.
Когда-то мы часто ходили с ней сюда. В зоопарке всегда было полно билетов, и здесь всегда было интересно, не хуже, чем в кино или в цирке. Особенно тогда, когда была хорошая погода и все звери вылезали из своих клеток погреться и подурачиться на солнышке.
Больше всего мы любили с ней стоять возле площадки молодняка. Я заметил, что сюда подходили в основном дети со своими папами и мамами и парочки – вроде нас с ней.
Главными героями всегда были, конечно, медвежата. Они потешали публику по нескольку часов подряд. То они ходили в обнимку по всей площадке, то, как ленивые борцы, подолгу стояли на задних лапах, упираясь друг в друга передними, хитровато поглядывая на публику, то вдруг переходили в «партер» и яростно катались в пыли, а потом садились перед зрителями и вытягивали перед собой лапы, прося разнообразить их медвежачье меню чем-нибудь необычным и, разумеется, сладким.
Глядя на медвежат, она заливалась всегда таким громким и неудержимым хохотом, каким не смеялись даже самые маленькие посетители зоопарка. Ока брала меня под руку и, уткнувшись лицом в мое плечо, вся тряслась от переполнявшего ее безоблачного детского веселья.
И это безоблачное детское веселье счастливыми, невидимыми волнами всегда почти физически доходило до моего сердца, и, не глядя на нее, я снова видел ее серые, вспыхивающие блестками радостных слез глаза, и снова мое сердце до краев было наполнено тем восторженным удивлением, которое возникает всякий раз, когда видишь, как при ярком солнечном свете падают с голубого неба на зеленую землю теплые стрелы неожиданного летнего дождя.
Я снова отчетливо слышал соломенный запах ее волос, земной и горький, как июльское сено, и снова хотел найти губами ее губы, нежные и трепетные, как крылья далекой, непойманной бабочки.
Мы ходили с ней по всему зоопарку, острили, дурачились, покупали горячие, усеянные веснушками мака бублики, кормили через невысокий вольер коренастых уток на берегу большого озера, катались по кругу под звон бубенчиков на гривастых коньках-горбунках, умирали со смеху в обезьяннике, где за толстыми стеклами вконец обнаглевшие человекообразные яростно колотили ложками в дно жестяных тарелок, требуя еды, а может быть, заодно и зрелищ…
Нам было так хорошо с ней вдвоем в зоопарке, где никто и ничего от нас не требовал, никуда не посылал и ниоткуда не вызывал, что мы иногда проводили здесь целые дни, и нередко, придя рано утром, чуть ли не первыми, уходили последними, только перед самым закрытием.
К вечеру, когда начинало смеркаться, когда удлинялись тени и солнце застревало в телевизионных антеннах на крыше соседнего дома, мы садились с ней на открытую террасу маленького летнего кафе и надолго погружались в состояние молчаливой и неподвижной внутренней близости.
На озере кричали пеликаны, белые лебеди, выйдя на берег, провожали минувший день взмахами крыльев, низко над водой пролетали утки, и сквозь утихающее птичье щебетанье доносился дремотный львиный рык. Было тепло, по-весеннему бесцельно, по-студенчески беззаботно. Мы знали, что завтра снова будут занятия – лекции, семинары, зачеты, что завтрашний день снова будет принадлежать не нам, и поэтому сегодня старались все делать только по-своему, так, как хотелось только нам и никому другому. Мы не разговаривали, а просто думали друг о друге, и каждый пытался представить наши будущие отношения такими, какими ему бы хотелось их видеть.
Но все это было давно, весной, ранней весной, когда долго не темнеет и тепло даже поздно вечером. А сейчас была осень, поздняя осень, когда рано приходят сумерки, когда иней серебрит привядшую траву и тонкий лед затягивает воду, оставшуюся после дождя в человеческих следах на земле. Все это (и молчаливая близость, и понимание друг друга на расстоянии) было весной, когда она еще не уезжала на практику, а теперь уже прошло три месяца, как она приехала, Три месяца уже прошло с того дня, когда она сказала мне, что выходит замуж.
И сегодня утром, в шесть часов, она позвонила мне со станции метро «Динамо» и попросила приехать туда, где совсем неподалеку жил он.
И я приехал…
Было пустынно и грустно около невысокого длинного вольера, окружавшего большое озеро, и на самом большом озере, и около площадки молодняка, и на кругу, по которому еще совсем недавно бегали норовистые коньки-горбунки. Не было видно ни уток, ни селезней, ни белых, ни черных лебедей. Не кричали пеликаны. Не доносился львиный рык. Не покачивал ушами возле своей бетонированной хижины большой старый добрый слон.
Было закрыто наше кафе, и не продавали в зоопарке душистые, теплые, усеянные веснушками мака хрустящие бублики.
Мы медленно и молча шли по аллее хищников. Почти все клетки были пусты, от них веяло каким-то всеобщим исчезновением, падежом, эпидемией, и только в одной, прижавшись лобастой головой к железным прутьям решетки, сидел крупный задумчивый волк. Он пристально и с интересом смотрел на нас, когда мы подходили к нему, и, неторопливо повернув голову, проводил нас долгим, внимательным, немигающим взглядом, в котором не было ни тоски, ни уныния, ни тяжести одиночного плена, а была только твердая, сосредоточенная готовность к ежеминутному мщению и неизмеримая, все запоминающая и ничего не прощающая бездонная звериная глубина.
Мы подошли к террариуму земноводных. У входа в большом бараньем тулупе дремала старушка-контролерша. Мы прошли мимо нее – она не проснулась. Гулкие шаги по каменной лестнице обгоняли нас. Эхо торопилось предупредить кого-то о нашем приближении, но в террариуме никого не было, и эхо, сделав по кольцевому коридору круг, возвращалось к нам притихшим и ослабевшим, будто прося прощения за совершенное предательство, за то, что опередило нас.
Мы молча шли мимо огромных безводных аквариумов, освещенных изнутри соломенным тропическим светом, в которых, свернувшись мускулистыми кольцами, похожие на затаившиеся пружины, лежали молодые неунывающие змеи, мимо широких прозрачных витрин, за которыми, разбросав в стороны передние и задние лапы и неподвижно припав к боковым стенам, слепленным из обломков скал, будто распятые миллионами каменных и бронзовых веков, таинственно замерли зубчатоголовые ящерицы, храня под своими окаменевшими панцирями древние тайны земли – тайны возникновения жизни, любви, ненависти, радости, печали, одиночества.
Мы шли мимо больших, светящихся в темноте стеклянных клеток, в которых было остановлено время, в которых жизнь была представлена такой, какой она была миллиарды лет назад, когда по неостывшей еще планете в образе огромных самодовольных гадов ползали необузданные чешуйчатые инстинкты, когда не сыскать было на Земле ни крупинки разума, ни крупинки слабости, ни крупинки доброты и человечности.
В этих больших, светящихся в темноте стеклянных клетках было заключено неистребимо дремучее начало жизни, то самое начало, которое извечно сопротивлялось движению жизни вперед, которое, возникнув на Земле миллионы тысячелетий назад, так и не изменилось, так и дожило до наших дней в своей окаменевшей первозданности, на которое ничто не повлияло, которое ничто не сломило, которому ничто не помогло, которое осталось глухо к истории Земли и не пошло вперед ни по одному из многих путей развития жизни, которое было самым отсталым, самым косным, самым ничтожным, самым неподдающимся всеобщему закону изменения и улучшения, которое так и не сумело выпрямиться, подняться с земли, встать на ноги, которое так и осталось в жизни наиболее чешуйчатым, наиболее примитивным, наиболее инстинктивным и пресмыкающимся началом.
…Она остановилась около аквариума с черепахами. Желтый искусственный свет однообразно освещал сухое песчаное дно, по которому были разбросаны серые осколки булыжников. В одном месте эти булыжники, аккуратно расколотые пополам, были навалены кучей, и эта куча при ближайшем рассмотрении оказалась самими черепахами. Они беспорядочно валялись друг на друге – ленивые и жалкие в своих абсолютно не нужных им панцирях-веригах, и только одна, очевидно самая молодая и не успевшая еще пресытиться безбедным житьем под искусственным солнцем, покинула свою предающуюся неподвижной вакханалии «компанию» и подползла к переднему стеклу аквариума.
Напряженно вытягивая змеиную безволосую голову, черепаха стала медленно перебирать передними лапами по стеклу, пытаясь встать на задние, но тяжесть панциря потянула ее назад, и она опрокинулась и, упав на спину, отчаянно засучила беспомощно торчащими из-под панциря ногами.
Она вдруг резко отвернулась от витрины и в упор посмотрела на меня.
– Зачем ты сбил его вчера? – тихо спросила она.
Черепаха, лежа на спине, продолжала беспомощно шевелить ногами.
– Зачем ты сбил его вчера? – спросила она громче.
Черепахе удалось доползти на спине до ближайшего камня, она оперлась об него сначала боком, потом одной лапой, второй, но перевернуться и встать на ноги ей пока не удавалось, несмотря на все отчаянные усилия. Тяжесть костяного панциря неумолимо притягивала ее спиной к земле, заставляла корчиться, извиваться, мучиться.
– Зачем ты сбил его вчера? – спросила она очень громко, и в голосе ее мне послышалось не то удивление, не то страх, а может быть, и то и другое вместе.
Я молчал. Я был сегодня рядом с ней почти с шести часов утра. Она попросила меня сегодня утром приехать к метро «Динамо», туда, где совсем рядом жил он, – я приехал. Она попросила меня отвезти ее в ресторан – я отвез. Она захотела в кино – я пошел с ней в кино. Она захотела в зоопарк – я пошел в зоопарк. Я был с ней сегодня рядом почти целый день.
Я и сейчас стоял рядом с ней: всего в двух шагах. Но я молчал. Я мог быть с ней сегодня рядом целый день, целые сутки. Но разговаривать с ней я не мог.
– Зачем ты сбил его? Зачем? – вдруг закричала она и, прижав руки к груди, шагнула ко мне. – Почему ты молчишь? Почему?!
Я молчал.
И тогда она заплакала, закрыла лицо руками и, ссутулившись, сгорбившись, пошла в полумраке террариума к выходу, пошла вдоль светящихся в темноте стеклянных клеток, в которых были распяты на стенах неподвижные зубчатоголовые ящерицы, вдоль ярко освещенных желтым соломенным светом витрин, за которыми жили молодые неунывающие змеи и всякие другие земноводные и пресмыкающиеся со старательно выпученными, но ничего не понимающими глазами.
А перевернутая черепаха так и осталась лежать на спине, усталая и беспомощная, побежденная своим тяжелым костным панцирем, израсходовавшая весь запас своих скудных сил на то, чтобы встать, чтобы снова оказаться на ногах, но так ничего и не добившаяся.
Когда мы вышли из зоопарка, было уже совсем темно. Выпавший накануне ночью первый снег был уже весь затоптан и постепенно умирал под ногами прохожих. Хлюпала слякоть, в лужах дрожал оранжевый расплывчатый свет фонарей, и из-под колес проходивших мимо машин летели на тротуар фонтанчики грязной воды.
Она повернула направо, я пошел за ней, и мы медленно, не говоря опять друг другу ни слова, стали подниматься вверх по Большой Грузинской.
Навстречу нам, вдоль трамвайных путей, бежали мутные ручейки растаявшего снега. Люди шли, высоко поднимая ноги, обходя наспех собранные дворниками грязные сугробы, ругая изменчивую погоду и непостоянный климат.
Мы прошли Большую Грузинскую, свернули на Брестскую, пересекли площадь Белорусского вокзала. Мы шли молча, не говоря друг другу, как это было весь сегодняшний день, ни слова, думая каждый о своем. И только тогда, когда мы спустились с моста и оказались в правом скверике Ленинградского шоссе и она, не останавливаясь, пошла дальше, я понял, что она идет к стадиону «Динамо».
Я вышел вперед и загородил ей дорогу. Она остановилась и, не вынимая рук из карманов пальто, хмуро, почти враждебно посмотрела на меня.
– Куда ты идешь? – спросил я, не глядя на нее.
Она молчала.
– Куда ты идешь? – спросил я, все еще не глядя на нее, но чувствуя, как неудержимо тянет меня посмотреть ей прямо в глаза.
По обеим сторонам скверика неслись в разные стороны забрызганные мокрым снегом машины. Над площадью Белорусского вокзала вспыхивали и гасли красно-зеленые призывные рекламы:
«Пейте свежее жигулевское пиво!
Вызывайте такси на дом!
Покупайте горячие свиные сосиски!
Черноморское побережье – лучшее место для летнего отдыха!..»
– Куда ты идешь? – спросил я громко и посмотрел на нее.
И я увидел в ее глазах острую бородку-клинышек.
– Вечер вопросов без ответов, – сказала она и усмехнулась. – Пропусти меня, пожалуйста.
Я не сдвинулся с места. Она обошла меня и снова пошла в сторону стадиона «Динамо».
Я стоял, не оборачиваясь, спиной к ней. Над площадью Белорусского вокзала продолжали прыгать красно-зеленые буквы рекламы. «Пейте свежее жигулевское пиво…»
Ах, как все это замечательно! Выпил кружку свежего пива, закусил горячей сосиской, вызвал такси и поехал на черноморское побережье проводить летний отпуск…
Что же мне все-таки делать? Догонять ее? Плюнуть и уйти? Но я же люблю ее, люблю, а она идет к другому.
Я обернулся. Она уходила от меня по длинному аккуратному скверику между тяжелыми чугунными скамейками. Она приближалась к стадиону «Динамо». Наплевать. Пусть идет. Пусть идет к своему научному руководителю. Забыть ее. Навсегда забыть ее имя, ее глаза, волосы, фигуру, походку. Вырвать из памяти. Сжечь. Растоптать. Развеять.
Будь ты проклята. (Только не идти за ней.) Во веки веков. (Только не идти за ней.) Я никогда не вспомню о тебе, никогда даже не подумаю о тебе. (Только не идти за ней.) Ты еще пожалеешь об этом, ты еще будешь просить у меня прощения, еще будешь умолять меня. (Только не идти за ней.) Никогда я не пойду за тобой, никогда мне не нравились ни твое лицо, ни твоя фигура, ни твоя походка…
Я догнал ее. Она даже не взглянула на меня. Она быстро шла вперед, засунув руки в карманы пальто.
– Почему ты идешь к нему?
Она молчала.
– Почему ты идешь к нему?
Она молчала.
– Почему ты позвонила мне утром?
Она остановилась. Она посмотрела на меня. И я вдруг увидел, что она старше меня. На целых двенадцать лет. Весь день она была одного со мной возраста, а к вечеру она стала старше.
Вдруг я понял, что она целый день ждала от меня чего-то. Но чего? Зачем она позвонила мне? Может быть, она просто прощалась со мной и со всем тем, что было у нас?
– Я не пущу тебя! – сказал я.
– Дурак, – сказала она.
– Ты не пойдешь к нему! – сказал я.
– Дурак, – сказала она.
– Не пущу, слышишь?!
– Дурачок, – сказала она.
– Не пущу, – сказал я.
– Отойди, – сказала она.
Я знал, что мне нужно ударить ее. Именно сейчас. Но женщин нельзя, бить. Нельзя бить женщин, детей и животных. Так нас учили еще в школе.
– Наташа, не ходи к нему, – сказал я, первый раз за день называя ее по имени.
Она дотронулась указательным пальцем до пуговицы на моем пальто.
– Иди, – сказала она. – Я позвоню тебе…
И она опять ушла от меня по аккуратному скверику на Ленинградском шоссе между тяжелыми чугунными скамейками.
Я подождал немного, а потом, перейдя на другую сторону улицы, пошел следом за ней. Я старался идти так, чтобы она не увидела меня, но она так ни разу и не оглянулась за все время, пока шла до северных трибун стадиона «Динамо».
Потом она повернула направо, налево, снова направо. Я шел за ней следом и тоже поворачивал направо, налево и снова направо.
Она подошла к его дому, остановилась около его подъезда, подняла вверх голову и посмотрела на его окна.
В его окнах горел свет.
И так ни разу и не оглянувшись, она вошла в подъезд его дома.
Я слышал, как захлопнулись двери лифта, видел, как поднималась освещенная кабинка от одного темного окна к другому, слышал, как лифт остановился на третьем этаже, как она вышла, и как еще раз хлопнула железная дверь, и как, постояв несколько секунд на площадке, она позвонила около дверей его квартиры.
Щелкнул замок, дверь отворилась, кто-то что-то сказал, кто-то засмеялся, снова щелкнул замок, и входная дверь его квартиры закрылась. Захлопнулась.
Прижавшись спиной к забору, я стоял на противоположной стороне улицы и смотрел на окна его квартиры. Окон было четыре – в двух правых горел розовый свет, в двух левых – зеленый. На всех четырех окнах висели шторы: на двух правых – желтые с красным, на двух левых – желтые с голубым. На втором слева окне был прикреплен градусник, а на самом крайнем справа была подвешена снаружи сумка с продуктами и бутылками. Рядом проходила водосточная труба, и мне почему-то захотелось влезть по ней до третьего этажа и срезать сумку чем-нибудь острым, ножом или бритвой.
Сначала за шторами ничего не было видно, только горел свет – справа зеленый, а слева розовый. Потом стали появляться и исчезать тени, и заиграла музыка. Я смотрел на красно-желто-голубые шторы, и воображение щедро подсказывало мне то, чего на самом деле, возможно, и не было. Иногда я начинал шарить глазами вокруг себя по темному двору, стараясь найти на земле какой-нибудь камень или обломок кирпича, но потом эта вспышка проходила, и я снова отыскивал в мозаике ярко освещенных окон свои цветастые шторы и продолжал смотреть на них.
Что происходило за ними? Какие произносились слова? Почему они там, наверху, вдвоем, а я здесь один? Почему она все-таки ушла? Почему она позвонила мне утром, а вечером ушла?
Не могу сказать, что уже тогда, глядя на окна его квартиры, я имел уже те ответы на все эти вопросы, которые имею сейчас. Но я помню совершенно отчетливо, как уже тогда, сквозь уязвленное самолюбие, через чувственное отношение к случившемуся ко мне неотвратимо шло рациональное, разумное понимание всего происшедшего. Смутно начинал я догадываться о том, что во всем случившемся в тот день виновата не только она, но и я сам, что я чего-то не сделал, чего-то не совершил, до окончательного, действенного понимания чего-то так и не поднялся в тот день. И поэтому я стоял один, внизу, а он, хотя и сбитый накануне мною с ног, хотя и бывший слабее меня физически, был наверху, с ней.
Головой я понимал все, головой я, может быть, даже прощал и оправдывал ее, но сердцем я простить ее не мог, сердцем я считал ее виноватой, обманувшей меня, предавшей меня. Она позвонила мне утром, и я приехал, хотя мог и не приезжать. Целый день я был добр к ней, выполнял все ее желания. Я поступал по общепринятым нормам снисходительного отношения к женщине, как делали это все литературные герои, которых мы проходили в школе.
А что я получил за это?
Нет, тогда еще я верил, что добро и справедливость и без моих к тому усилий должны торжествовать и благоденствовать повсеместно, что это торжество обеспечено мне чем-то свыше, чем-то раз и навсегда заведенным и установленным, что даже в чувствах и личных отношениях мне стоит только соблюдать неписаный статус неких общечеловеческих добродетелей, и я могу почти автоматически рассчитывать на безоблачную взаимность и счастливую разделенность.
Нет, тогда я гнал от себя все рациональное и хотел видеть виноватой во всем только ее.
Я помню, как, растревоженный, растасканный в разные стороны и опустошенный этими новыми трезвыми мыслями, я ощутил себя в тот вечер стоящим на краю какой-то неведомой мне до сих пор, незнакомой, затягивающей пропасти, со дна которой веяло первобытным каменным холодом сводчатых пещер террариума земноводных, в котором мы были сегодня с ней и из которого она выбежала плача, закрыв лицо руками.
Будто что-то кончалось в моей жизни, серебристое и солнечное, а что-то новое, гнетущее, свинцово-тяжелое, еще не начиналось, а только подступало, накатывало; будто обрывалась на краю этой пропасти какая-то старая, мягкая, бежавшая среди трав и цветов тропинка, а новая, жесткая, каменистая дорога, по которой идти было дальше, лежала на другой стороне, за пропастью, и чтобы добраться до нее, нужно было совершить непосильный еще для меня прыжок через всю эту пропасть, через всю эту улицу, отделявшую меня от его дома, от его цветастых штор, – прыжок к рациональному, расчетливому, свинцовому, умудренному.
Этот прыжок нужен был мне как хлеб, как воздух, как пища, как дождь зеленому ростку, впервые и неожиданно для себя оказавшемуся на поверхности земли.
Но как мне не хотелось делать этот прыжок!
Я закрыл глаза. Я хотел вспомнить что-нибудь. Что-нибудь. Что-нибудь другое – далекое и приятное. Я хотел отогнать воспоминаниями все те новые мысли и ощущения, которые лишали меня привычных представлений о жизни, которые делали воздух вокруг меня разреженным, а землю под ногами – неустойчивой. Мне захотелось забыться, перенестись в другие миры и земли, в другие измерения; мне захотелось раствориться в прошлом – простом, понятном и желанном.
И я вспомнил, как однажды, летом прошлого года, мы провели с ней вместе, вот так же как и сегодня, целый день, и даже не один, а целых два, ясных, прозрачных, наполненных синевой с легкой солнечной беззаботностью, неповторимых дня.
Мы встретились в институте. Шла сессия, но у нее в тот день не было ни экзаменов, ни зачетов, и мы решили убежать куда-нибудь до самого вечера. (Свои занятия, когда можно было увидеть ее, я пропускал, не задумываясь.)
Мы доехали до улицы Горького, забрались в троллейбус, и, сидя у открытых окон друг за другом, отправились в Химки – загорать на водную станцию.
По дороге мы веселились, дурачились, играли в номера билетов и идущих навстречу автобусов, высунувшись из окон, здоровались на остановках с совершенно незнакомыми людьми, а потом вдруг раздумали ехать загорать на водную станцию, и, не вылезая из троллейбуса, покатили дальше, на Химкинский вокзал, – прошвырнуться на речном трамвайчике по каналу.
По обе стороны Ленинградского шоссе веселилось пестрое суматошное городское лето. Оно сгоняло под циферблаты больших часов на площадях сотни нетерпеливых молодых людей, ставило на высокие их каблуки всех граждан женского пола, невзирая на возраст и внешний вид, оно отправляло в путешествие по воздуху миллионы будущих тополиных жизней, как бы напоминая о том, что пришло время серьезных сердечных решений и тянуть дальше с этим ответственным делом никак нельзя.
Лето перекрасило город в зеленый цвет – изначальный, истинный цвет жизни. Теплый ветер прыгал на бульварах, с дерева на дерево, кружил головы березам и кленам, а под ними на тяжелых чугунных скамейках сидели неподвижные, как изваяния, как памятники вечному и мудрому человеческому легкомыслию, строгие и задумчивые пары – он и она, он и она, он и она…
Одним словом, лето, едва приняв эстафетную палочку от весны, подмигивало со всех углов. Всюду по-прежнему было полно пухлых, совершенно раздетых мальчишек, которые без разбору стреляли в прохожих из луков своими «отравленными» стрелами, и горластые частные торговки, стоя возле заколоченных цветочных киосков, наперебой предлагали фиалки и ландыши нетерпеливым Ромео, которые после долгого стояния на площадях под циферблатами больших часов все-таки дождались своих непунктуальных Джульетт, опаздывающих на свидания, наверное, еще с тех времен, когда свидания назначались около часов солнечных.
(В тот день у меня было особое настроение. Может быть, обыкновенный человек, ехавший в троллейбусе по Ленинградскому шоссе, ничего похожего и не замечал, но я сидел рядом с ней и поэтому никак не мог не увидеть всего этого.)
…Мы приехали в Химкинский порт. Каменные серые стены речного вокзала выглядели на солнце какими-то особенно легкими и невесомыми. Радио разносило голос известного артиста, певшего о море в Гаграх и о пальмах в Гаграх. Почему-то было очень много молодых людей в белых брюках, и я впервые пожалел о том, что до сих пор не обзавелся такими же элегантными и арктически ослепительными белоснежными брюками.
Мы купили билеты, прошли через зал ожидания, и перед нами распахнулась в обе стороны широкая, пахнущая ракушками и водорослями гавань, золотисто-серебряная под прямыми лучами солнца.
У причалов стояли большие белые теплоходы, низко над водой пролетали чайки, и мы вдруг оба почувствовали приступ какого-то необъяснимо-беззаботного черноморского настроения, когда хочется долго сидеть около воды, бросать с берега камешки и смотреть, как неторопливо приходит к берегу и уходит обратно большое мудрое море.
Мы сбежали вниз по теплым каменным ступеням, прошли по зыбкому мостику на палубу, пароход радостно и протяжно закричал, и мы отплыли под тихий плеск волны навстречу молодому свежему ветру, навстречу хрупкой тишине, туда, где, образуя горизонт, вечно юная вода сливается с никогда не стареющим небом.
Я открыл глаза. Во всех четырех окнах его квартиры по-прежнему горел свет: в двух правых – розовый, в двух левых – зеленый. На всех четырех окнах по-прежнему висели шторы: на двух правых – желтые с красным, на двух левых – желтые с голубым. По-прежнему на втором слева окне был прикреплен градусник. И только на самом крайнем справа окне уже не была подвешена сумка с продуктами и бутылками.
«Плевать мне на то, для чего они понадобились, – подумал я. – Все равно он ничего не сумел отнять у меня. Все равно она со мной».
Я смотрел на его освещенные окна и не видел его освещенных окон. Ничего не было – ни дома, ни улицы, ни вечера, ни чужого темного двора. Я плыл по залитому солнцем водохранилищу – по широкой и доброй воде, плыл навстречу теплому ветру, навстречу белым чайкам и далеким зеленым лесам. Я стоял на палубе, на самом носу, рядом с флагом. И она стояла на палубе, рядом со мной, с флагом. И мне казалось, что мы никуда не движемся, что мы замерли на месте, остановились, а зеленые белоствольные берега сами плывут мимо нас, стараясь удивить нас своей мгновенной неповторимостью, заставляя нас с грустью поворачивать головы то в одну, то в другую сторону.
Леса сменялись рощами, рощи – полянами, поляны – полями, и снова тянулись леса, леса, леса, и казалось, что деревья, стоявшие около самой воды, растут не на земле, а прямо из воды. Вылетали из лесу, кружились над водой и снова улетали в лес молчаливые чайки. Хитрые вороны, перебиравшиеся по своим неотложным вороньим делам с одного берега на другой, сидели на бакенах и отдыхали, покачиваясь на волнах, идущих от нашего теплохода. Груженные вровень с капитанскими мостиками, проходили по бортам самоходные баржи, чумазые, коренастые буксиры тянули за собой длинные связки плотов, на которых висели над кострами котелки, сушилось на веревках белье, играли на гитаре, пили водку, бегала и лаяла собака; парусники и яхты, кокетливо склонившись набок, пересекали нам наискосок дорогу, а с зеленых холмов бежали врассыпную к воде любопытные березы и, тронутые ветром, махали нам ветками, а если ветра не было – просто стояли на берегу и подолгу смотрели нам вслед.
Иногда близко к каналу подходил поезд, слышно было, как однообразно лязгают на стыках рельсов колеса, как гремят на ходу металлические части, как паровоз, если только поезд был не электрический, развешивая по верхушкам деревьев клочки белого дыма, обиженно пыхтит, утаскивая вагоны обратно в лес.
Были еще видны на берегах среди круглых шаров кустарника красные черепичные крыши домов, и серебристые оцинкованные, и тускло-серые шиферные. За ними, положив друг другу на плечи длинные руки проводов, стояли железные мачты высоковольтных передач, похожие на братьев-близнецов, а еще дальше, по невидимым шоссе и дорогам, катили горбатые «Победы», надменные «Волги» и пронырливые «Москвичи». Все они сбегались к мосту, который проходил над каналом в самом узком месте, там, где вставали на горизонте из воды аккуратные и почти игрушечные белые башенки первого шлюза.
Наш пароходик был совсем пустой, кроме нас и еще трех-четырех человек, на палубе никого не было, и когда нам надоело стоять впереди, мы пошли на корму. По дороге она остановилась возле спасательного круга, долго смотрела на него, потом дотронулась указательным пальцем до его шероховатой поверхности и посмотрела на меня.
– Ты умеешь плавать? – спросила она.
– Умею.
– Хорошо?
– Не знаю… Средне.
– А ты смог бы меня спасти, если бы я начала тонуть?
– Наверное, смог…
Мы спустились на нижнюю палубу и, перешагивая через клубки канатов и тросов, вышли к кормовой лебедке, около которой лежал на боку чугунный четырехлапый якорь.








