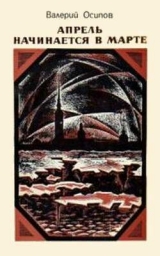
Текст книги "Серебристый грибной дождь"
Автор книги: Валерий Осипов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Валерий Дмитриевич Осипов
Серебристый грибной дождь
Повесть

Когда-то знавал я одну девочку, вернее, девушку. Была она похожа на цветок одуванчик, которого еще не коснулся ветер – вся легкая, светловолосая, с большими теплыми глазами и еще не женской, но уже совсем-совсем не девичьей фигурой.
В нее влюблялись подряд все ребята, которые знакомились с ней.
Бывают такие девушки – есть в них что-то такое, на что никак нельзя не обратить внимания.
Поначалу она была просто приветлива со мной и ничем не выделяла из компании своих обычных поклонников. Но я становился все настойчивее и настойчивее, и она в конце концов стала иногда разрешать мне провожать себя по вечерам домой.
Мы стояли с ней в темном подъезде ее дома, и я часами напролет шепотом рассказывал ей всякие веселые истории. Когда мимо нас проходили ее соседи, я замолкал и вплотную придвигался к ней, чтобы нас не заметили.
Затаив дыхание, мы стояли, прижавшись друг к другу, а соседи дышали мне в затылок и шаркали в темноте ногами, пытаясь найти ступеньки.
Потом соседи уходили, а я все продолжал стоять, прижавшись к ней, а она иногда сразу дотрагивалась до моего пальто своими белыми варежками и отодвигала меня от себя, а иногда делала это не сразу, и некоторое время я дышал запахом ее волос и видел перед собой ее настороженные и любопытные глаза, смотревшие на меня снизу вверх.
Однажды я поцеловал ее. Я стоял так близко от нее, так темно было в подъезде, так далеко от нас был город с его гудками машин и звонками трамваев, и так хорошо и непонятно пахли ее волосы, что я не выдержал и осторожно прикоснулся губами к ее щеке.
Она посмотрела на меня, потом закрыла глаза, опустила руки и вся потянулась ко мне, словно потеряла равновесие и искала опоры.
Я обнял ее, но она положила мне на грудь свои белые варежки, и в ее руках я почувствовал уже знакомый, но на этот раз какой-то мягкий, нерешительный, еле уловимый протест. И было во всем этом что-то новое, неожиданное, требующее разгадки.
Потом еще много-много раз мы стояли с ней в темном подъезде ее дома, и я уже больше не рассказывал ей веселых историй. Мы просто стояли рядом друг с другом и молча ждали того часа, когда закрывалась находящаяся неподалеку станция метро и последний сосед проходил в темноте мимо нас. Потом я поворачивался к ней, все так же молча расстегивал ее пальто, просовывал руки в теплую глубину за ее спиной, обнимал ее, чуть притягивал к себе и прижимался губами к ее губам.
И, закрыв глаза, мы медленно поднимались над землей, устремляясь куда-то за облака и еще дальше и выше, и долго-долго летали там, забыв обо всем, что было до нас, и не думая о том, что будет после нас, носимые и поддерживаемые в небесах какими-то невидимыми и теплыми потоками.
И всякий раз ее белые варежки лежали у меня на груди, словно карауля что-то, напоминая о чем-то, словно она старалась держать меня на какой-то одной ей известной и необходимой дистанции.
Мы стояли так, прижавшись, друг к другу по десять, пятнадцать, двадцать минут, а иногда и по целому часу.
Под моими руками была ее спина – ее молодая и податливая девичья спина. Иногда мои руки сами начинали двигаться по этой спине, но тогда белые варежки начинали танцевать у меня на груди, и я, притянутый было на мгновение вниз, к земле, тяжелой силой вечных земных законов, снова взмывал вверх, и мы снова парили с ней за облаками, в небесах, на высоте, недоступной действию этих тяжелых земных законов.
И мне ничего тогда не было нужно от нее, кроме соломенного запаха ее волос, земного и горького, как июльское сено, ничего, кроме ее губ, – нежных и трепетных, как крылья далекой, непойманной бабочки.
Мы целовались с ней иногда по три, а иногда и по четыре часа подряд. Мы стояли в подъезде ее дома, держа друг друга за руки, и я, глядя в ее серые, вспыхивающие блестками радостных слез глаза, совершенно отчетливо чувствовал, как где-то в глубине моего существа возникает то восторженное и радостное удивление, которое появляется всякий раз, когда видишь, как при ярком свете солнца падают с неба на землю теплые стрелы неожиданного летнего дождя.
И мне ничего тогда не было нужно от нее, кроме этих серых, влажных и доверчивых глаз, в которых я угадывал обещание чего-то единственно важного и необходимого мне в жизни.
Может быть, все это происходило потому, что мне было тогда всего двадцать лет.
Все кончилось просто и неожиданно. Весной она уехала на практику, все лето я не видел ее, а когда мы встретились осенью, она сказала мне, что выходит замуж.
Вскоре я познакомился и с ним. Он был на двенадцать лет старше меня, носил вызывающую бородку клинышком, был резок и смел в суждениях и имел ученую степень кандидата наук.
Над ней он все время подсмеивался, это ее злило, но тем не менее все видели, что она влюблена в него по уши. Когда он появлялся, она сразу переставала быть сама собой, начинала выкидывать разные никому не понятные штучки, громко смеялась и вообще разгоняла сразу всех своих поклонников. Может быть, она старалась казаться лучше или оригинальнее, чем была на самом деле, но у нее получалось все наоборот, и от этого она психовала и злилась еще больше.
Ко мне он против всех ожиданий отнесся необычно серьезно и дружественно. После двух-трех разговоров с ним я услышал от своих знакомых, что он назвал меня вполне современным парнем.
Несмотря на разницу в возрасте, он каждый раз при встрече заводил со мной умные разговоры о кризисе квантовой механики, о синтезе белка, о последних достижениях математической логики и т. д. Когда нам случалось быть где-нибудь втроем, он всегда держал мою сторону и всячески подчеркивал, что мы (я и он), мужчины, – это одно, а вы (она), женщины, – это нечто совсем другое, менее ценное и значительное.
Меня это раздражало, и я видел, что это раздражает и ее, но он всегда умел находить такие слова, что мы сами потом смеялись над своим раздражением и соглашались со всеми его мнениями и оценками. Любое явление, любой самый незначительный пустяк он быстро и уверенно раскладывал на составные части, выделял главные, исключающие друг друга стороны, и с шуточками-прибауточками доказывал, что предпочитать что-либо одно нелепо, так как такое предпочтение означает непонимание существа и процессов жизни, особенно позорное при современном уровне аналитической мысли.
Он был для нас обоих чем-то вроде лицейского дядьки, первым «экскурсоводом» по еще недоступному нашему пониманию сложному лабиринту жизни.
И, говоря откровенно, я завидовал ему. Я не выделял из его характера какой-либо одной черты, которую бы мне хотелось иметь. Он мне нравился весь, нравился до тех пор, пока я не начинал думать о ней. Когда в мои мысли о нем приходила она, я начинал ненавидеть его.
В отношениях со мной он только один раз допустил ошибку, которая сразу же все определила.
Все трое мы учились в одном институте (вернее, учились только я и она, а он был преподавателем ее факультета, руководителем ее практики), и все трое мы страстно увлекались баскетболом. Однажды, когда на первенстве института встречались команды наших факультетов, он решил «зажать» меня, то есть, говоря языком спортивным, дать мне забросить в корзину его команды как можно меньше мячей.
Но он был любителем, а я тренировался в студенческой команде мастеров, и, кроме того, я был выше ростом и физически сильнее его. Я обыгрывал его во всех положениях – и в бросках с места, и в проходах по краям, и в прыжках под корзиной. Счет неудержимо рос в пользу нашей команды.
И тогда он решил «прихватить» меня, то есть нанести мне легкую травму, чтобы ему было легче справляться со мной в игре. Кто-то из нашей команды бросил мяч по их корзине, мяч отскочил от щита, и мы оба прыгнули за ним. В прыжке, делая вид, что тянется за мячом, он схватил всей кистью мой правый большой палец и резко вывернул его.
Мяч, конечно, достался ему, а у меня в глазах потемнело от боли. Вспышку гнева и знакомое каждому спортсмену желание немедленно отомстить я подавил. Я знал, что на трибунах сидит она, и никак не мог разрешить себе быть хуже его, хотя бы в спорте – единственной области, где я сохранял преимущество.
Я просто стал играть еще лучше. Минуты за три я забросил подряд пять мячей. Болельщики с нашего факультета восторженно вопили и скандировали мое имя. Я видел, как он медленно теряет власть над своими чувствами, и это подзадоривало меня, и я играл ещё напористее и точнее.
Наконец, нервы его не выдержали. Выбрав момент, он не то чтобы еще раз «прихватил» меня, а просто «снес» меня, применив такую штуку, после которой пострадавшего игрока или уносят с поля на носилках, или увозят на скорой помощи.
Теперь, вспоминая об этом, я пытаюсь понять причины, толкнувшие его на такой поступок. Он привык к тому, что я проигрывал ему во всем и не допускал даже мысли о том, что я хоть как-то могу поколебать его превосходство. Он хотел абсолютной победы надо мной, и в этом, наверное, и была его ошибка.
Он тоже знал, что она сидит на трибуне. И хотя она и так была влюблена в него по уши, и хотя она и так ловила каждое его слово (после практики он стал ее научным руководителем), он захотел доказать, что и в спорте он лучше меня. Он захотел ликвидировать мое единственное преимущество, он захотел «добить» меня до конца. И это была типичная ошибка сильного, который хочет быть еще сильнее, который хочет иметь больше того, что уже имеет.
В борьбе за мяч под кольцом их команды я прыгнул очень высоко, последним усилием достал кончиками пальцев мяч и этаким волейбольным пасом, одной рукой доиграл мяч в корзину. (В это время под их кольцом было много игроков. Вместе со мной прыгало еще несколько человек, но до мяча дотянулся только я один.)
В момент прыжка он находился рядом со мной. Но когда я взвился вверх, он остался стоять на земле. И вот тогда, когда, потеряв поступательную инерцию вверх, я стал опускаться, он дотронулся плечом до моих ног и отвел их немного в сторону. Он сделал то, что в спорте называется «подсечкой», или «подсадкой».
Центр тяжести моего тела изменился, и вместо того чтобы приземлиться, как обычно, на ноги, я рухнул на пол предплечьем и головой.
Потом мне рассказывали, что, когда голова моя ударилась об пол, раздался такой звук, что все находившиеся в зале мгновенно замолчали. Было такое впечатление, будто голова моя раскололась пополам. Стало тихо-тихо, все затаили дыхание, и только один женский голос слабо вскрикнул:
– Ой…
И я услышал этот голос. И я узнал – чей это был голос.
По всем законам медицины после такого падения я должен был остаться лежать на полу. У меня просто не должно было сохраниться после такого удара головой никаких сил, чтобы подняться с пола.
Но я тем не менее поднялся. Может быть, потому, что в зале сидела она. А может быть, потому, что мне было тогда только двадцать лет.
Я снова вступил в игру, но играть мне было мучительно трудно, левая рука моя почти не действовала, а в голове шумело, и, конечно, если бы не она, я ушел бы с поля. И хотя болельщики с нашего факультета кричали мне что-то о высоких спортивных «материях», руководствуясь которыми я якобы нашел силы в себе продолжать игру, – честное слово, если бы я не чувствовал на себе ее взгляда, я бы не нашел в себе этих сил.
Вскоре окончилась первая половина игры, и мы пошли отдыхать. В перерыве ко мне подошла врач и, осмотрев, меня, очень удивилась тому, что у меня нет сотрясения мозга.
А потом я увидел ее. Она стояла неподалеку от нашей раздевалки и, когда мы выходили на второй тайм, посмотрела на меня очень внимательно, и в ее взгляде я уловил жалость.
А она пожалела меня, и это определило все дальнейшее, хотя какое еще другое чувство могло быть у нее в ту минуту ко мне, кроме обыкновенной женской жалости? Ведь не могла же она отгадать мои мысли на расстоянии, не могла без слов понять того, чего мне тогда так хотелось от нее.
Ведь она собиралась выходить замуж не за меня, а за другого.
С первых же секунд второго тайма он начал играть как победитель. Все, что удавалось в первой половине игры мне, теперь удавалось ему. Он переигрывал меня и на краях и в центре. Он выше меня прыгал, быстрее бегал, точнее бросал мяч в корзину. Он активно реализовывал свою «подсечку», и счет теперь неуклонно рос в пользу их команды.
Он видел, что мне тяжело «держать» его. Я не допускал тогда мысли о том, что он подсек меня специально для того, чтобы ему было легче играть против меня в нападении. Просто он был любитель, а я тренировался в команде мастеров, и когда он увидел, что их факультет проигрывает, что он проигрывает мне на глазах у нее, он, в азарте игры, решился на запрещенный прием, так как у него больше не было никаких средств, чтобы изменить ход игры, а проигрывать команде, за которую играл я, ему не хотелось. Он просто не привык проигрывать мне ни в чем.
Не думал я тогда и о том, что он хотел, чтобы я ударился именно так сильно. Я думал, что он просто решил чуть поохладить мой наступательный пыл, сравнять наши неравные возможности, сделать себя сильнее в защите от меня, но не в нападении против меня.
Но тем не менее, когда я так упал, когда все было за то, что я не смогу продолжать игру, а я все-таки снова вступил в нее, он воспользовался моей слабостью именно в нападении против меня. Если бы он удовлетворился только тем, что я стал играть хуже в нападении, если бы он ограничился во втором тайме только защитой против меня (что сделать ему теперь было не так уж и трудно), возможно, ничего бы и не произошло.
Но он перешел в наступление. Он нападал. Он переигрывал меня в нападении только потому, что я был слабее его из-за травмы, виновником которой был он. Он не делал мне, слабому, никакого снисхождения. Он упивался своим успехом. Он забыл о том, что разница в наших силах была в ту минуту временная, а не постоянная. Он просто добивал меня, не думая ни о чем, наслаждаясь своим преимуществом надо мной.
И, как ни странно, его успехи постепенно возвращали мне силы. Древнее, может быть одно из самых древних человеческих чувств, – чувство протеста против несправедливо завоеванного превосходства медленно просыпалось во мне.
И еще я помнил ее взгляд, когда мы выходили на второй тайм из раздевалки. Женский взгляд, полный жалости к поверженному претенденту, тот самый взгляд, в котором жалость является не чем иным, как продолжением восторга перед победителем, только ничтожной долей человечности в огромной, единой вспышке инстинктивного преклонения перед сильнейшим.
Нет, я не хотел тогда быть ниже ее жалости. Я вошел в игру, азарт борьбы укреплял во мне чувство протеста против его успехов, купленных ценой моего падения. Будучи слабым, будучи тем, кого добивают, не учитывая никаких обстоятельств, будучи в ее глазах только поверженным претендентом, я в момент исполнения им какого-то особо красивого и точного броска в нашу корзину испытал резкую, как удар молнии, потребность в немедленном удовлетворении своего протеста. Я почувствовал, что не смогу больше ни одной секунды смотреть на него, если мгновенно не переведу ее жалость с себя на него.
И я «снес» его, и не так, как он меня, а сильнее, «смертельнее», на полном ходу, по всем правилам жестокой и почти профессиональной игры, из которой любителю по неписаным законам большого спорта нельзя брать ни одного запрещенного приема, не испытав его сначала на своей собственной шкуре.
Он быстро двигался «дриблингом» к нашему кольцу – вел мяч, ударяя его об пол. Около него было несколько игроков. Я на ходу вошел в их группу и ударил его плечом. Он не обратил на меня никакого внимания. Он весь был во власти азарта, во власти превосходства надо мной. И тогда я начал двигаться рядом с ним, стараясь поставить свою правую ногу как можно ближе к его левой ноге.
И когда это удалось, я сделал своей правой ногой такое движение, которое делают, танцуя чарльстон: поставил ногу на носок и одновременно резко повернул пятку вправо.
Моя пятка задела его левую ногу, и его левая нога пошла не так, как обычно идет нога у бегущего человека – вперед, а в сторону и зацепилась за его правую ногу.
И на полном ходу, потеряв мяч, он врезался головой в железные стойки гимнастических брусьев, стоявших неподалеку от края баскетбольного поля.
Он ударился о брусья с таким звуком, с каким сталкиваются на улице два грузовика. Весь зал снова вскочил на ноги. Снова стало тихо-тихо. И когда по его лицу медленно покатилась струйка крови, обрушился такой крик и шум, который трудно себе даже представить.
Игроки его команды бросились ко мне, но наши ребята стеной встали возле меня. Держа за руки игроков его команды, наши ребята окружили меня плотным кольцом, никого не подпуская ко мне. А по полю уже бежали болельщики с его факультета. Но и наши болельщики тоже сорвались со своих мест и тоже бежали через поле к нам.
Он лежал под брусьями, а по обе стороны брусьев стеной встали обе наши команды, и за спинами игроков – человек по пятьдесят болельщиков с каждого факультета. И все молчали. Никто не говорил ни слова. Все знали о наших с ним отношениях и о том, что стояло между нами. Все видели, как он подсек меня в первом тайме (он сделал это «чисто»– судьям не за что было его даже наказывать). Все слышали, как я ударился головой об пол, все понимали, что после такого удара у меня не оставалось никаких шансов, чтобы встать.
Но я все-таки встал. Я не жаловался судьям. Я просто взял и встал. А теперь вставать была его очередь.
Но он так и не встал. Может быть, потому, что он был на двенадцать лет старше меня.
И когда стало ясно, что он не встанет, что он потерял сознание, когда игроки его команды подняли его на руки, чтобы вынести из зала, сквозь толпу болельщиков протиснулась она.
Она попросила снова опустить его на пол, приподняла его голову, положила ее к себе на колени, достала платок и медленным, осторожным движением вытерла кровь с его рассеченной брови. Потом она подняла свои большие серые глаза и посмотрела на меня.
Ах, какой это был взгляд! Не забыть мне его, наверное, до конца своей жизни.
Все в нем было, в этом взгляде, все, из чего веками лепилось женское естество во всей своей сложности и загадочности. Напряженно вглядывалась она в мое лицо, пытаясь понять, почему я сделал это, почему я, нелюбимый, поднял руку на него, любимого, на ее бога, почему сделал то, что было так непонятно ей, чего ей так не хотелось.
Все было в ее взгляде, кроме одного. Того, что так хотелось увидеть мне. Не было в ее взгляде жалости к нему. Была скорбь, грусть, печаль, недоумение, а жалости не было.
И я понял, что я проиграл свою партию с ней. Я напрасно «снес» его, я напрасно защищался! Их было двое, а я один, и моя карта была бита с самого начала. Даже теперь, когда он лежал окровавленный под брусьями и не мог встать, она продолжала жалеть только одного меня.
Его унесли. Толпа болельщиков провожала его, как героя. И хотя мне, когда я, как в тумане, с трудом поднимался на ноги в первом тайме, тоже что-то кричали с трибун восторженные болельщики, героем дня был он, а не я. Его уносили с поля, а я встал сам. Он выложился весь, до последней капли, а у меня оставались силы, чтобы самому подняться на ноги.
Его унесли в раздевалку, и она тоже ушла, идя рядом с ним и поддерживая рукой его голову.
Судьи прервали нашу встречу, и так как счет «к моменту столкновения двух игроков», как записали в протоколе, был все еще в пользу нашего факультета, победу присудили нам. Мы выиграли.
Мы выиграли, а я проиграл.
Вся наша команда долго еще оставалась в зале. Мы медленно натягивали на себя тренировочные костюмы, а вокруг нас горячо обсуждали игру самые ярые болельщики с нашего факультета.
Потом я вышел в коридор. Мне хотелось воздуха, хотелось хватануть губами снегу и вообще забраться в какой-нибудь угол потемнее и укрыться с головой большим и тяжелым одеялом.
И тут ко мне подошел один парень, студент нашего института, с которым мы вместе играли в команде мастеров.
– Я был в раздевалке, – сказал он. – Там кто-то из партбюро прибежал, прошел слух, будто ты вообще убил его.
Я молчал.
– Он уже в порядке, – продолжал мой знакомый. – Дали нашатырчику понюхать, и он тут же очухался… А ты знаешь, что он сказал?
Я молчал.
– Он сказал этому деятелю из партбюро, что ты ни в чем не виноват. Он сказал, что он сам просто спотыкнулся.
– А она? – спросил я. – Где была она?
– Она была рядом.
И я понял, что проиграл свою партию с ним. Мне было двадцать, а ему тридцать два, и в нашей неоконченной встрече последний ход записал он, а не я.
И это был правильный ход.
Всю ночь после этой игры я почти не спал, ворочался с боку на бок, курил, ходил по комнате, а рано утром, часов в шесть, раздался телефонный звонок, и черная эбонитовая трубка ее голосом попросила меня немедленно приехать к станции метро «Динамо».
У нее был такой странный голос, что я ничего не стал спрашивать, а просто сказал, что приеду через полчаса, не придав даже никакого значения тому, что неподалеку от метро «Динамо» жил он.
Когда я поднялся наверх н вышел из вестибюля, она стояла около колонны, прислонившись к ней сразу н спиной и головой, и смотрела куда-то вверх. Не глядя на меня, она поздоровалась и сказала, что ей нужно поговорить со мной.
Еще не было даже семи часов, стадион был пуст, а ворота на стадион были открыты, и мы медленно прошли через них и, не глядя друг на друга, пошли по широкой безлюдной аллее.
Начиналась зима, накануне выпал первый снег, все вокруг была белое-белое, как в больнице, и только темные силуэты голых, будто обугленных, деревьев одиноко чернели на сплошном безразлично-белом фоне.
Мы прошли несколько шагов, она неожиданно остановилась и посмотрела на меня. И я вдруг увидел, что на ее лице нет ее глаз, что из глубины ее зрачков на меня смотрит он, смотрит, чуть приподняв свою бородку-клинышек, смотрит пристально, немигающе.
– Ты знаешь, – начала она далеким-далеким голосом и замолчала.
– Ты знаешь, что я люблю все-таки тебя? – сказала она.
Я молчал.
Она закрыла глаза, и из-под ее опущенных вниз ресниц потекли слезы.
Она стояла передо мной, опустив руки и закрыв глаза. Плечи ее вздрагивали, и кончиком языка она старалась поймать катившиеся по щекам слезы.
– Мне холодно, – сказала она. – Поцелуй меня.
В то утро головы не было на моих плечах. Я нагнулся к ней, дотронулся губами до ее щеки и, ощутив солоноватый привкус ее слез, понял: что бы она сейчас ни сказала, что бы ни сделала, я все равно все прощу ей.
Она положила мне руки на грудь, я обнял ее за плечи и вдруг почувствовал, что не я, как обычно, а она чуть притягивает меня к себе за лацканы моего пальто. Это было так ново, так неожиданно, что я невольно подался назад. И она, уловив мое движение, сразу же отпустила меня и отвернулась.
– Ты глупый, – сказала она. – Глупый, глупый…
…Мы прошли мимо высоких футбольных трибун, свернули направо и вышли на территорию малого стадиона. По обе стороны аллеи стояли пустые баскетбольные площадки. Было непривычно и почему-то грустно видеть их без людей, и снега здесь, пожалуй, было еще больше, чем на аллеях. Молодой и искристый, он лежал ровной белой пеленой, и только в некоторых местах крестообразные птичьи следы нарушали его нежную, пушистую нетронутость.
– Как плохо, что началась зима, – сказала она. – Холодно.
Я молчал. Я не знал, почему ей не нравится зима. Я вообще ничего не знал в то утро.
Потом она сказала мне, что хочет есть.
У меня не было денег. Я сказал ей, что мне нужно заехать домой. Мы взяли такси и поехали ко мне. Когда машина остановилась около нашего подъезда, я попросил шофера подождать меня пять минут, а потом зачем-то снял шапку и положил ее на сиденье. Шофер улыбнулся.
Дверь мне открыла мать.
– Это ты приехал на такси? – спросила она. – Куда ты ездил так рано?
– Мама, дай мне сто рублей, – сказал я, стоя в коридоре и не заходя в комнату.
– Зачем?
– Мама, ни о чем не спрашивай. Ничего плохого, просто очень нужно. Я все расскажу потом.
Она долго смотрела на меня, а потом принесла деньги.
– Только не делай глупостей.
– Я отдам тебе со стипендии.
Она улыбнулась, и я ушел.
– Взял у матери? – спросила она шепотом, когда я вернулся в такси.
– У меня были свои, – угрюмо сказал я, «Почему она догадалась?» – подумал я про себя, но вслух ничего не сказал.
…Все рестораны в городе были еще закрыты, и мы поехали на вокзал. Нас посадили за маленький, стоявший на самом проходе стол.
– Почему у вас скатерть такая грязная? – спросила она у подошедшего официанта.
Официант ушел и вернулся с чистой скатертью. Я заказал котлеты и бутылку воды.
– У вас есть бифштекс? – спросила она.
– Это из порционных блюд, – сухо сказал официант. – Придется ждать.
– Я подожду, – согласилась она.
Несколько минут мы сидели молча.
– Слушай, – вдруг сказала она, – не качай стол.
– Я не качаю, – сказал я, – он качается сам.
Наш столик стоял в самом центре ресторана, и мимо нас все время проходили к поездам и с поездов какие-то люди с чемоданами и мешками, и, когда открывалась входная дверь, доносились гулкие звуки вокзальной жизни под высокими сводами и скучные голоса радиодикторов, и был виден зал ожидания, в котором на толстых деревянных скамейках в косую повалку, как доски в старом накренившемся заборе, спали, тесно прижавшись друг к другу, совершенно чужие и даже, наверное, незнакомые друг другу люди.
– У тебя много денег? – спросила она.
– Хватит.
– Давай возьмем бутылку шампанского?
– Бери.
Около нее стояла на столе коренастая пузатая рюмка, а возле меня – высокая, на длинной тонкой ножке.
– Хочешь поменяться? – спросила она.
– Хочу.
Она забрала себе мою высокую рюмку, а мне передвинула свою. Официант принес бутылку. Я стал разливать вино. Шампанское было холодное, игристое, и над ее рюмкой сразу же выросла большая шапка пены, и вино стало медленно стекать по тонкой ножке вниз, на скатерть.
Я смотрел на ее рюмку и ничего не мог понять. Почему мы сидим здесь, на вокзале, в ресторане? Почему пьем вино? Почему я ее ни о чем не спрашиваю?
По радио передавали какие-то марши, сводку о погоде, рапорт о перевыполнении, утреннюю зарядку, потом началась литературная передача о любви и дружбе, и стали приводить примеры дружбы между великими людьми – Герценом и Огаревым, Марксом и Энгельсом. Я сидел за столом, слушал стихи о любви Ромео и Джульетты, Татьяны и Онегина и все никак не мог понять: как я попал на вокзал в такую рань?
А с ее рюмки все продолжала стекать на скатерть пена от шампанского. И когда вся пена осела, она взяла рюмку двумя пальцами за высокую ножку, подняла вверх и долго смотрела на свет, как со дна поднимаются вверх и лопаются на поверхности пузырьки воздуха.
– Знаешь, за что выпьем? – сказала она и замолчала.
Пузырьки в ее рюмке все время поднимались со дна и лопались на поверхности.
– Выпьем за наш подъезд, – сказала она.
Она закрыла глаза и медленно начала пить. Я сидел, держа рюмку в руке, и не дотрагивался до своих пузырьков.
– Почему ты не пьешь? – спросила она.
Я посмотрел на нее. Ее большие серые глаза снова были ее глазами, моими глазами. В них снова никого не было, кроме нее и меня. Я искал в ее глазах так хорошо знакомые мне теплые серые блестки, и все это на мгновенье явилось мне, но только на одно мгновенье, чтобы тут же исчезнуть.
И еще у нее была очень легкая и очень стройная фигура, и это чувствовалось даже тогда, когда она сидела. И я очень надолго запомнил ее такую, какой она была в ту минуту, легкую и светлую, прежде чем задать ей тот вопрос, который давно уже просился у меня с языка и который так быстро расставил все на свои места.
– Почему в шесть часов утра ты была около стадиона «Динамо»? – спросил я.
Она как-то странно посмотрела на меня, будто снова пожалела меня за что-то, потом опустила глаза, поставила на стол недопитую рюмку и ничего не ответила.
Прошло десять секунд, двадцать, тридцать, минута, вторая – она молчала.
– Расплатись, – сказала она, наконец, очень тихо. Потом она снова посмотрела на меня, и теперь это уже были совсем не ее, совсем не мои глаза.
Я расплатился, и мы вышли на улицу. Она подняла воротник, опустила руки в карманы пальто и, не глядя на меня, медленно пошла вперед.
И я пошел за ней, рядом с ней.
От них ничего не зависело. Все зависело от чего-то другого, от того, к чему никто из них не имел никакого отношения.
Их было двое. Вот уже целых полчаса на экране полупустого кинотеатра они пытались пройти по улицам маленького итальянского города то расстояние, которое отделяло их друг от друга, но им никак не удавалось сделать этого.
Я часто ходил с ней в кино до этой осени, до той самой осени, когда она сказала мне, что собирается выходить замуж. После того, как она сказала мне об этом, я больше ни разу не был с ней в кино. Как-то не получалось. И вот теперь мы снова сидели с ней в темном зале, в предпоследнем ряду, но на этот раз все было совсем не так, как это бывало раньше.
До той осени мы всегда сидели, прижавшись друг к другу, держали друг друга за руки, я гладил ее пальцы и ладони, а она изредка поворачивала ко мне в темноте голову, смотрела на меня и молча улыбалась.
А теперь я чувствовал только ее локоть, острый – преострый локоть, лежавший на ручке кресла, изредка касавшийся моего локтя и тотчас вздрагивавший и отодвигавшийся.
А на маленьком полотняном экране черноволосый итальянский парень продолжал любить черноволосую итальянскую девушку. И оба они делали все то, что делают люди, когда любят друг друга. Она приходила к. нему домой, в маленькую комнату под крышей, и он прямо с порога начинал целовать ее, а потом поднимал на руки и нес на кровать. И дальше все происходило так, как это бывает в жизни, когда люди действительно любят друг друга.
Глядя на черноволосого итальянского парня, я думал о том, что я, наверное, никогда бы не смог сделать со своей любимой девушкой то, что делал он. Может быть, я тогда просто меньше, чем он, понимал в такой штуке, как любовь, а может быть, дело было совсем в другом.
Он нес ее на руках на кровать, а я только гладил в предпоследнем ряду ее руку да целовался с ней в темном подъезде дома. Конечно, при случае и я бы смог, наверное, поднять ее на руки. Я тоже знал, что детей не приносит аист и что их не находят в огороде под капустным листом. Не такой уж я был младенец даже и тогда.
Но все дело было в том, что я тогда искренне считал, что все это – плохо, очень и очень плохо.
Это существовало в жизни. Я уже и тогда смутно догадывался о том, что это имеет немалое значение в жизни. Но об этом никто и никогда не говорил со мной по-настоящему, на уровне моего «опыта» и моих представлений об этом. В кино парни моего возраста в основном занимались работой и общественными делами, в книгах тоже почти ничего не было, а среди моих сверстников всякие общие разговоры об этом всегда почему-то сводились к похабщине. И приходилось во всем этом разбираться самому, в одиночку.








