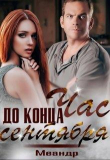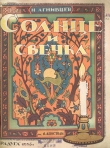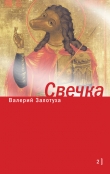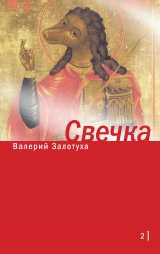
Текст книги "Свечка. Том 1"
Автор книги: Валерий Залотуха
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
– Ну чего, застрял? – спросил тот с ходу, хотя я еще ничего не сказал. Я даже вздрогнул от неожиданности! А если бы вместо меня в лифте находилась женщина? Не мог же, в самом деле, он меня видеть? И я только и смог ответить:
– Застрял…
– Какой подъезд?
Я назвал. Кажется, подъезд был четвертый, да, чёрт побери, четвертый!
– Ничего не делай и жди, – приказал он.
– Ничего не делаю и жду, – только и смог сказать я.
Ждал я минут пятнадцать, а когда стены, пол и потолок лифта начали, как мне показалось, сближаться, я снова нажал кнопку с надписью «Диспетчер». В ответ – молчание. А потом вдруг:
– Ну, чего молчишь?
А молчал я потому, что думал – он снова первым заговорит. Я растерялся, даже пожал от растерянности плечами.
– Молчу… потому что жду вас…
И он снова замолчал. Я прислушался и услышал его сердитое сопение.
– Ты где? – наконец спросил он.
– В четвертом подъезде, – напомнил я.
– В четвертом тебя нет, – обиженно проговорил он.
Я тоже хотел обидеться, но в процессе дальнейшего обсуждения проблемы выяснилось, что он прав. Я ошибся подъездом. (Со мной такое иногда случается, но, в общем-то, это с каждым может случиться.) Потом также выяснилось, что я не только подъезд перепутал, но и дом, и улицу… Прямо по Булату Шалвовичу: «Просто вы дверь перепутали, улицу, город и век»! Хотя город я, конечно, не перепутывал, а век и подавно, но все равно неприятно – висеть между небом и землей неведомо где, и неизвестно, когда все это кончится… Да это Цыца во всем виновата! У нее не дикция, а самая настоящая фикция! Картавит и шепелявит одновременно. Однажды я ей об этом сказал, в мягкой, конечно, в очень мягкой форме. И знаешь, что она мне ответила? (Шевеля усами.) «Я так говорю, чтобы больше нравиться мужчинам». Я чуть со стула не упал! Так она мне адрес на Чертановской продиктовала, удивительно, как я еще на «Чертановской» вышел, а, например, не на «Площади Ильича»… Хотя, конечно, не одна только Цыца во всей этой путанице виновата, да и не виновата она вовсе, потому что телевизор у нас так орал, что если бы адрес мне диктовала сама Анна Шилова, я бы все равно записал неправильно. Показывали клип «Зайка моя», и Алиска с Женькой врубили на полную громкость и вместе с Аллой и Филиппом пели…(Хотя я не имею права обвинять жену и дочь за то, что они любят Аллу и Филиппа. «Алла родила от Филиппа пятерых», ха-ха! В конце концов, их вся страна любит! Получается, страна не права, а ты прав? Такого просто не может быть.) Но я точно знаю – кто, точнее – что, что стало причиной того происшествия в лифте. Причина в нашей глупости, в нашем неистребимом совковом дуболомстве! Нет, вы только подумайте – на одной станции метро, в непосредственной близости друг от друга находятся Суминская улица и Суминской проезд! Не хватало еще Суминского проспекта, Суминского переулка и Суминского тупика! Фантазия наших чиновников просто поражает своей ограниченностью! В конце нашего разговора диспетчер выматерился и отключился. Я не обиделся. В общем-то, он был прав – нельзя так запутывать человека. В тот момент я попытался его себе представить, точнее, он сам представился мне, сидящий в маленькой прокуренной диспетчерской: худощавый пожилой дядька с седыми, желтоватыми на концах усами, в спецовке, из нагрудного кармана которой торчит химический карандаш, в кирзовых сапогах и старомодной полотняной кепке. А зовут его все не по имени, а по отчеству – Иваныч, например. Его уважают, потому что есть за что уважать. Таким он мне представился сразу после того, как отключился, а может, и не сразу представился, а потом, уже когда я, как пробка, выскочил из подъезда на улицу, да, именно потом, потому что, когда диспетчер отключился, мне было не до того – моя глубоко скрытая клаустрофобия напомнила о себе, – ограниченное пространство лифта вновь начало угрожающе сжиматься. Стало вдруг трудно дышать. Я сунул руку в карман (не знаю, зачем и почему), и вдруг – о чудо, нащупал там свой «Victorinox»! Нет, это все-таки какая-то мистика: как добрая фея, Даша приходит ко мне в критические минуты моей жизни в разном обличье, – тогда она пришла мне на помощь в виде ножа… Я сразу вспомнил многочисленные рассказы в «Огоньке» про чудо-нож и подумал с азартом: «А чем я хуже?» Я вынул отвертку и быстренько открутил винты, на которых держалась металлическая пластина с указанием этажей, снял ее и задумался… Передо мной было переплетенье проводов и какие-то контакты или, не знаю, как они называются. В технике, как говорит Женька, я – ноль, а как Алиска говорит – «минус единица», и это правда, тут ни отнять, ни прибавить… (А очень трудно было его легализовать. Я придумал, что скажу: «Нашел на улице», когда Женька увидит и спросит: «Ого! Откуда он у тебя?» – главное, чтобы она не видела при этом мою покрасневшую врущую физиономию. Я решил произнести эту фразу, закрывшись газетой или уйдя внезапно в туалет, и так и сделал: схватил газету и бросился в туалет, когда Женька, обнаружив «Victorinox» в кармане моего пиджака, спросила: «Ого! Откуда это у тебя?» К сожалению, это была только часть вопроса, первая часть, а я, к сожалению же, до туалета не успел добежать… «Только не говори, что нашел». Такова была вторая часть. И тут я взорвался! Самое странное, что я искренне взорвался. «Почему ты думаешь, что я не мог его найти?» – взорвался я. «Потому что ты в жизни никогда ничего не находил. Ты всегда только теряешь». Логика, тоже мне… Не находил, и нашел! Как там: «Не было ни гроша, да вдруг алтын». – Не было ни шиша, да вдруг шиш! – Не смешно… Но, что интересно, этот разговор с Женькиной стороны продолжения не имел, но, видя мой «Victorinox», она почему-то всегда усмехается… А Алиска поверила, сразу поверила, потому что это же нормально: шел, шел человек и нашел!). Я нашел, как мне показалось, главный контакт (он был красного цвета), убрал отвертку, вынул шильце и ткнул в него… Нет, не так! Вытаскивая шильце, я поранился, хотя это громко сказано – поранился, просто порезал руку, – вместо шильца вывернулось вдруг второе (малое) лезвие (очень острое, даже более острое, чем большое, просто бритва опасная), оно и чиркнуло меня по ладони довольно-таки больно и кроваво, впрочем, не так больно, как кроваво, одним словом – было неприятно, хотя я сейчас думаю, это даже хорошо, что я в тот момент поранил руку, потому что кровь и боль моментально избавили меня от приступа клаустрофобии, я просто о ней забыл. Вытащив из кармана носовой платок, я перетянул раненую ладонь и все-таки ткнул в красный контакт. Метод научного тыка! (Я вспомнил в тот момент прекрасный фильм режиссера Михаила Ромма «Девять дней одного года», где один из героев бьет по какой-то сломавшейся электронной штуковине кулаком и она начинает работать.) Да, искрило, да, трещало, да, было страшно, потому что несколько раз в жизни меня било током, но, извините, что еще мне оставалось делать? Лифт дернулся, я поехал. Сначала вверх, потом вниз, остановившись сначала на восьмом этаже, потом, кажется, на третьем или даже на втором. Почему я думаю – на втором? Да потому, что, когда дверь открылась, я услышал снизу, совсем рядом, громкий стук (стучали кулаком по двери лифта) и громкие возмущенные голоса:
– Прекратите безобразничать!
– Совсем эти чёртовы дети обнаглели!
И что-то еще в этом роде… Голоса были, если можно так сказать, пенсионерские, то есть принадлежали они, несомненно, пожилым людям. Лифт пошел вверх, и очень хорошо, что вверх, а не вниз, а то представляю картину: стоят бедные пенсионеры, дверь открывается, и они видят раскуроченный лифт и меня, окровавленного, с ножом в руке – ужас! И работа закипела – я торопливо поставил на место пластину, прикрутив ее большими шурупами. (Для этого пришлось поменять шильце на отвертку.) За это время лифт поднимался и опускался дважды или трижды, и, приближаясь к первому этажу, я явственно слышал, как мне обещали надрать уши и даже, ха-ха, снять штаны и всыпать. Нет, о том, чтобы выйти на первом этаже, не могло быть и речи, попробуй потом докажи, что ты не верблюд? Я вышел на пятом, на котором, собственно, и собирался выходить. (Если, правда, не считать, что это был не тот дом и улица тоже не та.) Но напоследок я постарался стереть, где носовым платком, а где подошвой ботинка, капли крови на полу, потому что, конечно, людям неприятно входить вот так в лифт и видеть кровь, во всяком случае, мне это было бы неприятно. В последний момент я чуть было не забыл в лифте свой «дипломат», который подарила мне Женька в день, когда я сделал ей предложение. Сейчас, конечно, вид у него неприглядный, да и замок барахлит, открывается в самые неподходящие моменты, а тогда это был жуткий дефицит, и я был страшно благодарен ей за такой роскошный подарок. Я успел его подхватить, выскочил на лестничную площадку и прислушался… Лифт опустился на первый этаж, люди вошли в него, нервно, наперебой между собой разговаривая. Когда лифт проходил мимо пятого этажа, до меня донеслось одно, громче других сказанное слово: «…демократия!». Ну, разумеется, подумал я, разумеется – демократия. В том, что лифт застрял, виновата демократия, а точнее – демократические преобразования, произошедшие у нас в стране за последние годы. Как будто при советской власти лифты в домах не застревали! Знакомые речи… Знакомые и смешные. Выходя из лифта, я вспомнил, какой сегодня день: до начала двухтысячного года осталась ровно тысяча дней, и по этому поводу у меня сегодня – ДДД… И тут же до меня дошло, ЧТО я могу занести в свой актив ДД! Я отремонтировал лифт! А что, не всякий может похвастаться тем, что САМ (!) СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ ОТРЕМОНТИРОВАЛ ЛИФТ! Отремонтировал лифт… А еще та странная старуха… Забыл… Удивительно – был день как день, один из тысяч прожитых, обычный рядовой будний день, но вот пришлось его вспомнить (а прав был Сокрушилин), и оказывается, как много в нем всего было, не день, а прямо-таки целая жизнь! Столько событий, столько впечатлений, встреч… Одна странная старуха чего стоит! Хотя так и осталась для меня непонятной… Я с ней чуть не столкнулся, да, практически столкнулся – ткнулся в ходунки, которые она выставляла перед собой при каждом шаге. Ходунки – что-то вроде табурета на тонких ножках, но без сиденья, и, если бы не они, я мог ее бедную уронить. Страшно даже подумать… Стал извиняться, но тут же замолчал, потому что старуха (хочется назвать ее старушкой, это было бы гуманнее, но почему-то не получается, не старушка она была, а именно старуха – седая, худая, недобрая) молчала и внимательно, не моргая, смотрела на меня выпученными глазами. Сколько ей лет, утверждать не могу, но не удивлюсь, если все сто. Она была высушена многими годами, десятилетиями, а может, и столетием жизни и была скорее мертвая, чем живая. Хотя еще живая… Высушенные кости, обтянутые пергаментом кожи, напоминали цветки, заложенные между страниц книги и забытые там. Она была в грязновато-сером шерстяном платье и теплых меховых тапках. Личико немного лисье, с острым носиком и заостренным подбородком, волосы редкие и совершенно седые, подстриженные в скобку, так стриглись женщины перед войной или даже раньше. Да, необычная старушка, особенно глаза – неопределенного белесо-лилового цвета, они неожиданно напоминали глаза маленького ребенка, который только-только начал различать детали зримого мира, ничего еще не понимая и всему удивляясь, потому что находится в самом начале жизни. И она, похоже, ничего уже не понимала и всему удивлялась, находясь в самом ее конце…
Она стояла, полусогнувшись и опираясь на ходунки, и, опустив голову, тем же удивленным взглядом провела по полу лестничной площадки… Как на всех наших лестничных площадках там было не очень светло, но я сразу увидел лежащие в разных местах черные шарики. Я не понимал, что это такое, и у меня вырвался удивленный вопрос.
– Что это?
– Бусы, – ответила старуха довольно неприятным скрипучим голосом.
Я не понимал, как бусы оказались на полу, но тут же до меня дошло, что они рассыпались.
– Рассыпались? – спросил я.
– Рассыпались, – кивнула старуха.
– Собрать?
– Собрать! – неожиданно повелительно приказала она.
Ну и я, конечно, стал собирать… Бусины были крупные, холодные и очень тяжелые, как будто каменные… И мне почему-то вспомнилась Варвара Васильевна, моя единственная в жизни недолгая няня, вспомнилась тогда, и сейчас вспоминается… И я понимаю почему – она ведь тоже была старая, и там тоже фигурировали бусы… Хотя Варвара Васильевна была другая, совершенно другая… Мама запрещала называть ее бабушкой или бабой Варей, потому что бабушкой она мне не была, мама наняла ее, чтобы Варвара Васильевна со мной сидела. Она и сидела… И беспрерывно смотрела телевизор. А я сидел у нее на коленях и тоже, разумеется, смотрел. Может, потому я и не запомнил ее лицо? Я запомнил Варвару Васильевну спиной – она была большая и теплая. Как печка. Она сидела неподвижно и, почти не закрывая рта, комментировала происходящее на телеэкране, постоянно находясь в диалоге с ведущими, удивляясь новостям, которые они сообщали, соглашаясь или споря. А еще она всех жалела: проигрывающих хоккеистов, даже если те были нашими противниками, а в фильмах про войну жалела убитых немцев, шепча что-то неразборчивое и крестясь, и получалось так, что она крестила или, наверное, правильнее сказать – перекрещивала заодно и меня, тыча большими твердыми пальцами, попадая мне то в лоб, то в грудь, то в живот – это меня смешило и почему-то нравилось. Надо честно признать: Варвару Васильевну я любил тогда больше, чем маму, и понятно почему – мама разрешала смотреть по телевизору только редкие в те времена мультфильмы, а с Варварой Васильевной я смотрел всё подряд. Потом что-то случилось. Какая-то неприятная история. Я заболел скарлатиной, очень сильно заболел, так что ничего вокруг не видел и не понимал, а когда пришел в себя, Варвары Васильевны у нас уже не было. Случилась какая-то неприятная история… Говорили, она украла МАМИНЫ БУСЫ. Хотя никаких бус я у мамы не помню, она вообще их не признавала, утверждая, что ювелирные украшения превращают женщину из личности в предмет потребления, однако почему-то всем говорила: «Варвара Васильевна украла мои бусы». Мама была так сердита, что даже запретила мне ее вспоминать, но я конечно же вспоминал – ребенок есть ребенок; да и потом, став взрослым, иногда вспоминал, и вот надо же – снова старушка и снова бусы… Не помню, говорил ли я что, ползая на коленях и собирая раскатившиеся шарики, наверное, говорил, но что-то совершенно несущественное, чтобы как-то занять старушку, но она заговорила, что заставило меня замолчать и прервать сбор черных бусин на сером бетонном полу. Она сказала (странно, я это совсем забыл, а сейчас вдруг вспомнил, как будто она только сейчас это сказала), итак, она сказала, произнесла странную фразу:
– В Городище детки – безручки, безножки, безглазки, безголовки – плачут, безбожную Клару зовут, но Клара не дура, Клара в Городище больше ни ногой!
Абракадабра, понятно, но страшная абракадабра, таинственная абракадабра, впрочем, абракадабра всегда таинственна. Какое Городище, какие детки-безголовки, какая безбожная Клара? Но так, именно так, слово в слово, и интонация плачущая, страдающая: «В Городище детки – безручки, безножки, безглазки, безголовки – плачут, безбожную Клару зовут, но Клара не дура, Клара в Городище больше ни ногой!»
И еще она то и дело повторяла: «Если не он, то кто?» Если не он, то кто?
– Это куда-то… отнести?.. Положить?.. – собрав наконец бусы, напомнил я осторожно, чтобы поскорей закончить это не очень приятное общение.
– Отнести… Положить… – недовольно проскрипела старуха и, приподняв ходунки, двинулась к двери дальней квартиры: ходунки вперед – два шага, еще вперед – еще два…
Я шел за ней, с дурацкими бусами в руках, медленно, как на похоронной процессии. Она жила в однокомнатной, просто, если не сказать аскетично, обставленной квартирке, в которой я не заметил ничего, что могло бы пролить свет на прошлое моей странной собеседницы, там, кажется, даже не было на стенах фотографий, которые я так люблю в чужих квартирах разглядывать. Мне не удалось сразу от нее вырваться, потому что дальше начался рассказ про какого-то человека, мужчину, который несколько минут назад встретился ей на лестничной площадке и, крикнув «И ты, старая сука!» – сорвал с шеи бусы. Я предложил пойти поискать хулигана или позвонить в милицию, но старуха помотала головой и, неожиданно улыбнувшись, обозначив улыбкой несуществующие губы, в который раз повторила:
– Если не он, то кто? – И я понял, что она имела в виду этого негодяя.
Жалко было эту дряхлую полубезумную женщину, но я ведь не геронтолог, не психиатр, я всего лишь ветеринар и, между прочим, тоже человек… Не помню, как я оттуда вырвался или выскользнул, и только на улице вздохнул с облегчением… Но как все-таки странно устроена наша жизнь! Прямо-таки сплошняком она набита ненужными встречами с ненужными людьми, которые ничего для нас не значат и ничему не учат, она, наверное, наполовину, на три четверти, на четыре пятых даже из таких встреч состоит. И вот эта старуха, настолько неприятная, что встречу с ней я напрочь забыл и вспомнил только под давлением обстоятельств. Кто она? Как ее зовут? Сколько ей лет? Чем она занималась в прожитой жизни и почему ведет такие странные разговоры? Это вопросы, на которые я никогда не получу ответа, а раз так, зачем они мне? Но что-то ты расфилософствовался… Что было потом? Потом… Потом я отправился на работу, провел прием (РЫЖИКОВА!), а в конце дня поехал по срочному вызову в центр, в Трехпрудный переулок, где благополучно ощенилась фоксиха Луша (почему-то фоксих очень часто называют Лушами), там тоже была очень интересная встреча и очень интересный разговор, который, в отличие от встречи со старухой, я не забывал и, думаю, еще не скоро забуду. Итак, в приподнятом настроении я вышел на Тверскую, но почему-то не пошел, как собирался, в книжный магазин «Москва», а стал глазеть на выставленный прямо на улице «Hummer» за 113 000 USD (значит, это тоже было пятого апреля? Фантастика!), после чего прогулялся по родному Тверскому, на котором встретил адмирала (или контр-адмирала) с женой и даже немного с ними пообщался, а у памятника Тимирязеву «пообщался» со сборщиками стеклотары и, отчасти в результате этого, спустя какое-то время оказался прямо напротив церкви, в которой Пушкин венчался, где и остановился в раздумье: входить или не входить, и раздумье это было столь глубоким, что я напрочь забыл о моем, так сказать, музыкальном сопровождении, до боли знакомое «звень-звень» уже не звучало в ушах, кажется, оно исчезло еще за квартал до того места, на котором я теперь стоял. А стоял я, как избушка на курьих ножках, к храму, где Пушкин венчался, – передом, а к сидящему Алексею Толстому (к памятнику его) – задом, стоял и думал: могу ли я туда войти? С одной стороны – нет. По причине собственной некрещенности. Именно по этой причине я никогда не заходил внутрь действующих храмов. Даже когда на третьем курсе мы плавали на байдарках по рекам К-ской области и сделали остановку рядом с монастырем, в котором, как говорили, на пути в ссылку был Достоевский. Говорили, что в том монастыре Достоевский видел того отрицательного монаха, которого классик в «Братьях Карамазовых» описал, как-то его звали? Ферапонт, кажется, я эти смешные церковные имена с трудом запоминаю. К нашему удивлению, вместо монастыря там была тюрьма, зона, нас к ней близко не подпустили. Действующую церковь мы обнаружили позже, когда сплавились по реке Неверке ниже, и все наши пошли «службу смотреть», а я остался снаружи, у открытых дверей. (Где наблюдал картину просто возмутительную!) Наши потом допытывались: «Неужели тебе не интересно?» – а я ответил, что мне интересней зона, потому что живая жизнь, а в церкви что… Но что я мог ответить? Это как если бы мужчина в женское отделение Сандуновских бань собрался, там тоже интересно, но ведь ты не женщина… Так и здесь: раз ты не крещеный, то и нечего тебе в церкви делать! Порядок есть порядок, принцип есть принцип! Но это с одной стороны, и вообще… А с другой и в частности, я давно хотел в этот московский храм попасть, потому что ровно за сто двадцать пять лет до моего рождения, день в день, в нем венчался Александр Сергеевич Пушкин, который лично для меня даже больше, чем всё. Мне всегда хотелось увидеть, а может быть, даже и постоять на том самом месте, где стоял ОН – «солнце русской поэзии», чернявый, смешливый, на пять сантиметров ниже меня, а рядом она – «гений чистой красоты», юная глупышка ростом с мою Женьку; постоять и представить, как все это было: как, звеня, упало кольцо и покатилось по каменному полу, как побледнел Александр Сергеевич, а Наталья Николаевна улыбнулась, еще ничего не поняв…[25]25
На самом деле тогда на месте храма Большого Вознесения стояла маленькая деревянная церковь и вряд ли пол в ней был каменным. – Примеч. ред.
[Закрыть] Наверное, я бы долго еще сам с собой боролся, но вдруг большая церковная дверь со скрипом отворилась, из темноты вышла тетенька в сером халате и белом платке и, нагнувшись, подложила под дверь деревянный клинышек, чтобы дверь не закрывалась, и, выпрямившись, прежде чем уйти в свою темноту, посмотрела на меня удивленно, точнее, не удивленно, а, я бы даже сказал – укоризненно. Видимо, ее взгляд и перевесил чашу весов в пользу того, чтобы я вошел, а может, обошлось и без взгляда – просто моя любовь к Пушкину взяла верх над моими же принципами. Надо сказать, вошел я в храм, можно сказать, с благоговением, но почти сразу испытал страшное разочарование. ФАНЕРА! Банальная фанера превалировала во всем его внутреннем убранстве. Собственно, для посетителей была отгорожена лишь небольшая часть (фанерой же и отгорожена), из-за которой раздавался частый стук молотков и какие-то тяжелые, неритмичные, неприятно тревожащие удары. Но это ладно, на это можно закрыть глаза, точнее, уши, а вот фанера, тут уж как глаза не закрывай, фанерой и останется. Одно слово чего стоит – фанера. Да, я понимаю, идет ремонт, понимаю, что это временно, но кто же не знает, что нет ничего более постоянного, чем временное? И это при том, что неподалеку, здесь же, в центре, возводится эта громадина, которая никому не нужна – храм Христа Спасителя. Уж туда-то денег вбухивают! Я даже хотел сразу уйти – так мне все это не понравилось. Но тут внимание мое привлекла исповедь, хотя я даже не понял сразу, что это исповедь. Мне всегда казалось, я был уверен, что существует специальное помещение, где все это происходит. Как в кинофильме «Овод», где Сергей Бондарчук играет святого отца. И еще в каком-то фильме, в «Красном и черном», кажется, там такие специальные, разделенные надвое кабинки: сидит священник, а рядом за перегородкой, у окошечка, сидит тот, кто пришел исповедоваться. Очень удобно: священник не видит тебя, но слышит, а ты можешь все ему рассказать, не стесняясь. Очень удобно, действительно. Да и сидя тоже удобнее… Так вот, я даже не сразу понял, что это такое, и только потом догадался – исповедь. Но сначала я увидел очередь! Меня это даже развеселило: вроде избавились от очередей в магазинах, а они вот куда переместились! Причем очередь была не вчерашняя и не позавчерашняя даже, а, я бы сказал, времен Гражданской войны – серая, скорбная, унылая. В основном, женщины стояли, что усиливало сходство с очередью времен Гражданской войны. Интересно, что стояли они совсем недалеко от места, где производилась исповедь, всего в каких-то двух-трех шагах, и я не уверен, что они не слышали… Женщина, которая исповедовалась, была накрыта блестящей церковной тряпицей, и это тоже выглядело странно. Священник, правда, мне понравился: невысокий, с большой блестящей лысиной, в очках, интеллигентного вида. Но это даже не главное, главное – глаза, глаза его мне понравились, очень уж они у него были добрые… Впрочем, глаз его я как раз и не видел, глаза у него были все время закрыты, но представлялось несомненным, что они там – добрые, очень добрые. Он слушал женщину с закрытыми глазами, с мягкой улыбкой на полноватых губах, которые не могла скрыть довольно большая и мягкая (я почему-то уверен, что мягкая) золотистая борода, – склонив голову набок и плавно ею покачивая. Со стороны глядя, можно было подумать, что он слушает не перечень чужих грехов, а чудесную сказку, которую прекрасно знает, но любит слушать вновь и вновь. Сказку в стихах – он покачивал головой не только плавно, но и ритмично, как будто это было стихотворение, «У Лукоморья дуб зеленый» например… (Ну конечно же «У Лукоморья дуб зеленый», храм-то – пушкинский!) В какой-то момент я даже позавидовал женщине, накрытой блестящей церковной тряпицей, и мне даже немного захотелось оказаться на ее месте, но когда представил, что придется всё про себя рассказывать (это же со стыда сгореть можно!), – сразу расхотелось, а увидев, как после данной процедуры женщина стала целовать священнику руку – подобострастно, я бы даже сказал – униженно-подобострастно, – совершенно расхотелось! Гера шутит, когда видит, как мужчина женщине руку целует: «Салон Анны Павловны Шерер». Но то – мужчина женщине, а это – женщина мужчине! Да еще с таким подобострастием, с униженным, я бы сказал, подобострастием, – я не смог на это смотреть и отвернулся. К тому времени я уже понимал, что место, где стояли когда-то Александр Сергеевич и Наталья Николаевна, находится за фанерной перегородкой, откуда раздавался частый стук молотков и тяжелые, неритмичные, неприятно тревожащие удары. Общее разочарование нарастало, исходя из здравого смысла, мне следовало немедленно покинуть помещение, но что-то, какое-то несделанное дело не давало мне уйти. И я вдруг вспомнил: «Свечка! Надо же поставить свечку!» Насколько я знаю, каждый входящий в церковь должен поставить там свечку – это обычай, ритуал, если угодно – плата за вход, и, в конце концов, это просто красиво, и я ничем не лучше и не хуже других… Но чтобы поставить свечку, надо ее купить. Я посмотрел налево, посмотрел направо и, обнаружив отгороженный фанерой уголок, где продают свечки, сделал в том направлении шаг, как вдруг услышал:
– Морда жидовская, девочку ему подавай!
От неожиданности я остановился и прислушался… Да нет, не прислушался, в том не было никакой необходимости, эти слова были произнесены громко, демонстративно громко, однако никто, кроме меня, на них, кажется, не прореагировал. Я продолжил свой путь, слыша то, что слышал во время путча перед Белым домом: весь этот антисемитский бред про проданную евреям Россию. Ненавижу антисемитизм! У меня с Герой по этому поводу главные в жизни разногласия. Нет, не то чтобы Гера – антисемит (в таком случае я не имел бы с ним ничего общего), просто он, как он сам говорит, их не любит. Хорошо, не люби, никто не заставляет тебя любить евреев, но зачем же про народ гадости говорить? Про народ, про целый народ! «Ты не работаешь с евреями». Я не работаю с евреями? А Марик, а Цыца, они, по-твоему, кто? (Хотя Цыца, кажется, айсорка). Так вот, между нами, девочками, говоря, если меня, твоего друга, сравнить с Мариком, и даже если с Цыцей меня сравнить (не важно, еврейка она или айсорка) – как профессионала, как товарища по работе, как просто человека, – сравнение будет не в мою пользу, поверь – не в мою, потому что они лучше, чище, умнее! (Не мне ли об этом судить, я ли себя не знаю?) Антисемитизм – заразная болезнь, я тоже в детстве чуть не заразился, и неизвестно, что сейчас со мной было бы, если бы не мама. (Опять – мама!) Это случилось в детстве, в моем школьном детстве, в четвертом, кажется, классе, – я прибежал домой и сказал какую-то гадость про какого-то своего одноклассника. (Причем интересно, что этого я совершенно не помню, наверное, сказал про него, что он плохой, потому что он еврей, – реконструирую сейчас то событие). А потом (это я уже отлично помню) мама поставила меня прямо перед собой, очень серьезно посмотрела мне в глаза и спросила:
– А что, если твой отец – еврей?
– Мой отец – еврей? – растерянно пролепетал я.
– Я не знаю, – улыбнулась мама. – Я просто никогда не интересовалась его национальностью.
Я тоже улыбнулся, но – растерянно.
– Но если он еврей, тогда и ты тоже еврей? – В маминых глазах появился знак вопроса.
Мне нечего было на это сказать, и мама закончила:
– Поэтому, прежде чем назвать кого-то евреем, подумай – не еврей ли ты сам?
И – всё! Мой детский антисемитизм как рукой сняло! Тебе, старик, тоже не мешало бы получить такую прививку. Да, я знаю, твой папа – немец, ну а вдруг? Нет, я понимаю, что это практически невозможно, а теоретически? То-то же, старик, то-то же… (Нет, все-таки, мама – гениальный педагог!) Но я хочу спросить: почему там, где церковь, там и антисемитизм? Я читаю «Наш современник», по старой привычке читаю, и с прискорбием замечаю эту ужасную тенденцию. Православие, антисемитизм, народность – вот! Раньше было: православие, самодержавие, народность, а теперь – православие, антисемитизм, народность… Я остановился и прислушался, да, все-таки прислушался и услышал…
– Всю Россию себе захапали, теперь им девочек наших подавай!
Я обернулся. Это была женщина, одетая ярко, но безвкусно и грязновато, я бы сказал, убого. Яркая и убогая… (Именно таких, непонятного социального статуса, неведомо откуда взявшихся сразу в большом количестве женщин и мужчин я видел возле Белого дома во время второго путча.) Она посмотрела на меня с подозрением, продолжая нести свою злобную ахинею. Стоявшие рядом старушки слушали, открыв рты. А она, кстати, была не старая, ей было не больше сорока, и, всмотревшись в ее очень подвижное лицо, я обнаружил, что она – красивая, я бы даже сказал, чрезвычайно красивая женщина. У нее очень правильные черты: высокий лоб, прямой нос, большой хорошо очерченный рот и ровная линия подбородка. Из-под грязноватой шелковой косынки выбивались пышные каштановые пряди волос. Глаза ее было трудно разглядеть, да и не хотелось этого делать, так как под одним, левым, кажется, расплылся ужасный синяк. Кроме часто звучащего в ее речи слова «жиды», женщина употребляла также во множестве чисто церковные выражения, которые (видимо, в силу своей неконкретности) у меня в голове перемешались – все эти архангелы и архимандриты, но была одна фраза, которая запомнилась – своей необычностью и загадочностью: «Чрево отроковицы Богородица запечатала». Именно так – ЧРЕВО ОТРОКОВИЦЫ БОГОРОДИЦА ЗАПЕЧАТАЛА. (?!) Фраза эта запомнилась мне еще, наверное, и потому, что рядом стояла, видимо, та самая отроковица, без сомнения – дочь. Лет ей было двенадцать-тринадцать, не старше моей Алиски. Одета девочка была, как и ее мать – ярко, безвкусно и грязновато. Скромный белый платочек, повязанный, как видно, наспех перед самым входом в храм, на фоне химических, ярких цветов ее одежды выглядел чуждо и нелепо. У девочки были большие, я бы сказал – неправдоподобно большие, как на картинах Ильи Глазунова, красивые синие глаза, но при этом они были так жирно и безвкусно подведены, отчего красота их сводилась на нет, а губы были ярко накрашены, что превращало лицо ребенка во что-то ужасное. (Если бы я увидел такой мою Алиску, просто не знаю, что бы со мной было!) Внешний вид этой девочки вызывал сочувствие – ребенок, но одновременно и тревогу – очень испорченный ребенок, я бы даже сказал – порочный ребенок, хотя и страшно такие слова произносить. Да, еще… Одна щека девочки была залеплена от уха до скулы полоской бактерицидного пластыря, что усугубляло общее негативное впечатление. Медленно, лениво, напоказ она жевала резинку и покачивалась взад-вперед… У Геры есть выражение, вернее, характеристика определенной категории женщин: «Она ходит лобком вперед». Грубо, конечно, но Гера, как всегда, точен, я бы сказал – цинично точен. Это не только манера некоторых женщин ходить, но в некотором смысле их отношение к жизни и, в первую очередь, – к мужчинам… Девочка стояла на месте и двигала определенной частью своего тела взад-вперед, взад-вперед… (Как же неприятно всё это вспоминать!) Ту определенную часть тела прикрывала икона, которую держала девочка в опущенных руках. Это была довольно большая и, видимо, тяжелая икона в массивной раме, под толстым стеклом, но не старинная, а новодельная, может, даже фотографическая, украшенная мертвыми вощеными цветами и блестящей мишурой. Икона покачивалась в такт с движениями взад-вперед, и в ней, точнее, в закрывающем ее стекле дрожали, отсвечивая, огоньки свечей и лампад. Это выглядело неожиданно красиво, я бы даже сказал – завораживающе красиво, и я не сразу разглядел за бликующим стеклом саму икону. Там была изображена Дева Мария с направленными в ее грудь то ли шпагами, то ли кинжалами. Ничего подобного я нигде и никогда не видел. Та странная женщина в своем потоке малопонятных незапомнившихся слов не раз повторила малопонятное опять же, но запомнившееся слово – «семистрельная». Что-то вроде «Владычица семистрельная чрево отроковицы запечатала», из чего я сделал вывод, что имеется в виду эта самая икона. Да, возможно, их было именно семь, не знаю, не считал, но утверждаю, что это были никак не стрелы, а именно холодное оружие: шпаги или даже кинжалы. Язычество какое-то, а не христианство. (Я так и подумал в тот момент: «Язычество какое-то, а не христианство».) «Язычество какое-то, а не христианство», подумал я и ПОЧУВСТВОВАЛ, что она на меня смотрит. Девочка. Девочка на меня смотрела… Изучающе и насмешливо. Очень изучающе и очень насмешливо. (Практически презрительно. Это я тоже почувствовал.) Она хотела, чтобы я на нее посмотрел, но не просто посмотрел, не как взрослый человек на ребенка, а как мужчины на женщин в определенные моменты смотрят, она вызывала во мне именно такой взгляд. Видимо, мужчины уже смотрели на нее так, это ей понравилось, и теперь она хотела, чтобы и я тоже… Девочка, ребенок – она требовала, чтобы я, взрослый мужчина, посмотрел на нее, как на женщину! И даже не требовала – знала, она знала, была уверена, что я так на нее посмотрю, и эта уверенность и рождала ее ко мне презрение. И я понял – надо уходить, надо срочно уходить! Не поднимая головы, я торопливо направился к выходу, и уже взялся за ручку двери, когда вспомнил про свечку. Мне страшно не нравится в себе одна черта. Эта черта – нерешительность. Хотя в моем случае это не совсем точное определение. Нерешительность – это неспособность или нежелание принимать какое-либо решение из страха перед последствиями, я же принимаю его с легкостью, но любое, самое малое препятствие на пути моего самого твердого решения может изменить его до неузнаваемости, а то и просто отменить. С одной стороны, кажется, что так легче, так проще жить – как речка или ручеек огибает препятствия и течет себе, весело журча, однако это кажущаяся, обманчивая легкость! Я взялся за ручку двери, за медную холодную ручку, и мгновенно остыл, охолонул, как будто прислонился к ней не рукой, а лбом, но главное – я разозлился! О, великая злость, иногда ты приходишь мне на помощь! В этом состоянии я все могу преодолеть! «Я решил поставить свечку, значит, я поставлю свечку», – сказал я себе и направился к фанерной выгородке, где этими самыми свечками торговали. По пути я взглянул на святого отца, на его бороду, на его рясу или ризу, не знаю, как этот балахон называется, и подумал: «Какая это все-таки архаика, как это все-таки несовременно!» Я включил свою злость, как летчик включает форсаж, и подошел к столу, на котором лежали свечки. Они там были разные – от тысячи рублей самые большие, до ста – самые маленькие. Назло всем я решил купить самую большую и дорогую. Памятуя о том, что счастливые хозяева ощенившейся фоксихи отвалили мне кучу денег, я полез в карман и, к своему удивлению, обнаружил там лишь пластмассовый жетон на метро и какую-то мелочь. (В самом деле, куда делись в тот день деньги? Потерял? Страшно не люблю, когда что-нибудь теряю, но именно это происходит со мной чуть ли не ежедневно.) Женщина, торговавшая свечками, та самая, которая открыла дверь и подложила под нее деревянный брусок, смотрела вопросительно. Когда на меня так смотрят, я еще больше начинаю на себя злиться, я вытащил из кармана всю мелочь, стал считать ее на ладони и насчитал чуть больше ста рублей. У женщины было серое лицо и бесцветные глаза, которые по-прежнему смотрели на меня вопросительно.