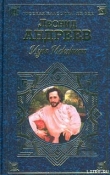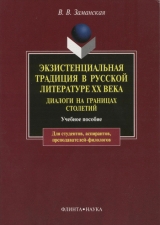
Текст книги "Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. Диалоги на границах столетий"
Автор книги: Валентина Заманская
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Каждая миниатюра цикла «Созерцание» – это конструируемая Кафкой сослагательно-недостижимая реальность, которую он создает словом, «не равным себе». Так, во «Внезапной прогулке» союз когда,конструирующий миниатюру сюжетно и композиционно, утрачивает свое временное значение. Он не столько фиксирует временное соотношение действий, реальных событий, сколько рисует предположительную (в статусе фантастической допустимости), принципиальную возможность выйти из дома вечером на «внезапную прогулку». Но и возможность эта невозможна, нереальна, остается только мечтой. Таким образом, сама «внезапная прогулка» не событие, а, скорее, мотив этого события, не факт реальной жизни, а мечта о порыве. А потому перед нами «возможная невозможность» – один из законов кафкианского мира: возможная в принципе «внезапная прогулка» никогда невозможна для конкретного человека, который лишь грезит о том, что у него «больше силы, чем потребности… совершить… перемену», – вряд ли и потребность есть, а уж тем более сила… Перед нами не кто иной, как все тот же человек «одной борьбы» – рефлексирующий, бессильный, живущий скорее вымышленными конфликтами «норы», чем реальностью, включившийся в процесс саморазрушения, самоуничтожения. А потому и порыв его к «истинному облику своему» – полная «невозможная возможность». «Приговор» и подписан изначально «сослагательно-недостижимой» формой союза когдаи всей конструкцией миниатюры.
Еще в большей мере «не равное себе» слово Кафки эффективно при использовании глагольных форм. Именно глагол (слово действия) наиболее очевидно реализует принципиальную невозможность поступка, действия кафкианского человека, отчужденного от мира, обессиленного борьбой, переживающего процесс саморазрушения. Мотив решения, концентрирующего «всю отпущенную тебе решительность», возникает уже во «Внезапной прогулке»; сюжетно реализуется он в следующей миниатюре – «Решение». Решение «вырваться из жалкого состояния» легко «осуществляется» только в мысленном «проекте»: «Я сорвусь… обегу… пошевелю… зажгу огонь в глазах [как о постороннем предмете – фонаре или лампе]… буду противодействовать… бурно приветствовать… любезно терпеть… впивать». И в качестве завершения сослагательно-недоступного жеста – «движение проведенного над бровями мизинца».
Слово точно описало, назвало, уловило, зафиксировало, но более всего оберегло, не обессилило суть характера, тем самым не навязало ему инерционного смысла, заложенного в самом слове. Выйдя за свои номинативные пределы, слово позволило характеру замерцать сквозь кружево кафкианского слова в своей жизни сокровенно-экзистенциальной.
Эффект автономной жизни кафкианского слова усиливается тем, что, оторванное от вещи, оно создает свой сюжет. Главным приемом конструирования этого сюжета являются повторы. Уже во «Внезапной прогулке» обращает на себя внимание то, что обыденно абсолютно нейтральный союз когдаоказывается странно вариативным семантически в двух частях миниатюры. С одной стороны, когда,относящееся к временному обозначению – «вечером», с другой – когдаво второй части миниатюры («когда ты приходишь к себе…», «когда чувствуешь…», «когда понимаешь…»), обозначающее оттенки эмоциональных и психологических состояний. Даже в пределах одной миниатюры слово Кафки не равно себе. Повторяемое в двух рядах восемь раз (четыре и четыре), оно семантически варьируется в микроконтексте. И это одна из целей кафкианского повтора – нагнетание динамики несуществующего действия («внезапная прогулка» – акт мыслительный). Тот же прием работает в «Бегущих мимо». Повторяемое семь раз в восьми строках одно и то же слово исчерпывающе передает процесс дематериализации сознания задолго до того, как граница реальности и ирреальности зафиксирована финалом миниатюры: «…развемы не могли устать, развене выпито так много вина?»
Но кафкианский повтор обладает еще одним магическим свойством – синонимизировать слова, не имеющие между собой ничего общего. В рассказе «Купец» совершенно одинв повелительной форме обращается к «другим»: успокойтесь, отойдите, летите, посмотрите, машите… возмущайтесь, умиляйтесь, славьте, перейдите… порадуйтесь, пойдите… ограбьте… поглядите.Разные глаголы, интенсивно используемые в единой форме повелительного наклонения и однозначно обращенные к «присутствующе-отсутствующему» объекту, как бы приобретают функции синонимов, потому что в реальности не предполагается осуществление ни одного из побуждаемых действий – это заведомо несовершенные действия. Разные глаголы равно становятся глаголами инобытия. Не имеет значения, что их смысл различен, – они нужны как поток волеизъявления Я. Повторы обнаруживают и еще одно принципиальное качество и не только кафкианского, но и экзистенциального слова вообще. Это слово – сверхконтекстно, оно утратило свою связь с реальным явлением, оно приобретает свободу, творит новые смыслы, вступает в новые отношения, чтобы, не называя, обнаружить «вещи такими, какими они, наверно, видятся, прежде чем показать себя» нам.
Экзистенциальное слово Кафки устремлено к экзистенциальной сути явления. Таким образом, благодаря системе приемов поэтики малой прозы возникает материализованный аналог бесконечности – подозреваемое текстовое пространство. Подразумеваемое текстовое пространство – это прием, которым обеспечивается эффект «незаконченности» романов Кафки. Но подразумеваемое текстовое пространство «незаконченных» романов – это продукт авторской воли, которая таким образом ставит преграду бесконечности абсурда. «Подозреваемое текстовое пространство» малой прозы выше воли автора. Оно отражает экзистенциальную бесконечность мира.
Творчество Кафки на редкость универсально. Универсальность Кафки заключается в том, что в каждом его произведении одновременно интегрируются многие и самые разнообразные пласты, аспекты, жанровые и стилевые тенденции. Единственная в своем роде многозначность Кафки нередко сравнивается исследователями с аллегоричностью, притчевостью, истоки которых в синкретизме мифологического мышления. Кафка использует внешние фантазийные приемы, олицетворяет природу, как это присуще фольклору («… Я заставил дорогу сделаться все более пологой и вдали наконец спуститься в равнину»). Однако природа его притчевости и аллегоричности отражает тип сознания, прямо противоположный мифологическому. Столь же метасодержательное, как и мифологическое, экзистенциальное сознание Кафки отражает не «первоначально недифференцированное» мифологическое мировоззрение, но процессы разрушения, катастрофичности. Кафка одним из первых находит для них адекватный, авангардный стилевой эквивалент, который лишь внешне может ассоциироваться с мифологической аллегоричностью и притчевостью.
Сохранят и даже преумножат объемы и масштабы обобщений романы Кафки. Особенно это очевидно в сопоставлении их с антиутопией. Формы кафкианских романов проектируют антиутопию XX века: если воспринимать «Процесс» ретроспективно, то в нем «закодирован» и российский тоталитаризм, и германский фашизм. Но антиутопия XX века на первый план вывела политические подтексты кафкианских предвидений. Кафка же в своих романах отражает человека и бытие. С этой точки зрения ближайший аналог кафкианских обобщений – драматургия Л. Андреева, произведения Метерлинка и др. Однако обобщения Кафки шире, чем обобщения европейских экзистенциалистов. А. Камю использует формулу «чужого», уже открытую Кафкой; его посторонний – отчужден, но он сам предпочитает быть таковым. Кафкианский «чужой» более онтологичен, он не просто пропавший без вести, это его судьба. Пропал без вести – не потому, что физически затерялся в Америке (для родителей, для Европы). Он пропащий «по жизни», чужой и безродный для всех, игрушка в руках судьбы. Судьба Роснера становится всеобщей судьбой: человек как таковой весь во власти случая. В таких обобщениях онтологическое пространство кафкианского романа уходит почти в бесконечность…
В «Процессе» взаимоотражаются друг в друге два процесса. Внешний конструирует бутафорию суда. Этот суд абстрактен: он есть и его нет, он недоступен, незрим и оттого еще более пугающ для героя. Внутренний процесс – это процесс саморазрушения личности: человек обуреваем идеей процесса. Кафка детально разработывает стадии отчуждения личности от мира под воздействием идеи процесса (от протеста как реакции на арест, до признания вины и осознания того, что и приговор должен исполнить сам). Сосредоточенность на процессе полностью выключает героя из реальной жизни. Этот переход из ареста в самоарест, постоянное переживание стрессовой ситуации действует на психику разрушительнее самого стресса. Иозеф К. добровольно заключает себя в «процесс» и заточает себя в нем.
Включиться в процесс – значит допустить возможность вины и постепенно освободиться от собственной воли. В романе Кафки происходит и то, и другое. В идее саморазрушения личности задолго до наказания Кафка созвучен Андрееву («Рассказ о семи повешенных») и более позднему Сартру («Стена»). Физическая смерть – лишь последняя и формальная точка в процессе перехода живой материи в неживую, который начинается с утраты воли. «Процесс» – это умирание в Иозефе К. личности, процесс умирания живой материи.
По общей концепции, стилю, образной структуре «Процесс» находит продолжение в романе «Замок». Система ломает человека, заставляя психологически принять статус винтика. Сам замок– столь же символически-всеохватный образ, как и процесс, – допускает немалое число версий его интерпретации. Может быть, это мир за порогом смерти – царство мертвых, куда живым вход заказан. Замок может быть и моделью тоталитарной системы. Замок – это судьба, «небесная канцелярия»; может быть, именно потому герой так быстро включается в систему, что перед лицом судьбы его воля – ничто (и тогда замок – своеобразный аналог более персонифицированного андреевского «Некто в сером»). Но при любой версии авторский акцент сделан не на замке как таковом, а на позиции человека перед лицом замка. Ситуация «человек перед лицом…» – это ситуация экистенциальная. И в таком случае образ замка – это импульс, повод к возникновению экстремальной ситуации, в которой раскроется суть человека, совместится онтологическое и психологическое в пространстве романа и одной человеческой жизни.
Недоступность Замка для К. (не только как архитектурного сооружения, но и как комплекса идеологического, психологического, политического, структурного) заключается в том, что абсолютно несовместимы логика, по которой живет и мыслит Замок, и логика К. (атмосфера Замка лишена воздуха – в ней задыхаются). Для К. логика Замка – загадка, которую он пытается разгадать; она – его вечное открытие. Для обитателей Замка и Деревни его логика – либо детски наивна, либо оскорбительна. У всех обитателей Замка и Деревни чувства и реакции преувеличены, гипертрофированы, они неадекватны действительности. Такая гипертрофия реакций и чувств – не компенсация ли отсутствия чувств истинных? Обитатели не знают настоящего положения вещей ни о себе, ни о мире. Логика Замка – это полный волюнтаризм в оценках морали, фактов, явлений, поступков, людей.
В «Замке» (как в «Процессе») основным структурным элементом композиции являются необыкновенно пространные монологи. Они отражают концепцию, своеобразие стиля, в них реализуется основное художественное содержание произведения. Динамика кафкианских монологов, их содержание, внутренние связи формулируют основной пафос романа. Монологи «Замка» фокусируют бессмысленность содержания, абсурдность закона, порядков, системы. Это монологи – тупиковые по содержанию, эмоциональной направленности, бессмыслице (кульминация – монолог Пеппи, монолог Бюргеля). Они вполне отражают логику искаженного Замком сознания.
Художественная логика кафкианских монологов обнажает отсутствие логики в мире: алогичность ширится, гипертрофируется, вовлекает в свою орбиту новых людей, новые сознания и плоскости. Алогичность становится тотальной. Герой в «Замке» борется не столько с отвлеченным замком (ему туда не будет доступа), сколько с продуктом Замка – вездесущей алогичностью, абсурдностью, которая и в Замке, и в Деревне создает атмосферу сумасшедшего дома, где все живут по искаженной логике, а нормальную логику человека со стороны воспринимают как аномальную: утрачены до конца параметры здравого смысла. К. не надо больше стремиться в Замок – его он встречает в деревне. Последний монолог К. – это свидетельство его полной победы над замком. Он сохраняет здравую логику, остается нормальным человеком в мире искаженного сознания и тотально деформированной психики.
Можно утверждать, что «Замок», как и другие романы Кафки, не является романом незавершенным. Он не закончен формально, но вполне завершен художественно. Сказать больше нечего и не нужно. Экзистенциальная ситуация исчерпана полностью – продолжения быть не может…
Стилевое оформление романной прозы Кафки восходит к принципам малой прозы. В новеллах Кафки дан эскиз жизни слова экзистенциального. Блестящий результат действия этого принципа получен в его романах. Изображение абсурдности мира в «Процессе» и «Замке» достигается прежде всего через поток слов. Их такое несчетное, абсолютно несоотносимое и не оправданное минимальным смыслом монологов и описаний множество, что смысл, даже если бы он был в мире абсурда, просто не мог бы не утонуть в этом количестве слов. Слов так много, что они начинают жить уже своей, отдельной от называемого предмета (да его, к тому же, чаще и нет) жизнью: они существуют независимо от мира явлений. По своей, ведомой одним им логике, они плетут свое кружево, они неподконтрольны – ни мысли, ни предмету, ни говорящему, ни слушающему. Не человек руководит словами, а слово увлекает человека в свой поток. Поистине, от невменяемого слова до невменяемого сознания – один шаг… И, таким образом, абсурдность реального и ирреального мира умножается на абсурдность того пространства, которое рождается в бесконечности самих только слов, возникает из их самостоятельной и неконтролируемой никем жизни. Это двойное потенцирование абсурда бытия абсурдом слова. Поэтому мало сказать, что слово Кафки отражает абсурд бытия, – оно его удваивает, обессмысливает мир окончательно, бесповоротно и трагически, прогнозируя трагическую абсурдность века.
С этой точки зрения финал «Замка» – «…Но то, что она говорила…» – еще одно доказательство полной завершенности романа. Ибо то, что творило бы неуправляемое слово дальше, лежит уже и за пределами абсурда, и за пределами человеческого восприятия. Романы Кафки незакончены, но – нельзя сказать, что они незавершены.
Они открыты. И прежде всего в спроектированный ими век. Диалог двух веков, двух национальных версий экзистенциального мироощущения Кафка лишь начинал. Откликнуться веку на кафкианскую нечеловеческую энергию предстояло в другом национальном сознании. Первыми, кто этот диалог культур поддержал, были современники Кафки Леонид Андреев и Андрей Белый.
Глава вторая
Русская литература первой трети XX века: между «Миром обезбоженным» и «Миром обесчеловеченным»
Л. АНДРЕЕВ
А. БЕЛЫЙ
В. БРЮСОВ
А. АХМАТОВА
М. ЦВЕТАЕВА
А. КУПРИН
О. МАНДЕЛЬШТАМ
М.ГОРЬКИЙ
А. ПЛАТОНОВ
Судьбы экзистенциальной традиции в XX в. определяются рядом обстоятельств. Экзистенциальное мышление начала столетия вступает в особые отношения с художественным сознанием предшествующего века. Оно одновременно продолжает и отвергает классическую традицию по принципу антидиалога, естественного для спокойного течения литературного процесса, в котором сосуществуют элементы эволюционного и революционного развития. Экзистенциальное сознание сталкивается с политизированным художественным сознанием, которое выражало идеологию и политику тоталитарного государства. Политизированное сознание организационно и методологически навязывалось русской литературе XX в., при этом экзистенциальное мировоззрение официальная политика сознательно гасила. Наступление в 1930-е годы политизированного сознания на экзистенциальное – образец искусственного прерывания естественной логики литературного процесса. В XX в. экзистенциальное сознание реализуется в разных статусах и ипостасях: как парадигма художественного мышления и тенденция литературного процесса, как мощная субстанция творчества писателей разных платформ и стилей. Не локализовавшись ни в одной эстетической системе, русское экзистенциальное сознание воплощается как метасознание, как адекватный веку тип художественного мышления, как универсальный знаменатель русско-европейского литературного развития.
Диалог экзистенциальной традиции XX века с классической трансформирует все темы и проблемы литературы XIX столетия, унаследованные новым сознанием. В целостном, органичном (тяготеющем к эпическому) сознании литературы XIX века преобладал этический аспект, через него классическая литература выражала и осознавала себя как явление гуманистического искусства. Шкала ценностей определялась основными положениями христианской морали, сообщавшей классической литературе ее высочайший общечеловеческий потенциал.
В экзистенциальном сознании этический аспект не только не преобладает, но и не является центральным. В «мире без Бога» после переоценки всех ценностей еще предстоит установить пределы, поиск которых и становится важнейшим сюжетом экзистенциальной традиции. Этический аспект экзистенциального мировидения меняет акценты. Главным становится познание сущностей бытия без последующих дидактических и этических выводов. Делать эти выводы – прерогатива «свободных умов» (Ницше).
Мера воплощенности экзистенциального сознания в первой трети XX в. различна у разных художников, в разных эстетических системах; оригинальны индивидуальные версии разработки экзистенциальных параметров. Наиболее полно экзистенциальное мировидение приобрело очертания новой концепции человека и мира, оформилось в завершенную эстетическую систему в творчестве Л. Андреева и Андрея Белого.
I
Л. Андреев: «У самого края природы, в какой-то последней стихийности»
1От реализма к экзистенциализму
Сокровенные экзистенциальные глубины творчества Л. Андреева (невыявленные и неназванные) в разное время с разной интенсивностью и плодотворностью осмысления привлекали многих исследователей. С процессом «возвращения» Л. Андрееву повезло: «возвращался» он в историю литературы XX века в первой волне и одним из первых – в конце 1950-х—1960-е годы. Тем не менее и до сих пор он остается одним из самых неразгаданно-загадочных писателей XX века.
Л. Андреев наследует множество традиций реалистического XIX века (в нем – Гоголь, Достоевский, Помяловский, Левитов, Чехов, Толстой, ранний Горький), и при этом он своим модернизмом не только изменил блестяще усвоенным национальным реалистическим традициям, но приобрел и европейский облик: по типу мышления, видению мира, по слогу. По какой логике эта двойственность совмещается в судьбе и творчестве писателя?
В момент «возвращения» Л. Андреева весьма искусственно (отчасти вынужденно – в соответствии с идеологией эпохи и уровнем литературоведческих представлений) поместили в чуждую ему систему координат. Экзистенциализм в ту пору рассматривался как принципиально неродственное социалистическому мировоззрению течение буржуазной литературы и философии.
Андреева благородно привязывали к реализму, соглашаясь с тем, что он обновил традицию, но оставался все же приверженцем и обитателем этой эстетической системы. Не особенно прислушивались даже к признаниям самого писателя: «Может быть, это просто недостаток силы – но я никогда не мог выразить свое отношение к миру в плане реалистического письма. А вернее: это показатель того, что внутренне, по существу моему писательски-человеческому – я не реалист… Догматический реализм, обязательный для всех времен, племен и народов, я считаю началом враждебным не только себе, но и самой вечно развивающейся, творящей форме, как и суть свободной жизни» (письмо А.В. Амфитеатрову). Иногда допускали в творчестве Андреева соединение реализма и модернизма. В последние годы его объявляют одним из величайших романтиков начала XX столетия.
Л. Андреев оказался и в системе экспрессионизма, с которым его имя связывается и поныне. При определении некоторых формальных черт поэтики (даже не стиля, который в большей мере является зеркалом мировидения писателя), понятие андреевского экспрессионизма не стало сущностным, ибо не только не объясняет изначальную природу его таланта, его творчества как оригинальной художественной системы, но и камуфлирует истинную формулу индивидуального метода писателя. А потому настало время пересмотреть определение экспрессионизма по отношению к методу Андреева, сузить и ограничить ареал его употребления формальными приемами поэтики (не усматривая в генеалогии андреевского модернизма связи с немецкими группами «Мост», «Синий всадник» и творчеством Кирхнера, Xеккеля, Нельде, Макке) и уточнить, таким образом, природу андреевского модернизма.
Настало время отказаться и от неорганичных для писателя «систем координат», попытаться более точно определить его место в литературном процессе – не только в русском, но и шире – в европейском.
Л. Андреев, на наш взгляд, – один из основателей русской экзистенциальной литературной традиции; современник Кафки и Белого, в творчестве которого реализуется совершенно оригинальная для русского экзистенциального сознания и европейского экзистенциализма типологическая модель – психологический экзистенциализм; в русской литературе в его творчестве экзистенциальная концепция воплотилась как целостное концептуально-стилевое явление. Будучи убежденными в таком определении сути андреевского творчества и места его в русско-европейской экзистенциальной традиции XX века, мы и предложим анализ произведений Л. Андреева в данной системе координат. Обозначим основные концептуальные и эстетические трансформации раннего андреевского реализма, движение его к экзистенциальному мировидению и поэтике.
Трансформации андреевского метода из реализма в модернизм не неожиданны, а, скорее, органичны для самой природы его реализма. Если говорить о соотношении реалистической и нереалистической субстанций в методе Л. Андреева, то вначале в нем преобладали элементы реализма, с эволюцией поэтики в ней усиливаются элементы нереалистические. Предрасположенность андреевского реализма к модернистским трансформациям заключается, например, в том, что он никогда не берет явление в статичном, завершенном, состоявшемся, одномерном измерении. Он работает на динамических и антиномических границах да и нет. Традиционный тип маленького человека анализирует на границе «встречи» в Гараське человека и маленького человека, в момент «прозрения» героя («Баргамот и Гараська»); в Петьке «встретятся» мальчик и ребенок («Петька на даче»). Уже это дает новые ракурсы и масштабы видения явлений: многомерность, способность обнаружить проблему в разных плоскостях.
Трансформации андреевского метода связаны с его сосредоточенностью на проблеме одиночества («У окна»), на потенциально экзистенциальной ситуации, лабораторно моделируемой писателем: экспериментальное одиночество человека, сознательное отторжение его от людей, и, как следствие, деформированная психика одинокого человека, неизбежно аномальная и больная. Причем это психика как таковая, без социальной и исторической мотивации, что было свойственно Достоевскому, в русле традиций которого молодой Андреев работал.
Этапом андреевской концептуальной и стилевой трансформации из реализма в модернизм является его «Город». Город – трагическая судьба человека, как это было в первых произведениях писателя и в творчестве других русских урбанистов начала века. Но и в «Городе», и в «Проклятии зверя» сам образ города тяготеет, скорее, к модернистским характеристикам, к модернистскому видению и стилистике в традициях кубистов, раннего Маяковского, Пикассо. Это – живой город; мертвая точка в его пространстве – человек. Происходит развоплощение материи, развеществление существа, игра планов и плоскостей, болезненное проникновение в суть вещей и явлений. Город – суженное пространство, замкнутый круг человеческого одиночества и человеческой жизни. Человек стал частью всеобщего потока – жизни; живой физически, он уже перешел в статус умирающей, разрушающейся материи, утратил в своем одиноком существовании энергию интеллектуальную и несет в себе лишь примитивно-эмпирическую энергию неживой материи. Обреченность на одиночество и обреченность на смерть окончательно замыкают в этих произведениях для писателя круг человеческой жизни.
Стимулом к трансформациям андреевского метода является усиливающаяся концептуальность его рассказов. В начале 1900-х годов творчество писателя определяют новые концептуальные и стилевые характеристики: обращение к экзистенциальным сферам человеческого бытия; появление модернистской стилистики; сужение психологизма до исследования деформированной психики одинокого человека; усиление идеи роковой обреченности человека на одиночество, на интеллектуальное и физическое распыление; появление рассказа-концепции, в основе которого – психологический эксперимент.
Писатель целенаправленно сосредоточивается на исследовании психологических первооснов человека, которые раскрываются в пограничных ситуациях: жизнь и смерть, рационализм и безумие, совесть и освобождение от моральных принципов, живая и неживая материя и т. д. В будущем эти границы приобретут характер экзистенциальный в самой постановке вопроса: где граница человеческого? На этом этапе реалистическая поэтика уступает место новой – модернистской. Многие из этих принципов сосредоточивает в себе рассказ «Мысль». Обращаясь к пограничью «совесть и интеллект», Андреев приходит к выводу, что разрушение морали – это неизбежный путь к разрушению интеллекта. Встает и ряд вопросов всеобъемлющих: есть ли предел той цепочке зла, что вырастает из эксперимента, устанавливающего принципиальную возможность для человека перейти за грань, а превращается в угрожающе широкую дорогу по ту сторону зла? Ведь «для меня нет судьи, нет закона, нет недозволенного. Все можно». В «Дневнике Сатаны» проектами опытов в больших размерах делится с Сатаной-Вандергудом Фома Магнус: все пределы преодолены в такой степени, что даже Сатана оказывается жертвой зла человеческого. Никаких внешних пределов разрушительной энергии человеческого зла быть не может, если нет предела в самом человеке. Но его нет: «так много богов и нет единого вечного Бога». Этим богом могла бы стать совесть. Но угроза ей – интеллект. Круг замкнулся – вопрос остался без ответа.
В начале 1900-х годов Андреев вступает на рискованную для писателя грань сознательного и подсознательного в человеке, перенося в эту сферу идею развеществления существа, развоплощения плоти: кульминации она достигает в «Красном смехе», где модернистская поэтика оформилась в целостную систему.
Граница живой и неживой материи – предмет исследования в «Жизни Василия Фивейского» и «Рассказе о семи повешенных».
Если в первом случае мы наблюдаем предельное усиление условности, вхождение в поэтику образов, которые впоследствии сконструируют театр идей, то во втором случае писатель, ставя своего человека в пограничную ситуацию за день до казни, показывает этапы деформации психики: психика, сознание разрушаются раньше, чем наступает момент физической смерти. Мозг – уже на грани жизни и смерти, он раньше проживает эту границу, чем человеческая плоть. Биологически живая материя с разрушением интеллекта превращается в неживую раньше, чем наступает момент физического умирания.
Эти «границы» очевидно вписывают Андреева в контексты европейского экзистенциализма XX века. Ближайшие из них – «Стена» Сартра, «Посторонний» Камю, «Процесс» Кафки. Они и свидетельствуют о конечной точке трансформаций андреевского реализма.
Существенно и принципиально в предложенных наблюдениях над диалектикой трансформации андреевского реализма то, что к своему экзистенциализму Л. Андреев идет путем Толстого – из реализма: экзистенциальное мироощущение у него, как и у Л. Толстого, зреет в недрах реализма. Конкретные этапы и проявления этой эволюции вполне оригинальны и свидетельствуют о том, что повторяя путь Толстого, молодой писатель не только не копирует его содержательно, но создает принципиально отличный от толстовского тип психологического экзистенциализма – явление неповторимое и для русской, и для европейской экзистенциальной традиции. Модель психологического экзистенциализма осуществляется у Андреева как целостная, завершенная эстетическая система.
Парадоксально, но впервые экзистенциальные параметры творчества Л. Андреева почувствовал и импрессионистически описал Ю. Айхенвальд: его негативные оценки Андреева как раз являются косвенными характеристиками андреевской экзистенциальной манеры. Оправдано будет продемонстрировать весьма объемные фрагменты раздела о Л. Андрееве из «Силуэтов русских писателей»: «Андреев не различает между главным и второстепенным, выбирает не существенные, а случайные признаки предметов. Одна подробность… лепится на другой. Сумма не есть синтез… его накопление не есть богатство»; «Автор, отвлекая нас от важного и вечного средоточия вещей, от страдающего героя, создает изнурительную и тягостную децентрализацию… только соседство, смежность, а не внутреннее сродство явлений. Беспомощно блуждая по лабиринту человеческой души… почти никогда не попадает в цель и центр предмета, а лишь кружит около него… правда от него бежит… изысканная и пестрая толпа его мнимо-утонченных выдумок… далеко не систематизированы… органически не правдивый …искажает истину… не смотрит в глаза правде, не служит жизни, а ткет из себя какую-то паутину… пишет свои схемы… не реалист и не фантаст… не видит ни того, что есть, ни того, что может быть… [образы] только маски [соображений]… своеобразный писатель-максималист… много страхов и содроганий… многое и большое нужно Андрееву… на мелочи смотрит в лупу… не показывает… в чем настоящий трагизм бытия… изображая жизнь и смерть человека… не проникает в тайники духа… умеет… анализировать, расслоять, но не собирать… философ… хочет понять жизнь под знаком Некоего в сером… хочет сказать правду, а говорит ложь… все преувеличивает… «размазывает»… возводит в куб… производит эксперименты… занимается «экспериментальной психологией» («Петька на даче»).
Из сердитого и довольно однообразного эмоционального обвала негативных характеристик Андреева мы сознательно выбрали типологические – относящиеся к сущностному определению своеобразия творческого метода писателя. Заметим, что в методологии Айхенвальда для более убедительного разоблачения Андреева работают два приема: поиск фона (реалистического, по преимуществу: в сопоставлениях с Толстым, Чеховым наиболее очевидно «проваливается» интерпретируемый автор) и сослагательная форма (все частные методические поучительства беспрерывно сопровождаются оборотами «были бы…», «если бы…», «мог бы…», «должен был бы…» и т. п.).