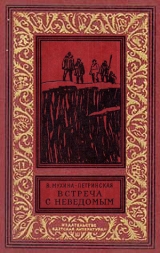
Текст книги "Встреча с неведомым"
Автор книги: Валентина Мухина-Петринская
Жанры:
Детские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
Из всех участников экспедиции я больше всех знал Женю. Он часто приходил к нам, с тех пор как осиротел. Бабушка очень его любила и всегда пекла для него его любимый «вертут». Женя иногда оставался у нас и ночевать: когда не в силах был видеть отчима. Женина мама вскоре после гибели мужа вышла замуж, и Женя не простил ей этого замужества, потому что отчим был давнишний недоброжелатель его отца. Отчим тоже был научным работником, доцентом, но он предпочитал ездить в экспедиции за границу, но не на Север – на какое-то никому не известное плато. Жениного отца он называл «идеалистом» за то, что он не умел зарабатывать много денег, и еще за то, что не сумел отказаться от рискованной экспедиции на плато.
Женя боготворил отца и потому избрал для себя его специальность – геофизику. Как я уже упоминал, Женя и моего отца любил и никогда не ставил ему в укор гибель его спутников. Папа считал его очень одаренным ученым и прочил Жене большое будущее.
Женя был еще в аспирантуре, когда его «проект кольца» произвел целую сенсацию. Полностью проект назывался так: «Изменение климата и создание искусственной освещенности в ночное время на обширной территории земного шара при помощи кольца из мелких частиц, вращающегося вокруг Земли».
Об этом проекте я еще буду говорить. Пока только скажу, что его отвергли. Женя говорит это потому, что «проект кольца» опередил свое время. Он уверен, что примерно к двухтысячному году его примут.
Женя, по-моему, очень красив (Валя Герасимова этого почему-то не находит). Он высок, худощав, строен, у него серо-синие, с постоянной смешинкой глаза, светло-каштановые блестящие волосы, матовый цвет лица, не поддающийся почему-то загару, упорный подбородок, крупный волевой рот. Единственное, что в нем нравилось Вале, как он ест.
– Большинство мужчин очень противно едят, – сказала Валя с гримасой, – а Женя ест красиво!
По-моему, Валя изрядная чудачка: из всех достоинств человека заметить одно, самое несущественное.
Весь путь до плато я раздумывал о первой неудачной экспедиции. Мало я о ней знал. Отец не любил о ней рассказывать… Потом я вспоминал о школе, о ребятах и старался не смотреть в окно, чтобы не замутило.
…Все-таки я тогда был еще очень мал, хотя меня и считали развитым не по летам. Теперь, став на несколько лет старше, я иными глазами смотрю на мир и понимаю многое, что я тогда не понимал, а только смутно чувствовал. Почему-то зафиксировала же моя память то, что я мог понять лишь юношей…
Подавленное настроение начальника экспедиции и сыновняя скорбь Жени передались остальным, и, когда мы через несколько часов подошли к плато, все поднялись со своих мест с каким-то странным выражением лица– очень взволнованные.
– Взгляните на плато сверху, – торжественно предложил отец.
Дверь в кабину пилота была открыта, и мы столпились за спиной Ермака (он один только не приуныл).
Вертолет медленно описывал широкий круг: Ермак искал место для посадки.
Насколько хватал глаз, простирались величественные горные кряжи, заросшие лиственницами или убеленные снегом. Нестерпимо сверкнул на солнце ледник, сползавший в узкую затененную долину между обрывистых скал. Где же плато? И вдруг я увидел его, как скошенную плоскость: огромное базальтовое плато с круглым озером посредине. Над озером повис туман.
– Надо найти место, не открытое ветрам! – прокричал Ермак: ужасно гудели моторы.
Но Ангелина Ефимовна потребовала пройти чуть дальше к северу, она хотела видеть с высоты птичьего полета вулкан.
Ермак повернул ручку управления влево, а потом к себе. Вертолет легко повернул и взмыл вверх. Мы стремительно пронеслись над острой, скалистой вершиной. Далеко внизу, в страшной глубине почти черного, отвесного ущелья, пенилась узкая горная река. Вырываясь из ущелья на простор долины, она сразу широко и свободно разливалась между огромных камней.
Необитаемы были эти места и суровы – белое пятне на геологической карте. И горы эти, и реки, и величественное плато, еще безымянные, ждали своих открывателей. Параллельно пересеченному нами хребту тянулась черная, как антрацит, долина, резко выделяющаяся среди зеленых и пестрых склонов гор. Вертолет пролетел над черной долиной, покрутился, как птица, над высокими, мрачными горами и замер в воздухе. Под нами поднималась гигантская воронка с зияющим крутым кратером. От нее и начиналась черная каменная река, залившая дно долину—лавовый поток.
– Вулкан! – заорал я во все горло, совершенно потрясенный.
Ангелина Ефимовна впервые глянула на меня благосклонно.
Ермак беспощадно повернул назад, не слушая воплей профессора.
– Горючее! – крикнул он.
Покрутившись над плато, Ермак перевел вертолет на режим планирования и «произвел расчет на посадку». Прежде чем окончательно приземлиться, осторожный Ермак подержал вертолет на высоте двух метров, огляделся внимательно и лишь тогда поставил машину на колеса.
Отец выскочил первым, я – за ним. Мы стояли на плато. Сколько раз я о нем слышал, сколько видел его во сне – загадочное, пугающее, первобытное.
…Не так давно я со своим приятелем, одноклассником Вовкой, был на выставке картин американского художника Рокуэлла Кента.
Его гренландский цикл!.. Я как увидел, так и застыл. Вовка ждал, ждал меня, рассердился и ушел домой. А я был до самого закрытия. Дело не в сходстве ландшафта, но такие картины Кента, как «Гора, отражающаяся в воде», «Пасмурный день», «Охотники на тюленей» и, в особенности, «Пролив Адмиралтейства», передавали самый дух плато, как бы его сущность. Что-то мрачное, суровое, недоброжелательное к людям таилось в этом плато…
Угрюмые, обрывистые скалы, отражающиеся в совершенно прозрачном озере, издали походили на стариков, державших совет на берегу. Иногда скалы заволакивал пар, выходящий из воды, и тогда казалось, что «старики» наклоняются друг к другу. А гребни гор с выступающими жилами гранита были похожи на зубчатые стены средневековой крепости, придавая какой-то мрачный и фантастический отпечаток всему ландшафту. Покрытое мхом и редким лесом, плато круто обрывалось на юго-востоке. Дальше синела сплошная бесконечная тайга, прорезаемая заснеженными горами…
Мы еще не осмотрелись как следует, а Ермак уже стал нас торопить ставить палатку. Он хотел устроить нас получше до своего отъезда. Он и место выбрал для палатки – в затишке, под скалой.
Сначала мы выгрузили из вертолета все снаряжение и сразу стали рыть котлован для палатки. Отец хотел поставить пока временную палатку, но Ермак настоял на стационарной. Ему хотелось нам помочь. Отец, наверное, рассудил, что пара лишних мужских рук не помешает, и уступил.
Палатка получилась уютной. Двойная, натянутая на деревянный каркас, с настоящими окнами, дверями и даже сенями. Мы ее наполовину врыли в землю. Чтобы войти, надо было спуститься на четыре ступеньки.
– Землянка! – сказала Валя.
– Ничего! Зато теплее будет, – усмехнулся Ермак.
Кудесник принимал самое деятельное участие в хлопотах – тявкал, носился взад и вперед и путался у всех под ногами, пока Бехлер не вытянул его веревкой. Тогда он обиделся и отошел. Я тоже обиделся, но ничего не сказал.
Я помогал как мог, чтобы никто не сказал на меня: обуза! Подтаскивал вещи, искал то молоток, то гвозди, которые куда-то исчезали, бегал за водой – мы с Валей сразу отыскали неподалеку ручеек хрустально чистой воды, вытекающий из-под горы, – разжигал костер, собирал топку для костра и помогал маме варить для всех уху на обед. Под конец так устал, что высунул язык не хуже Кудесника. Даже папа обратил внимание и приказал мне успокоиться и посидеть. Остальные давно уже уговаривали меня отдохнуть.
Оказывается, мы с собой и мебель привезли раскладную: два стола, кровати, стулья. Все это аккуратно расставили в палатке с земляным полом. Валя сказала, что найдет глину и вымажет пол, как это делают в деревнях на Украине. А Ермак пообещал достать в Магадане линолеум, чтобы было теплее ногам и мыть легче.
Как только мы пообедали (или поужинали?), сразу легли спать: очень устали, просто из сил выбились. Солнце не заходило ни вечером, ни в полночь, а только чуть коснулось макушек «стариков» и опять покатилось по небу с севера на восток – огромный, чуть сплюснутый розоватый шар. Мы легли в палатке, а Ермак спал в вертолете.
Неугомонный пилот разбудил нас через пять часов… чай пить. Он уже приготовил нам завтрак: нажарил свежей рыбы, закупленной в Крестах. Пока все ели без особого аппетита – не выспались. Ермак обсуждал с отцом, как смастерить баньку. После завтрака мы взяли пилы, топоры и отправились в ближайший лес на заготовку бревен для бани.
А Жене Казакову нужно было подыскать пару подходящих деревьев под гелиограф и актинометрическую стрелу.
Никогда я не думал, что в этих краях может быть так хорошо!.. Мы спустились с плато по высокой, но достаточно пологой седловине и очутились в лесу. Сразу стало жарко, остро запахло травами. Воздух буквально звенел от гомона и стрекотания кузнечиков, словно мы были где-то на Ветлуге или Волге, а не в Заполярье. Кузнечики так и выпархивали из-под ног, трепеща ярко-красными надкрыльями. Под высокими лиственницами в яркой траве розовел иван-чай, синели колокольчики и какие-то неизвестные желтые цветы, похожие на астры. Я сорвал цветок и понюхал – пахло ванилью.
Мы прошли еще немного, ив просвете деревьев сверкнула река Ыйдыга. Необыкновенно чисты и свежи были ее желтые отмели, быстро струилась вода, такая прозрачная, что до самого дна видна была каждая кружащаяся веточка, каждый камешек. Стаями ходили хариусы. Селиверстов и моя мама – оба страстные рыболовы – пришли в неописуемый восторг. Первый раз я видел Селиверстова таким возбужденным; обычно он молчалив, кроток и грустен.
Мы быстро напилили деревьев и, нагрузившись, как лошади, вернулись на плато тем же путем через седловину. Наскоро закусив и выпив чаю, стали ставить баню и радиостанцию. Провозились До часу ночи, благо солнце светило как днем,
Когда строительство было закопчено (остались кое-какие недоделки) и все буквально валились с ног, помышляя только о сне, Ермак стал прощаться. Я подумал, что вот он сейчас возвратится в город, а мы останемся здесь… Кучка людей в самом сердце гор – на сотни километров вокруг ни одного жилья, ни одного человека. Только дикие звери и птицы.
– Отдохните хоть часа два! – сказал отец.
Ермак махнул рукой и улыбнулся устало и добродушно. Все стали убеждать его отдохнуть.
– Некогда, друзья, это ведь почтовый вертолет. Люди третий день без почты.
Мы переглянулись: вот откуда взял Фоменко «свободный» вертолет!
Я чуть не заплакал, прощаясь с пилотом. Так я привык к нему за эти три дня, будто знал его много лет. Всем было жаль расставаться с ним.
– Не скучайте, месяца не пройдет, буду у вас, – заверил Ермак. – Доставлю все, что вы заказали. Пока буду хлопотать насчет финского домика – его можно доставить в разобранном виде. А палатка пригодится для склада…
Он крепко пожал всем руки, меня расцеловал в обе щеки и закрылся в вертолете. Еще раз мелькнуло его милое рябое лицо за стеклами, и вертолет поднялся с плато, как фантастическая стрекоза.
Долго мы смотрели вслед, пока вертолет не скрылся за вечными снегами гор.
– Какой хороший человек! – сказал кто-то, выразив вслух общую мысль.
Медленно пошли в палатку и улеглись спать.
Скоро все уснули, а ко мне почему-то сон не шел. Солнце, видимо, заволокли тучи, потому что сразу потемнело. Кудесник сладко уснул у меня в ногах. Я ворочался и ворочался на своей раскладушке, пока мне не понадобилось выйти. Не надо было пить чай на ночь. Я осторожно прошел между раскладушками, поправил у мамы сползшее одеяло и вышел за дверь.
Дул холодный ветер, солнца уже не было. Слоистые серые облака низко нависли над плато.

Я зашел за палатку, постоял там и повернулся идти спать… как вдруг увидел человека. Он выглядывал из-за скалы, у которой мы поставили палатку. Я встретился с ним взглядом: страшное, опухшее, бородатое лицо с горящими глазами. На мгновение мы оба замерли.
Потом я закричал – дико, пронзительно, вне себя от ужаса. Я так орал, что все выскочили из палатки. Отец схватил меня за шиворот и стал трясти, как нашкодившего щенка, за то что я его разбудил.
– За скалой человек! – кричал я ему.
– Здесь никого не может быть, трусишка! – сурово оборвал меня отец. Ему было неловко перед товарищами.
Никто не поверил мне, что я видел человека. Но ведь я действительно видел его.
Почему они не поверили мне?!
Глава пятая
ИСТОРИЯ СЕЛИВЕРСТОВА
Мы работали до упаду. Я вообще не понимаю, как мы выдержали такую нагрузку. Шесть часов мы спали как убитые, без просыпу, без сновидений, а восемнадцать работали.
Научные работники пробовали сократить сон до пяти часов, но, по счастью, у них начались головные боли. Дело в том, что некоторые работы можно проводить только летом, а лето здесь короткое, всего два с половиной месяца. Кроме того, надо же было подготовиться к зиме, к долгой полярной ночи. А людей было слишком мало. Не хватало рабочих, не хватало и научных сотрудников.
Так, например, в комплексной этой экспедиции совсем отсутствовали зоолог и ботаник.
Наши совсем забыли, что я еще мальчик, на меня навалили столько обязанностей, что я просто изнемогал. О том, чтобы похныкать, и речи не было, раз они забыли, что я маленький.
На меня возложили сбор ягод (витаминов) к зиме, заготовку топлива (сушника) на каждый день на разжигу и впрок. Я был неизменным подручным повара Селиверстова, а когда Фома Сергеевич был нужен маме для геологических и гидрологических наблюдений, поварские обязанности преспокойно возлагали на меня. Не удивляйтесь: стряпать я научился еще прошлым летом, когда мы с отцом бродили по Ветлуге.
Я им готовил всякие супы из консервов, кулеш из пшена, каши, кисели, а чаще всего рыбу, которую приносили мама и Селиверстов. Уха из хариусов (с лавровым листом и перцем) получалась у меня очень вкусная. Ягоду на кисель я набирал сам – в лесу было полным-полно красной смородины. А потом пошла голубица, брусника, морошка.
Видела бы меня бабушка, как я огромным половником – с мою голову – разливаю суп семерым оголодавшим взрослым и как они смотрят на меня такими жадными глазами, что невольно является мысль: попробуй не приготовь им, так еще, чего доброго, съедят живьем. Это я, конечно, шучу, просто жалко их.
Селиверстов и Бехлер копали погреб, заготавливали дрова на зиму. Уже целый штабель напиленных и наколотых дров возвышался возле палатки. Бехлер любил поворчать и ворчал, что отродясь не слышал, чтобы на Крайнем Севере жили в палатках. Он уверял, что зимой мы все померзнем. Селиверстов был оптимистом, не помню его не в духе. Он всему радовался, верил только хорошему и считал, что если из железной бочки, которую выбросил с вертолета Ермак, сделать печку, то в палатке будет даже жарко, но каждый день чем-нибудь утеплял палатку.
А у меня работы все прибавлялось. Я уже и баню топил, и воду таскал, и в палатке убирал, и подметал. А однажды утром отец при всех вручил мне сачок для ловли бабочек и насекомых, плоские ящики для коллекций и ботанические папки и заявил, что, поскольку на опытной станции отсутствуют ботаник и зоолог, их обязанности возлагаются на меня.
Мама все же прибавила, чтобы я один далеко не отходил: может напасть медведь или росомаха. На что папа сказал: «Надо его научить стрелять и дать оружие». С этого дня он стал меня учить стрелять – хоть по десять – пятнадцать минут в день.
Хладнокровный человек! По его мнению, я сам должен был защищать себя от медведей… Только не медведя боялся я.
Ох этот страх! Я боялся, когда оставался в лагере один. Боялся, когда шел за водой к источнику. Боялся в лесу, собирая ягоду или бегая с сачком за насекомыми. Я все время думал о том человеке, которого видел. Я-то ведь знал, что мне не померещилось и не приснилось. Но попробуй скажи такому отцу, как мой, что боишься. Не обрадуешься!.. Хорошо еще, если просто даст по шее, чтобы не болтал глупостей, а то как посмотрит на тебя с брезгливостью – весь краской зальешься и в пот бросит.
И только один человек мне верил – Женя Казаков. Он постоянно спрашивал меня, каков был незнакомец с виду, какого роста, какие глаза, а потом расспрашивал отца (я сам слышал), какой был из себя Алексей Абакумов. Отец сразу понял его и оборвал: со дня первой экспедиции на плато прошло более десяти лет, и Абакумов давно уже погиб. Увидев, что начальник экспедиции рассердился, Женя не стал спорить.
«Так, значит, это Абакумов!» – подумал я с ужасом.
Мама считала его сумасшедшим… Как же он жил здесь один целых десять лет? Почему он сбежал, когда экспедиция собралась в обратный путь? Когда отец, ослабевший, больной, с опухшими ногами, добрался до первого жилья, он заявил, что в тайге остался человек… Абакумова искали летчики полярной авиации, но не нашли.
Теперь я был твердо убежден в том, что Абакумов выжил и что у него были свои причины опасаться людей. Я стал еще больше бояться, но никому, даже Казакову, не говорил об этом. Назвался груздем – полезай в кузов. Я знал, что еще встречу этого Алексея Абакумова, раз он где-то здесь. Что сулит мне эта встреча? Вдруг он меня зарежет?
Все-таки я однажды проговорился об этом Жене.
– Надо сказать женщинам, чтобы не ходили одни! – вырвалось у него.
– Только Валя бродит где угодно одна, – сказал я. – Мама берет с собой Селиверстова, Ангелина Ефимовна уходит либо с папой, либо с Бехлером.
Женя задумался, погрустнел. Ему очень хотелось побывать у могилы отца. Начальник экспедиции обещал отправиться с ним к тому месту, где он его зарыл, но только зимой, сейчас это было невозможно.
– Дмитрий Николаевич, а вы не забыли это место? – спросил однажды перед сном Женя. Все уже лежали на своих раскладушках.
– Там стоит огромный крест, – сумрачно ответил отец.
Все удивились.
– Вы ставили крест? – спросила Ангелина " Ефимовна.
– Не я ставил, а землепроходцы, – непонятно ответил отец.
А когда мы потребовали объяснения, неохотно рассказал.
Еще по пути на плато экспедиция наткнулась на этот крест. Он стоял над рекой, огромный, три метра в высоту, восьмиконечный, темный. Его поставили лет двести назад, не меньше, наверное, в ознаменование какого-то события. Он весь почернел, прогнил, но держался. Была какая-то надпись, но время стерло ее. Три широкие поперечины были прикреплены к прямому брусу двухдюймовыми деревянными гвоздями, сделанными из сучков лиственницы. Из лиственницы был сделан и сам крест…
– И папа умер как раз у этого креста? – спросил пораженный Женя.
– Нет, он не дошел до него. Но я решил похоронить его возле памятника землепроходцев… Пора спать. – И отец повернулся к стене.
– Как же вы его донесли… Жениного папу? – робко спросила Валя.
– Была лошадь, она пала потом.
– А другой рабочий, он тоже умер от истощения?
– Нет. Это был крепкий деревенский парень, сибиряк. Он утонул, переправляясь через реку… Спите. Завтра рано вставать.
Больше никто не сказал ни слова, но долго не спали. Я тоже не мог заснуть. Я думал о том, как мало знаю своего отца.
Вообще люди мало знают друг друга. Кто нас удивил, так это Селиверстов.
У нас самые интересные разговоры велись перед сном, в постелях, когда «все косточки отдыхают», как говорила бабушка. Любопытная Валя спросила как-то раз Фому Сергеевича, где он работал прежде и как попал в экспедицию.
– Я работал в облторге… плановиком-экономистом, – тихо сказал Селиверстов. – Двадцать восемь лет на одном месте. Работу свою я выполнял добросовестно и аккуратно, и все же… не лежала у меня к ней душа. По существу… гм… я двадцать восемь лет был не на своем месте. Это, конечно, угнетало, и я, естественно, искал отдушины. Такой отдушиной для меня стала ботаника. Я, если можно так выразиться, ботаник-самоучка. Отпуск я проводил в лесу, под Москвой. Изучал дикорастущие травы. Ночами писал труды по ботанике. Одну статью у меня даже напечатали – «Во флоре СССР», – Ангелина Ефимовна устроила. Я ей все работы отсылал.
– Но как же… Почему вы стали экономистом, если любили ботанику? – с недоумением и жалостью спросила Валя.
– Молод был… еще не понимал своего призвания, – смущенно пояснил Селиверстов.
– Ничего подобного! Ты с детства увлекался ботаникой, – резко возразила Ангелина Ефимовна. – Мы ведь с Фомой учились в одном классе с самой первой группы… На одной парте сидели. Об его призвании к естественным наукам знала вся школа.
– Но как же… – начала было Валя.
– Не перебивайте меня, Валечка. Вам этого не понять. Вы целеустремленный, волевой человек, а Фома Сергеевич– размазня, слизняк! Пусть не обижается, это так и есть. Атрофия воли. Он с детства как огня боялся мамаши, учителей, директора школы, а впоследствии – жены и начальства по работе.
– Геля! Ангелина Ефимовна!.. – запротестовал Фома Сергеевич. У него даже голос задрожал. Кажется, он обиделся всерьез.
– Ангелина Ефимовна всегда преувеличивает, – успокоила его мама. Она слушала с большим вниманием, даже села на постели.
– Чушь! Ничего я не преувеличиваю. Так вот, продолжаю. Мы вместе сдавали в университет. Наплыв был огромный, и он не прошел по социальному признаку, как сын служащего. Тогда в первую очередь принимали детей рабочих. (У меня отец был машинист, у него – бухгалтер.) Так вот, его мать сама отнесла документы в планово-экономический институт, и там его приняли. И он пошел, как теленок. «Чтобы не пропал год». А потом терпеливо учился.
Он был на третьем курсе, когда умер отец, и на иждивении Фомы оказались мать и трое братишек. Надо было идти работать, содержать семью. Его приняли экономистом в этот самый облторг. Заканчивал институт он уже заочно.
К тому времени, когда он поставил своих братишек на ноги, он успел уже жениться и обзавестись своими детьми. Подозреваю, что не он женился, а его женили на себе. Во всяком случае, его жена оказалась такая же волевая женщина, как и мамаша. Я ее знала… Законченная мещанка. Говорить с ней было не о чем. Кроме цен на рынке и «плохих» соседей, она ничем не интересовалась.
– Ну, зачем же так… – вконец огорчился Селиверстов.
– Она никогда ничего не читала и не терпела в доме книг. Его занятия ботаникой считала самым пустым времяпрепровождением – ведь за них ему не платили. Как он, бедный, прожил с ней четверть века, не представляю! Но он прожил… ради детей. Дети выросли, поступили в университет, жена умерла, и он неожиданно оказался свободным…
– Все это не так, – расстроенно сказал Фома Сергеевич. – Жена была хотя строгая, но справедливая женщина. Прекрасная хозяйка и мать. Конечно, неразвитая. Но когда ей было читать? Хозяйство, дети… Когда я был на фронте, она работала буфетчицей в облторге и воспитывала детей. Если бы она не умерла, я все равно бы отправился в эту экспедицию. Я должен был ехать,
– Почему? – допытывалась Валя.
– Я могу рассказать.

– Так расскажите, Фома Сергеевич!
Селиверстов взволнованно приподнялся и сел на койке. В зеленой поношенной пижаме и без очков он казался каким-то другим, незнакомым.
– Это началось давно… – начал он. – Ну, неудовлетворенность работой, может быть, и домашней обстановкой… Какая-то тоска, стремление к чему-то неузнанному. Жена объяснила просто: «Ну, начитался!» Это правильно, что я каждую свободную минутку, если не занимался ботаникой, то читал. Мне от отца еще достались старые журналы: «Природа и люди», «Вокруг света», книги о путешествиях Амундсена, Беринга, Крашенинникова, Черского, история наших русских землепроходцев… Я эту библиотеку отчасти пополнил. Но больше за счет приключенческих романов. Брет-Гарт, Стивенсон, Конрад, Александр Грин, Беляев, Ефремов…
– А книги держал у старичка соседа, – вставила профессор Кучеринер, – потому что жена считала – в книгах заводятся клопы.
– Это было просто для души, как и занятия ботаникой. Я очень огорчался, что так и не полюбил свою основную работу. Далеко я не пошел. На какую поступил должность, в гой и остался все двадцать лет. Да я не честолюбив. Сослуживцы были люди очень хорошие, относились ко мне добро. Детки тоже у меня хорошие. Когда мать, бывало, начнет меня пилить (без этого со мной и нельзя), всегда принимали мою сторону. Жена даже обижалась на них за это. По-своему, я был, пожалуй, и счастлив..: пока не началась бессонница. С вечера я, выбившись из сил, засыпал, а среди ночи вдруг проснусь и лежу с открытыми глазами до рассвета. Не усну, да и все тут! Обращался к врачам – никакие пилюли и ванны не помогали. «Как неинтересно и серо прожил я свою жизнь», – думал я.
Почему я никогда не прошел пешком через тайгу к истокам рек? Не побывал на Камчатке у подножия вулкана. Ни разу в жизни не видел северного сияния, птичьих базаров, океана, необитаемых островов. Я всегда был по своим стремлениям исследователем. В детстве мечтал стать ученым. Названия наук кружили мне голову, как вино: океанология, биология, гидрография или вот геофизика – наука о Земле. Как интересно, даже сердце бьется при одном упоминании!
Зачем я позволил обстоятельствам скрутить меня? Я всегда говорил детям: «Смотрите выбирайте свою дорогу в жизни. Пусть никогда не придется вам вздохнуть о несбывшейся мечте». У меня два сына и дочь. Они-то сразу узнали среди множества троп свою единственную. Я рад.
Так проходило время, и я тосковал все сильнее… Иногда я видел во сне какие-то реки., моря, незнакомые берега, горы, обрывы, ущелья… узкие долины, заросшие невиданными цветами. Сколько в мире есть заманчиво-любопытных уголков!.. Я старел, волосы мои поседели, а мечты и стремления у меня были юношескими.
Только одному человеку я не стеснялся об этом говорить – Ангелине Ефимовне. Встречались мы, конечно, редко, раз в два-три года. Все-таки она все обо мне знала.
Когда жена умерла, я… вдруг уволился из облторга. Пошел в ботанический сад… там нужны были рабочие. Ну, я и поступил рабочим. Соседи решили, что я сошел с ума, но я был счастлив. А потом Ангелина Ефимовна предложила мне место рабочего в экспедиции.
Мы долго-долго молчали, растерявшись перед этой трагедией. Человеческая жизнь и без того коротка, короче жизни попугая, черепахи, щуки, и просто ужасно видеть, что целых двадцать лет ушло на заблуждение. Словно бедняга Рип ван Винкль, проспавший два десятилетия как одну ночь.
Отец сказал, что сразу догадался о том, что Селиверстов – ботаник. Я еще раньше его догадался. Фома Сергеевич все эти дни очень помогал во флористических сборах и даже сам размещал растения в папках по семействам и надписывал по-латыни. Отец спросил меня, кто надписывал, но его отвлекли и он забыл об этом, может, подумал на Валю Герасимову.
Вдруг мы услышали всхлипывания. Мама лежала, уткнувшись лицом в подушку, и плакала. Мы с папой бросились к ней, а Валя– за водой. Все переполошились. Ни на кого история Селиверстова не произвела такого неизгладимого впечатления, как на маму. Несколько дней она ходила подавленная, грустная, а папа хмурился и был зол. А чудак Селиверстов работал с просветленным лицом и всему радовался. Словно он болел неизлечимой болезнью и вдруг излечился.








