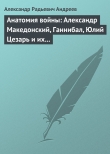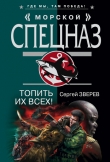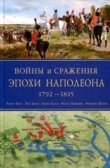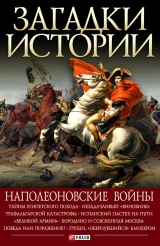
Текст книги "Наполеоновские войны"
Автор книги: Валентина Скляренко
Соавторы: Владимир Сядро
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Незадачливый «виновник» трафальгарской катастрофы
Трафальгар – незаживающая рана в сердцах французов
Сражение объединенного франко-испанского флота с английской эскадрой у мыса Трафальгар 21 октября 1805 года – одно из величайших событий мировой военно-морской истории и подлинный триумф британского флотоводческого искусства. В ходе этой исторической битвы английская эскадра под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона разгромила франко-испанский флот, возглавляемый французским адмиралом Пьером Шарлем Вильневом.
В морском сражении Франция и Испания потеряли двадцать два корабля, в то время как Великобритания – ни одного. Во время битвы при Трафальгаре командующий английским флотом Г. Нельсон, чьи личная отвага и искусство флотоводца сыграли решающую роль в сражении, а его имя стало символом военно-морской мощи Великобритании, погиб. Будущий король Георг IV, который в молодости служил с Нельсоном, писал: «Одно только его имя говорило за себя. “Нельсон” и “победа” были для нас равнозначны, а в сердца врагов его имя вселяло страх и смятение». Трафальгарское сражение, являясь частью войны третьей коалиции [4]4
В третью коалицию, помимо Англии, входили Австрия, Россия, Швеция и Неаполитанское королевство. Позднее к ней присоединилась и Пруссия.
[Закрыть]и главным морским противостоянием XIX века, знаменито также тем, что стало одной из последних великих битв эпохи парусного флота. Но для трех народов, морские силы которых встретились в решающей схватке у испанского берега в Атлантическом океане, эта битва имеет разное значение. Для англичан Трафальгар – это триумфальная победа, которая принесла Англии больше столетия безраздельного мирового господства на морях. После нее страна стала полновластной хозяйкой океанов. Британский флот стал своеобразным гарантом безопасности островной торговой империи, так как обладал возможностями для нанесения ощутимых ударов по континентальным государствам Европы. Англия доказала свою решимость бороться до победного конца и продемонстрировала всему миру влияние морской мощи, которая не только защитила Британские острова, но и сыграла важнейшую роль в разгроме Наполеоновской империи. После поражения при Трафальгаре Наполеон Бонапарт оставил свой план нападения на южную часть Англии и начал войну против двух других главных сил Европы: России и Австрии. Какая-либо конкуренция с Великобританией на море была признана невозможной – сначала Наполеоном, а затем – и правителями других государств. Наряду с битвой при Ватерлоо, Трафальгар стал знаковым событием, завершившим длительный англо-французский конфликт, который получил название Вторая Столетняя война.
Для испанцев же Трафальгарское сражение было и остается горьким поражением. Кроме всего прочего, битва ознаменовала начало заката владычества Испанской империи в Южной Америке. «Гибель таких капитанов, как Фредерико Гравина, Чуррука и Алькала Гальяно, была невосполнима, – утверждает испанский военно-морской историк Хосе Гонзалес-Аллер. – Мы потеряли надежду снова стать великой морской державой».
Еще более катастрофичным поражение в знаменитом сражении оказалось для Франции. В сердце французов Трафальгар до сих пор остается глубокой, незаживающей раной; бесполезной жертвой, принесенной отчаявшимся адмиралом Вильневом, которого Наполеон не без основания прямо упрекал в крушении своих планов. Говоря впоследствии об итогах Трафальгарской битвы, он сокрушался, что не сумел найти на пост главнокомандующего
морскими силами талантливого военачальника: «Я никогда не переставал искать человека, способного к морскому делу, однако же все усилия мои остались тщетными, и я не мог никаким образом найти такого человека. В этом роде службы есть такие особенности, такая техника, что все мои усилия не удавались… Встреть я кого-нибудь, кто бы сумел отгадать и привести в исполнение мои мысли, чего бы мы с ним ни сделали! Но во все продолжение моего царствования у меня не нашлось гениального моряка».
Несколько месяцев спустя после сражения адмирал Пьер Шарль Вильнев, которого обвиняли в поражении Объединенного флота, погиб в городе Ренн в Бретани от ножевых ранений. Обстоятельства его смерти так и остались невыясненными: по одной версии, не выдержав позора, вице-адмирал покончил с собой, согласно другой – Вильнева убили, отомстив таким образом за проигранное сражение. Но только ли французский флотоводец был виноват в исходе Трафальгарского сражения? И могла ли Франция избежать катастрофических последствий этой битвы? На эти вопросы историки до сих пор не могут дать однозначного ответа. Но, так или иначе, вся история и предыстория знаменитого сражения является красноречивым свидетельством пагубных последствий, к которым приводят национальное тщеславие и политический авантюризм. И упрекнуть в этом можно скорее не в меру амбициозного и честолюбивого Наполеона, нежели его нерешительного, хотя и добросовестного, знающего морское дело флотоводца.
Амьенский мир, или «война без войны»
Как известно, непрекращающееся противостояние шло между Великобританией и Францией в течение всего XVIII века. Точнее, это была целая череда войн. Первой стала война Аугсбургской лиги (1688–1697), затем последовали войны за Испанское (1701–1714) и за Австрийское наследства (1740–1748), Семилетняя война (1756–1763),
война за независимость США (1775–1783). Причиной этих постоянных конфликтов стало обоюдное стремление Великобритании и Франции к господству в Европе, а также к созданию колониальных империй в остальных частях света, прежде всего в Северной Америке и Индии. Кульминацией Второй Столетней войны стали наполеоновские войны (1800–1815). Никогда прежде и никогда позднее борьба Англии и Франции не достигала такого накала, как в этот период. В 1805 году главной наземной силой Европы была армия Первой Французской империи под командованием Наполеона; на море такой силой был королевский Военно-морской флот Великобритании.
В марте 1802 года Англия и Франция заключили в Амьене мирный договор, завершивший войну 1800–1802 годов между этими странами и распад второй антифранцузской коалиции. Однако для Великобритании Амьенский договор был невыгодным, поскольку, согласно его условиям, она отказывалась от всех своих завоеваний и обязалась возвратить союзникам все захваченные ею колонии, оставляя за собой лишь острова Тринидад и Цейлон. Кроме того, заключение этого договора не разрешило противоречий между Англией и Францией. Британская империя, которая в начале XIX столетия владела на Среднем Востоке и в Индии, стремилась захватить французские колонии и установить безраздельное господство в Европе. Поэтому мир не мог быть длительным. Заключая договор, обе стороны действовали неискренне, рассматривая его лишь как краткое перемирие, и готовились к продолжению борьбы. Недаром два года, прошедшие с момента его заключения, в Европе называли «войной без войны». Первой собрала достаточные силы для возобновления боевых действий Англия. В мае 1803 года, как и ожидалось, она снова объявила войну Франции.
К началу нового военного конфликта положение Великобритании укрепилось. За годы предшествовавшей войны и короткого перемирия британская морская мощь выросла неимоверно: только за восемь военных лет морские силы Британии увеличились с 135 линейных кораблей и 133 фрегатов до 202 и 277 соответственно (во Франции же, напротив, число таких кораблей уменьшилось с 80 и 66 до 39 и 35). Такому росту Британского флота в немалой степени способствовали 50 линейных кораблей, захваченных у Франции и ее союзников за время предшествующих военных действий. А между тем, число 50 было еще далеко от общего итога потерь союзных держав, потому что Франция лишилась 55 кораблей, Голландия ^18, Испания – 10 и Дания – 2. В сравнении с этими 85 линейными кораблями, захваченными или истребленными, жертвы Англии были гораздо менее ощутимы. С 1793-го по 1802 год Британский флот лишился не более 20 кораблей, причем из них только пять достались неприятелю, остальные же 15 стали жертвами различных несчастных случаев.
В декабре 1804 года на стороне французов неожиданно выступила Испания, объявившая Великобритании войну.
5 января 1805 года в Париже был подписан, а 18 числа того же месяца ратифицирован в Мадриде ее новый союзный договор с Францией. Согласно его условиям, Испания обязалась предоставить Франции к 21 марта свой достаточно сильный флот, то есть, по крайней мере, 25 линейных кораблей и 11 фрегатов. Пришвартованные в Картахене, Кадисе и Ферроле, эти суда должны были действовать совместно с французскими эскадрами. При этом военное управление всеми союзными силами было вверено Наполеону. Ситуация становилась весьма серьезной.
Неудавшийся план Наполеона
Прочность наполеоновского режима во многом зависела от успешной внешней политики и военных побед. Можно почти наверняка утверждать, что без этих побед Наполеон Бонапарт никогда бы не достиг вершины могущества и не удержался на ней. Армия, наряду с бюрократией и полицией, составляла важнейшую опору диктатуры, и чтобы иметь ее безусловную поддержку, нужно было вести ее от победы к победе. Победоносные войны давали Франции новые территории, богатство, расширяли сферу ее политического и экономического влияния. Поэтому с полным основанием Наполеон заявлял: «Победа даст мне возможность, как хозяину, осуществить все, что я захочу». Одержимый идеей мирового господства, он больше всего хотел одолеть своего главного противника – Англию. После провала плана ее сокрушения путем захвата британских колоний на Среднем Востоке и в Индии, Наполеон, принявший 2 декабря 1804 года титул императора Франции, изменил свой план борьбы против этой страны. На этот раз он решил нанести главный удар непосредственно по Англии путем вторжения своих войск на Британские острова. Осуществление наполеоновского плана высадки на Британских островах должно было разрубить одним решительным ударом сложный узел, завязанный продолжительной англо-французской войной. Оно должно было разрешить вопрос о соревновании двух держав, одна из которых владела лучшей в Европе армией и держала в своих руках все европейское побережье – от Копенгагена до Венеции, а другая обладала лучшим в Европе флотом, позволившим ей сохранять господство на море и блокировать порты европейского материка.
Наполеоном двигала не только жажда новых побед, но и осознание того, что Англия являлась самым главным и непримиримым врагом Франции. Он понимал, что благодаря своей великолепно налаженной дипломатии и богатым финансам Великобритания будет непрерывно натравливать на Францию все новых противников. Чтобы пресечь это, Бонапарт решил организовать прямое военное столкновение с Англией. Он неоднократно заявлял своим адмиралам, что ему нужно «даже не три, а два дня, даже всего один день спокойствия на Ла-Манше, безопасности от бурь и от британского флота, чтобы высадиться в Англии», и уверял их, что, «если вы сделаете меня на три дня хозяином Па-де-Кале…, то с Божьей помощью я положу конец судьбам и существованию Англии». И более того: «Овладев на сутки проливом, мы овладеем миром», – говорил он. Это предприятие было, несомненно, самой желанной мечтой Наполеона. «Высадить на британский берег корпус войск, достаточно сильный, чтобы овладеть каким-нибудь из главных приморских городов, было бы игрушкой для флотилии. Но покоритель Египта и Италии лелеял другие замыслы; он уже не довольствовался тем, чтобы напугать Англию: ему хотелось ее покорить», – писал Пьер Жюльен-де-ла-Гравьер Рош в своей книге «Война на море. Эпоха Нельсона». Как известно, эту мечту о покорении Туманного Альбиона он вынашивал еще до Египетского похода. «План вторжения, – справедливо заметил О. Уорнер, – занимал мысли Наполеона, по крайней мере с 1798 года, когда он не надолго приезжал в Дюнкерк и на побережье Фламандии».
Интересно, что все попытки вторгнуться на Британские острова были объединены одним и тем же стратегическим замыслом, одним и тем же оперативным направлением и, что особенно характерно, сходными техническими средствами осуществления. Это единство замысла и исполнения не было случайным. Оно подсказывалось необходимостью выбрать кратчайший путь вторжения и осуществить его при помощи средств, наиболее соответствующих особенностям Ла-Манша: изменчивости его течений, направлению попутных ветров и небольшим расстоянием между берегами канала. Поэтому, как когда-то Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт выбрал те же исходные базы для своих походов на острова и совершил или намеревался совершать их при помощи похожих транспортных средств.
Но экспедиция через Ла-Манш, задуманная Наполеоном еще в 1798 году, сначала не имела столь грандиозных масштабов. Наполеон просто следовал военным традициям, выработанным еще до него многочисленными англо-французскими войнами. Идея нанесения Англии удара «на флангах» – в Голландии или в Египте – отвлекла его. Однако Наполеон вернулся к своему плану сразу после того, как «фланговая» операция против Египта потерпела неудачу. Теперь его план за короткий срок обещал превратиться в грандиозное предприятие, до сих пор поражающее военных стратегов своим размахом и оригинальностью замысла.
Наполеон выстроил сложную комбинацию, которая по смелости и грандиозности могла соперничать с Маренгской и Аустерлицкой кампаниями и которая разрешилась в Трафальгаре. В 1804 году он разработал рискованный, но, похоже, единственный план, который давал ему шансы на победу. Располагая остатками морских сил Испании и Голландии, Наполеон намеревался собрать все имеющиеся у него корабли, чтобы на короткий срок создать в Ла-Манше значительный перевес сил, подавить английский береговой флот и успеть произвести за это время десантную высадку. Французский полководец намеревался перебросить через Ла-Манш почти 120-тысячную армию с кавалерией, артиллерией, обозом, большим запасом снарядов и продовольствия, со всем тем, что должно было сделать десантную армию независимой от сообщений с материком. Э. Дебриер, автор трехтомной монографии о проектах и попытках высадки на Британские острова, приводит полный список материальной части французской экспедиционной армии, подписанный Наполеоном в сентябре 1803 года. Согласно ему, через Ла-Манш должны были быть перевезены: 432 полевых орудия, 86400 пушечных зарядов, 32837 запасных ружей, 13900000 патронов, 7094 лошади, 88 повозок пехотного патронного парка, 88 фургонов, 176 обозных повозок. Столь огромная материальная часть ложилась тяжелой обузой на армию вторжения, что противоречило, казалось бы, главному условию, обеспечивающему успех десанта; но это было вынужденным мероприятием, поскольку Наполеон не мог рассчитывать на то, что пути сообщения с материком останутся в его руках.
Благодаря гениальным способностям великого полководца и новейшим достижениям военной мысли, на которых строилась его армия, успех военных действий на суше явно должен был быть на стороне Франции. К тому же Англия почти не имела сухопутных войск и не смогла бы дать противнику серьезный отпор. Одна крупная десантная кампания должна была навсегда уничтожить самого опасного врага Франции. Именно так рассуждал всецело поглощенный своими приготовлениями к высадке на Британские острова Наполеон, когда стягивал к проливу Па-де-Кале, в районе городка Булонь, который с давних времен играл роль плацдарма для вторжения, значительные военные силы. К середине 1805 года количество переброшенных сюда солдат достигло 180 тысяч человек. Все они проходили усиленную подготовку. Роты были расписаны по судам и знали порядок посадки. Бонапарт полагал, что его флотилия, вооруженная тремя тысячами орудий большого калибра, будет в состоянии сама проложить себе дорогу сквозь английские эскадры. Для этого нужно было только дождаться благоприятных обстоятельств: день штиля или день тумана – и дело сделано.
Наполеон намеревался тайно провести к Па-де-Кале все имеющиеся в распоряжении Франции суда. С возобновления войны до самого кануна Трафальгарской битвы все события сосредотачивались вокруг этой цели. «Это драма, медленно развивающаяся: видно как она завязывается, растет, на один миг приближается, по-видимому, к благополучному результату, и кончается – катастрофой», – писал об этом в своем труде Пьер Жюльен-де-ла-Гравьер Рош.
Для осуществления плана, разработанного Наполеоном, каждый из имеющихся в распоряжении Франции флотов должен был использовать ситуацию, когда ветер способствовал бы ему, но был бы неблагоприятен британцам, и вырваться из английской блокады, в которой уже на протяжении долгого времени находились корабли французов и их союзников. В дальнейшем флоты должны были совершить обманный маневр в сторону Карибских островов, чтобы запутать англичан, а затем вернуться к французскому Бресту. Дальнейшая операция имела два варианта предполагаемых событий: идти на прямой прорыв через Ла-Манш или обманным маневром вокруг Британии зайти к Голландии, где пополнить силы за счет местного флота (объединенные силы насчитывали бы 62 корабля), и только затем вести бой за проливы. План был полностью проработан и уже готов к осуществлению, когда в августе 1804 года умер вице-адмирал Левассор де Латуш-Тревилль – единственный талантливый французский флотоводец. Об этом человеке Пьер Жюльен-де-ла-Гравьер Рош писал: «Со своим деятельным умом и настойчивым характером Латуш-Тревилль был именно тот человек, который был необходим, чтобы пробудить французский флот из оцепенения, в которое повергли его последние несчастья. Пятидесяти девяти лет от роду, снедаемый лихорадкой, полученной на Сан-Доминго, Латуш был еще исполнен энергии, какой могла бы похвалиться самая цветущая молодость. Это была уже четвертая его война, потому что он начал свою карьеру под командой адмирала Конфлана, имел три частных сражения в Войну за независимость Америки, а в 1792 году под Неаполем и Каллиари с достоинством показывал трехцветный флаг, пред которым так ревностно желал унизить гордость Англии».
Лучшего офицера французского флота временно заменили молодым начальником, 34-летним контр-адмиралом Пьером Дюмануаром. Однако Наполеон желал видеть на таком важном посту более опытного и надежного человека и продолжал рассматривать другие кандидатуры. Операция по вторжению в Англию была задержана почти на полгода, пока Наполеон выбирал более достойную замену скончавшемуся Латуш-Тревиллю из оставшихся военачальников – Евстафия Брюи, Пьера Вильнева и Шевалье Росильи. В конце концов он остановил свой выбор на контр – адмирале Пьере Шарле Вильневе (1763–1806), отличившемся в свое время блестящей защитой Мальты. Вместе с тем надо сказать, что адмирал уже не раз проигрывал сражения. При этом стоит заметить, что во всех этих случаях, он имел возможность одержать победу в морских боях, но не сумел ею воспользоваться. Так было в 1798 году в сражении при Абукире, когда Вильнев, командовавший арьергардом французской эскадры, сначала не пришел на помощь своим товарищам, а после взрыва флагманского корабля, когда он должен был вступить в командование эскадрой, предпочел бегством спасти уцелевшие корабли. В результате битва была проиграна англичанам, которыми командовал отважный Горацио Нельсон. Зная об этом, Наполеон все же назначил на пост командующего французским флотом именно Пьера Вильнева. Позже свой выбор он объяснил наличием у контр-адмирала морского опыта и тем, что ему… просто не из кого было выбирать.
Но, назначая Вильнева командиром французского флота, Наполеон, конечно же, и представить себе не мог, что этому человеку предстоит снова стать виновником еще одного грандиозного поражения французов. «Вильнев, которому было тогда не более 42 лет, действительно, обладал многими превосходными качествами, но не такими, каких требовало вверенное ему дело. Он был лично храбр, сведущ в своем деле, способен во всех отношениях принести честь такому флоту, который, подобно английскому, имел бы одно назначение – сражаться; но его меланхолический темперамент, его нерешительность и пессимизм плохо соответствовали честолюбивым замыслам императора», – писал о нем Пьер Жюльен-де-ла-Гравьер Рош. Сам Наполеон впоследствии отзывался о Вильневе так: «Этот офицер в генеральском чине не был лишен морского опыта, но был лишен решимости и энергии. Он обладал достоинствами командира порта, но не имел качеств солдата».
Между тем промедление с выбором главнокомандующего стоило того, что осенью 1804 года операция уже не могла начаться, так как продолжать ее пришлось бы почти зимой, в на редкость неспокойных морях. Зато с началом нового года во французских портах закипела работа – флот готовился к активной кампании. По ходу дела планы императора претерпели довольно существенные изменения, основной целью которых были более успешная дезинформация противника и, одновременно, усиление собственных позиций в колониях. В двух письмах морскому министру Декре от 29 сентября 1804 года Наполеон писал о четырех экспедициях: одна из них должна была упрочить положение французских вест-индийских островных колоний – Мартиники и Гваделупы – путем захвата некоторых островов Карибскош бассейна, другая – захватить голландский Суринам, третья – овладеть островом Святой Елены и оттуда наносить удары по английским постам и торговле в Африке и Азии. Четвертая должна была стать результатом взаимодействия Рошфорской эскадры, отправленной на помощь Мартинике, и Тулонской, посланной завоевывать Суринам. С помощью этой экспедиции предусматривалось на обратном пути снять блокаду с Ферроля, присоединить находящиеся там корабли и встать на стоянку в Рошфоре, создав тем самым предпосылки для снятия блокады с Бреста и вторжения в Ирландию.
Наполеон не решился доверить Пьеру Вильневу выполнение смелого предприятия, задуманного им для Латуш-Тревилля. На этот раз он вознамерился двинуть в Ла-Манш брестский флот и контр – адмирала Гантома. Чтобы отвлечь внимание английских кораблей и удалить их от берегов Франции, он решил отправить две эскадры в Вест-Индию – контр-адмирал Миссиесси вышел из Рошфора 11 января 1805 года, спустя несколько дней Вильнев вывел свои корабли из Тулона.
Но на практике планы французского императора были с самого начала их осуществления поставлены суровой реальностью под угрозу: Вильнев, вышедший из Тулона 17 января 1805 года, вынужден был из-за сильного шторма вскоре вернуться обратно. «Эти господа, – писал Нельсон лорду Мельвилю, – не привыкли к штормам, которые нам в продолжение 21 месяца случалось выдерживать, не потеряв ни одной стеньги, ни одного рея». «Непривычка» к морю была одной из самых главных проблем во французском флоте. Вильнев, упавший духом от этой первой своей неудачи, писал адмиралу Декре: «Тулонская эскадра казалась очень исправной на рейде; команды хорошо были одеты, хорошо работали; но в первую бурю вышло другое. К бурям они не привыкли. Между множеством солдат трудно было отыскать матросов. Солдаты эти, страдая морской болезнью, не могли оставаться в палубах, выбирались наверх, и в толкотне невозможно было работать. Оттого и реи сломаны, и паруса изорваны, и, конечно, во всех наших повреждениях столь же виноваты неискусность и неопытность, сколь дурное качество вещей, отпущенных нам в порту». Как видим, хаос и беспорядок слишком часто сопровождали выходы французских эскадр в море. С каждым днем самоуверенность французов уменьшалась, а неприятель становился сильнее и сильнее. Вместо того чтобы выйти в море, невзирая на английские эскадры, и прорываться сквозь них силой, французы предпочитали ждать шторма, который бы заставил англичан снять блокаду и отойти от берегов.
Вопреки планам Наполеона брестская эскадра адмирала Гантома не смогла преодолеть блокаду англичан под командованием лорда Корнуоллиса, а именно ее соединению с тулонской придавалось наибольшее значение. 29 марта 1805 года эскадра Пьера Вильнева вновь вышла из Тулона и направилась к Карибским островам.
8 апреля она миновала Гибралтарский пролив. С этого момента, когда она стала реальной угрозой безопасности самих Британских островов, на историческую сцену вновь вышел военачальник, опрокинувший в итоге все планы французского императора – адмирал, лорд Горацио Нельсон. В этом человеке, в его биографии, подобно океану в капле воды, отразилась вся мощь и слава современного ему британского флота. Решительный и дерзкий флотоводец, обладающий не только личным мужеством, но и храбростью высшего порядка, одерживал победу за победой в войнах Англии с наполеоновской Францией. Британское Адмиралтейство, в мае 1803 года назначившее Нельсона главнокомандующим Средиземноморской эскадры, снова видело в нем ключ к спасению нации от угрозы французского вторжения. Хотя в верхах адмирала не любили, дальновидные политики ценили его. Популярность же его среди простых людей, особенно после Абукира и Копенгагена, была огромна. В народе считали, что Нельсон смел, удачлив, что он сможет наверняка нанести поражение врагу там, где другие это сделать ни за что не сумеют. Англичане перевели дух, а Нельсон вскоре понял, что никакой высадки на острова не предвидится. Однако в борьбе с французами на море надо было поставить окончательную точку, и это предстояло сделать именно ему…