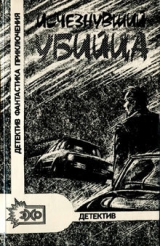
Текст книги "Детский сад"
Автор книги: Валентин Маслюков
Соавторы: Александр Ефремов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Дима остался один.
В подзаржавевшем висячем замке ключ повернулся со скрипом. Хава раскрыл дверь сарая и бросил замок куда-то внутрь – тот загремел.
– За-ха-ди, да-ра-гой! – сказал Хава с «кавказским» акцентом. – Гостем будешь!
Но Сакович не улыбнулся:
– Ай, Хава, пойду я!
– Куда?
– Пойду и все… надоело… тошнит аж!
Они помолчали, и Хава, не зная, как еще поддержать товарища, сказал:
– Не переживай, перекантуемся как-нибудь.
– Перекантуемся! – с горечью повторил Сакович. – Ты же во всем виноват!
– Я?
– Понимаешь ты своей башкой, – постучал по виску, – что мы теперь все сядем? Масло ему понадобилось. Это же надо было додуматься! – и Сакович выразительно развел руками.
Хава помрачнел. Откровенное малодушие товарищей напомнило ему об одном обстоятельстве, которое он всегда держал в уме, о котором всегда помнил: топить будут его. Все будут топить.
– Знаешь, как обо мне написали в характеристике, когда после восьмого класса из школы в училище вытурили? Социально опасная личность с ярко выраженными антиобщественными наклонностями. Наизусть запомнил с тех пор.
– Это ты к чему?
– А к тому! Напугал он! Сядем! Мне отец сказал, что сяду, только я говорить научился и стащил пятнадцать копеек. Что мне, одному сидеть? Втроем веселее будет. Отец говорил, и там люди живут, и очень неплохо некоторые. За тебя и Маврина, конечно, не уверен!
В эту минуту Хава и сам верил, что в тюрьму сесть для него дело плевое, в эту минуту Хава готов был сесть, только бы рядом с ним оказались и Мавр, и Серый.
– Когда меня заберут – весь город вздрогнет! Я сяду, да уж вас всех побегать заставлю! Уж придумаю что-нибудь, не беспокойся! Вчера один мужик дал мне адрес и телефон, просил для него запчастей украсть. Так знаешь, что я с его запиской сделал?
– Ну, что?
– А вот то! Я ее пьяному старику вместо свечки в руки вложил!
– Ты серьезно?
Все рушилось, летело к чертям, в бездну. Границы кошмара и яви стерлись, Сакович смотрел на Хаву и не понимал уже, живой, во плоти перед ним Юрка и можно двинуть его в прыщавую рожу, или бесплотное зло, химера, от которой не убежать, не скрыться.
– Попомнит меня гнида эта Михаил Павлович!
– Михаил Павлович?!
– Не понравился мне мужичок почему-то…
– Михаил Павлович? А телефон? Телефон, Хава! – Сакович, теряя самообладание, схватил приятеля за грудки. – Телефон! Михаил Павлович – отца моего зовут!
– Не помню я телефон, откуда?
– 42-27-11?
– Кажется… Точно, он.
Медленно разжал Сакович на Хавиной рубашке руки.
– Все! Сели. Вот почему отца утром забрали. Накрылись калошей.
Да и Хава растерялся, вопреки всему, что только что кричал:
– А что, «Жигули» такие синенькие, да? Больше в гаражах никого не было…
Сакович не слушал, вскинул вдруг голову:
– Знаешь, как с убийством разбираются?
– Почему убийство?
– Это я для примера. Чей удар…
Невысказанную, недоговоренную мысль товарища Хава понял и, демонстрируя, что имеется в виду, кулаком себя пристукнул сверху, «по кумполу».
– Вот именно, – подтвердил Сакович. – Не важно, кто бил, сколько, важно, чей удар… ну, главный. От чего это самое…
Слово «смерть» Сакович выговорить не мог.
– Чей удар – тому вышка. А выживает старик – десять лет. Ты представляешь себе, что такое десять лет, помнишь хотя бы, что с тобой десять лет назад было? Ничего, туман один. Десять лет – это такой срок, когда в середине ты забываешь, что было до этого, и не в силах представить себе, что будет потом. Это жизнь за решеткой. Твой отец, которому было так хорошо, сколько сидел? Два года. А ты выйдешь – сразу как отец сейчас будешь. Можешь себе представить? Самые сладкие годы, когда сок из тебя брызжет, как из весенней березки, где они, эти годы? Вон – крылышками трепещут. Далеко в небе. Были – не были, а где они? Беги по земле, руками махай – не взлетишь, не догонишь!
Сакович паясничал, бегал, изображая собой взлетающую птицу, а Хава, напротив, сник и без прежней уверенности возразил:
– Да что ему, старику, сделается?.. А потом… ну, что теперь?
– Что теперь? Я к отцу сейчас поеду!
От горячечных слов своих Сакович и сам пришел в возбуждение, хотелось ему немедленно что-то сделать, предпринять, исправить, если еще не поздно, возбужденная мысль его скакала:
– Знаешь что? Ты здесь сиди. Я с отцом поговорю. Может, и ничего еще. Он же тебя не знает. Можно такое сочинить… Ну, и спросить надо, что там случилось…
Хава уныло хмыкнул:
– Михаил Павлович? Ну, завал.
Когда Сакович ушел, Хава уселся на ящик, тот самый, на котором утром пацанами командовал, но сейчас сидел он вялый, опустошенный. Хава понимал, что надо бы концы прятать, повыбрасывать все, что натащили из садика без всякого смысла и разбора, и еще кое-что повыбрасывать, что валялось тут с давних времен, но двигаться не хотелось. Машинально щелкал он в руках замком: поворот ключа туда, поворот сюда, открыл – закрыл. И лицо у Юрки Чашникова было грустное, впервые, может быть, за эти два дня человеческое – задумчивое.
Видением возникла на пороге сестра. Юрка не спросил ничего и позу не сменил. Ира сама с порога сказала:
– У нас садик обворовали!
– Кто?
Возбужденная от распирающих ее новостей, Ира, продолжая тараторить, прошла внутрь сарая:
– И сторожа тоже убили!
Хава побледнел:
– Кто тебе сказал?
– Все дети знают!
– И что, насмерть?
– Они его сначала убили, а потом на кухне… сварили и съели.
– Дура! – возразил Хава с некоторым облегчением. – Так не бывает!
– Бывает! Это людоеды!
– Людоедов не бывает!
– Бывают! – убежденно тряхнула головой Ира, а потом, без всякого перехода, вдруг обрадовалась. – Ой! А это конфеты у тебя?
– Не трожь! – взвился Сашников.
– Что, жалко?
– Они отравленные.
– Отравленные? – Ира, она уже схватила конфету из большой груды, остановилась в сомнении.
– Кто тебе сказал, что убили?
– Убили, но не насмерть. Я только попробую, а? Чуточку! – и она начала разворачивать.
– Как это не на смерть, ты что?
Но Ира ничего не ответила – сунула конфету в рот.
– Отравишься, я сказал! – мрачно пригрозил Хава. – Отравишься и умрешь.
Ира промычала с полным ртом:
– He-а! Не отравлюсь.
– Если людоеды бывают, то отравишься.
– А если не бывают?
– Тогда не отравишься.
Ира подумала и стала есть. Ела она долго, осторожно, боялась, наверное, раскусить то самое место, от которого отравишься. Съела, сглотнула последний раз. Еще подумала.
– Наверное, отравлюсь, – на брата посмотрела с ужасом. – Ты правду сказал? Отравлюсь?
Юрка вздохнул и погладил девочку по головке. От неожиданной ласки она застыла, не зная, как себя вести.
– Ирка, – сказал Юра дрогнувшим голосом, – эти конфеты из садика.
Глазенки остановились; медленно, не спуская с брата испуганного взгляда, она положила вторую конфету, которую тискала, не решаясь развернуть, обратно.
– Не будешь есть?
Помотала отрицательно головой.
– Да ты не плачь! Меня за это в тюрьму посадят. Все по-честному будет, как ты любишь, – сколько украл, столько и отмерят.
– …В тюрьму – это домой не будут пускать?
– Не будут.
– Даже на воскресенье?
– На воскресенье – тем более.
Ира подумала.
– А меня к тебе пустят?
– Нет.
– А если очень-очень попросить?
Юрка вздохнул:
– Я когда выйду, ты уже большая будешь. Невеста. Парни будут ухлестывать только так… Не до меня будет. Кто такой, не вспомнишь.
Глаза ее наполнились слезами:
– Нет, я вспомню!
– Ты вот что! С родителями не живи! Как восемь классов кончишь, сразу в училище поступай. Так, чтобы с общежитием. Хорошо бы в другой город. Ребята рассказывали, что в Ленинград даже берут.
– А мамка как?
– Я тебе из колонии напишу еще. Как в восьмой пойдешь, напишу, чтобы в училище готовилась. Обязательно. Главное – из дому уходи.
– А мамка как?
– Мамка?.. Мамке передай… передай… Ай! Ничего не передавай! Пусть живет как хочет!
Михаил Павлович глянул на часы:
– У меня мало времени! Что ты хочешь?
Сергей молчал. Раздражительный с самого начала тон, нетерпеливый жест – мало времени – не могли скрыть очевидную растерянность отца. И то, что он, протестуя, отложил сразу все свои дела, оставил работу и явился на встречу, говорило о чем-то таком, о чем не хотелось по-настоящему, до конца думать. Было бы легче, если бы отец отказался прийти, если бы за его обычной раздражительностью скрывалась уверенность, а не слабость.
– И вообще, что за манеры? Как ты по телефону разговариваешь? Вот тебе приспичило, я должен все бросить! – и отец нервно, едва ли не воровато оглянулся, словно сказал что-то такое, что нельзя было слышать посторонним.
Но толпа обтекала их равнодушно. В центре города, на людной улице каждый торопился по своим делам. И у каждого эти дела были – множество больших и маленьких дел, которые надо было все срочно переделать, чтобы отдохнуть и расслабиться. И только то дело, что было у них с отцом, одно общее дело, которое они пытались друг от друга скрыть, нельзя было никогда переделать, от него нельзя было избавиться.
– Я хотел спросить… что ты в милиции сказал? Про записку.
– Не понимаю.
– Со стариком что?
– Со стариком? С каким стариком?.. Подожди, откуда ты знаешь?
– Полгорода, папа, уже знает! Что с ним?
Глаза у Сергея были лихорадочные, лицо горело. Все утратило значение и смысл, вопрос остался только один. И слово только одно: старик. А отец уловил другое: полгорода знает. Уловил то, от чего так неспокойно было у него на душе.
– Вот только этого еще не хватало! – взвился он сразу же. – Чтобы ты еще лез! Вот все уже было, вот всего достаточно, по горло, вот так вот! – удушающим движением ухватил он себя за шею. – Что они хотели, я не знаю! Два часа! Понимаешь ты, я не знаю, чего они хотели! Я не знаю, откуда эта записка, и какой идиот припутал ее к этой дурацкой истории. Я не помню! Можешь ты это понять?
– Ты так и сказал? – переспросил Сергей быстро.
– Что сказал?
– Папа, хватит! Хоть сейчас-то не придуривайся! Со стариком что?
Как ни странно, окрик подействовал: отец запнулся и произнес потом нормальным почти тоном:
– Что? В реанимации. В сознание не приходит.
– Во сколько? Во сколько это тебе сказали? Ну, времени сколько, папа, было, когда тебе сказали, что он в больнице? Что жив.
– А тебе что?
– Ты можешь позвонить в милицию?
– Зачем?
– Я тебя спрашиваю, ты можешь позвонить в милицию про старика узнать?
– Нет, – Михаил Павлович миновал взглядом сына и повторил с обидой: – Нет! – полез во внутренний карман пиджака – один, другой, снаружи полапал, но ничего не достал, и неизвестно было, что вообще искал. – Нет, я в милицию звонить не буду! Хватит, со мной там уже беседовали. Два часа! Я не имею к этому случаю отношения! И не знаю, не знаю, кто этот старик, о котором уже полгорода знает!
– Папа, ну, я прошу тебя, а? Позвони куда-нибудь, узнай про старика!
– Зачем?
– Я знать хочу: жив или мертв! – прокричал вдруг Сергей в бешенстве. – Жив?! Или мертв?!
Дрожащими руками взял отец себя за воротник, по лицу провел машинально. Потревоженный утром милицией, забыл Михаил Павлович побриться, и теперь щеки его синели сизой щетиной. Выдавая возраст и непроходящую усталость, легли на лицо тени. Кажется, он начал что-то понимать, подозревать начал. И подозрение это было настолько чудовищным, что спросить прямо Михаил Павлович не решился.
– Если это важно… В больницу могу позвонить. Но уверяю тебя, я не имею ни к чему никакого отношения. Недоразумение.
Не обращая внимания на никчемное бормотание отца, Сергей полез по карманам в поисках монеты, принялся пересыпать с ладони на ладонь мелочь.
– Девушка! У вас двушка есть? – метнулся он к прохожей.
Девушка открыла сумочку, а он, заглядывая внутрь, нетерпеливо понукал:
– Позвонить только, понимаете? Две копейки!
– Нету, – сказала она, разгребая пальцами содержимое: зеркало, платок, ключи, белые и желтые монеты – все вперемешку.
– Как это нету?! – возмутился вдруг отец. Оттискивая Сергея, он тоже наклонился над сумочкой: – Дайте сюда!
Дернул за ремешок, запустил внутрь свою большую руку. Девушка, молоденькая совсем девчонка со взъерошенной по моде прической, растерянно оглянулась на Сергея и густо покраснела.
– Ну вот же! Как вы смотрели? – отец выхватил две копейки.
Сергей бросил девчонку, не извинившись, и поспешил за отцом.
– Не знаю я, как его фамилия! – говорил Михаил Павлович по телефону, а Сергей, не заходя в будку, пытался угадать, что там отвечают. – Подождите, молодой человек, подождите, я сейчас просто в другое место буду звонить, если вы ничего сказать не можете, чего вы тогда на своей работе сидите?.. Что значит, у вас больные?!.. Ну… Посто… Подождите… У вас никто не умер, с утра?..
Он закрыл трубку ладонью и беспомощно оглянулся на Сергея:
– Говорит, у нас не сторожа и не академики, а больные под фамилиями. Фамилию надо. Знать бы хоть, какого рода… ну, травмы.
Торопливо, опасаясь, что отец повесит трубку, Сергей кивнул:
– Я скажу.
– Ты? Ты скажешь?
От неправдоподобного этого удивления Сергей пренебрежительно отмахнулся. Было уже все равно, понимает отец до конца, о чем идет речь, или нет. И больше того. Попытка отгородиться от жестокой правды непониманием вызывала желание некрасиво и зло вывалить все сразу.
– Скажу, куда били, – Сергей ткнул себя в грудь. – Сюда вот… И сюда… Вот, в голову… А он упал, так вот, – изогнулся.
Побледневший отец поднял трубку и коротко сообщил:
– Черепно-мозговая травма.
Сергей, однако, не успокаивался:
– Нет, он вот так вот еще упал, затылком!
Стиснув трубку потными руками, отец наблюдал, а сын, вспоминая все новые и новые подробности, извивался, чтобы точно изобразить, как старик упал, и чем ударился, и куда его били сначала, а куда потом.
Вокруг уже порядочная толпа собралась, человек пять стояли рядом, наблюдали в изумлении за этой сценой, и еще люди подходили, издалека интересовались, что там такое происходит, останавливались.
Отец бросился к Сергею, схватил за руку.
– Чего? – бесновался тот. – Еще не все!
– Извините! – красный от возбуждения и стыда, бормотал отец, ни на кого не глядя, и оттаскивал упирающегося сына. – Извините, товарищи, простое переутомление.
– Ах, тебе за меня стыдно? Ему за меня стыдно! – крикнул Сергей в толпу.
Прохожие, не рискуя приближаться слишком близко, переглядывались между собой, они не понимали еще, что происходит: трагедия или фарс.
– Прошу вас, прошу вас, это не опасно, – говорил отец невесть что.
– Ему за меня стыдно! – сиял идиотской улыбкой Сергей. Отбивался, изворачивался лицом к свидетелям позора, но шел, позволял увлекать себя все дальше и дальше.
Отец затащил его в ближайший двор и тянул, не зная, где укрыться.
– Тебе еще не так стыдно будет, когда меня посадят! – брызгал слюной Сергей. – Когда мне вышку дадут. Вышку мне дадут, вышку! Я, может, человека убил!
– Негодяй!
Отец ударил по щеке. С ненавистью.
Сергей шатнулся, замолк.
А отец повернулся и пошел прочь. Потрясенный несчастьем, униженный злобным фиглярством сына, растерзанный болью, едва разбирал он дорогу и только одно понимал: прочь от толпы, от улицы, забиться в угол, спрятаться, исчезнуть, никого не видеть и не слышать. Перешагивал через какие-то плиты, прыгал через канаву, между сложенными одна к другой металлическими рамами пролезал, уворачивался от колес панелевоза, который обдал лицо горячей дизельной гарью. Узкие, заставленные с обеих сторон бетонными блоками и трубами проезды были разбиты машинами до глубоких, заполненных грязью рытвин. Михаил Павлович, боком пробираясь по обочине, влез в эту грязь по самые щиколотки, но не охнул, равнодушно только отметил, как проникла, затекла в правый ботинок холодная жижа, выпрыгнул на сухое. Здесь тоже были люди: строители.
Один, в подшлемнике с белой шнуровкой и ватнике, стоял, опираясь на отбойный молоток, другой, откинув полы синего плаща, опустился возле самого низа стены, в руках у него был мел. Они уставились на Михаила Павловича с мимолетным недоумением. Отвернулись и забыли, занятые своими проблемами.
– Сегодня кончишь, – сказал тот, что чертил по бетону небольшой прямоугольник.
– Этим бы молотком да проектировщиков по голове! – сказал рабочий в подшлемнике. – За что они деньги получают?
– Я тебе Клепкова пришлю, не стони! – поднялся с колен второй, пошлепал ладонями, отряхивая их от мела.
– Марка пятьсот, – возразил первый, – пушкой не возьмешь!
– Я тебе Клепкова пришлю! – упрямо повторил тот, что был в синем плаще и белой рубашке с галстуком.
Тупо слушая бессмысленный этот разговор, Михаил Павлович вздрогнул, когда ощутил прикосновение. Это был Сергей. Михаил Павлович не удивился.
Потом Сергей сидел у подножия коричневого холма, маленький, слабый, и плакал. Михаил Павлович стоял рядом. Гора шлака отделяла их от стройки, где возвышался незаконченный дом, двигался, вытягивал в стрелу кран.
– Прости, сынок, – сказал отец тихо. – За то прости, что я тебя ударил.
Сжавшись, Сергей обхватил голову руками, упрятал лицо в коленях, и как он реагирует, что думает, понять было невозможно. Но Михаил Павлович и не ждал ответа, он сам с собой разговаривал.
– Мне стыдно, – сказал он и губу закусил, чтобы удержать слезы. – Мне действительно стыдно, что я тебя ударил, потому что ударил не за старика, не за твое преступление, а за то, что я сам испугался. Я понял это, и мне стыдно, – снова вздохнул он судорожно и вынужден был несколько мгновений молчать. – Это нужно было понять, и сказать, и признаться, потому что… потому что надо же с чего-то начать. Дальше так не может продолжаться, ломать все надо, ломать и заново начинать. Заново. Я хочу, чтобы ты слышал: я сегодня струсил в милиции, просто струсил… Ты слышишь?.. Я им неправду сказал про эту дурацкую записку, солгал от страха, что на работу сообщат. Очень струсил… очень… На работе сидел сейчас – сердце схватило. Нитроглицерин вот…
Он достал маленькую пробирку с таблетками, показал. Но Сергей головы не поднял, плечи его чуть заметно вздрагивали.
– А из-за чего? – говорил отец. – Из-за чего?
Фыркнул раз, другой, и громко и часто заработал компрессор, а потом почти сразу же застучал отбойный молоток. От дробного стука Михаил Павлович сморщился, закрыл глаза и веки с силой стиснул, испытывая физическое страдание. Отскакивая от камня, высекая искры, сталь звенела на одной пронзительной, нескончаемой ноте, и от этого вибрировали нервы, связки, кости, мозг.
– Из-за чего все это? – повторил Михаил Павлович с болезненной гримасой. В страшном шуме ничего нельзя было разобрать, он нагнулся и прокричал, напрягаясь, чтобы сын мог слышать.
– Зачем вся эта мышиная возня? Кто будет заведующим отделом?! Я буду! Я буду заведующим отделом. А зачем?.. Наш институт в прошлом году… на рубль затрат обеспечил 87 копеек экономического эффекта… Институт закрывать с такой работой надо! Целиком! Со всеми отделами, секторами, должностями и окладами… А мы как будто не видим… самого главного… На главное нет времени…
Молоток замолк, и, ошарашенный внезапной паузой, замолчал Михаил Павлович. Потом сказал:
– Я ведь тебя по-настоящему не любил.
– Нет, не то, – стиснул виски, зажмурился отец, – не то говорю, просто…
Слова его снова поглотил воющий стук молотка. Михаил Павлович переждал немного, но звон не прекращался, и он, набрав воздуху, прокричал:
– Просто нет времени тебя любить!.. Вот что правда!..
– кричать можно было только совсем короткими фразами, отсекая подробности, которые все равно нельзя было бы понять в этой катавасии. Только самое главное нужно было кричать, самое простое и важное. – Это страшно!.. На самое главное нет времени… Когда же остановиться?.. Чтобы во всем быть честным… Сосредоточиться на добром… понимаешь? Сосредоточиться!.. Мы все начнем заново… Все сломаем!.. Я тебя спрячу… К матери уедешь… Сколько лет не был… Просто посидеть рядом… успокоиться… сосредоточиться на главном…
Стук прекратился. Михаил Павлович, запнувшись, повторил:
– Я тебя спрячу.
И оттого, что сказал он это нормальным человеческим голосом, в котором можно было различить оттенки и чувства, в словах его послышалось отчаяние.
Сергей покачал головой и просто сказал:
– Я сейчас в милицию пойду.
Снова все потонуло в грохоте. Сергей молчал, не пытаясь перекричать оглушительную дробь молотка, и только когда отбойник замолк, когда рабочий отложил тяжелый инструмент, опустился на колено и, разглядывая неглубокую выбоину в бетоне, дрожащими, полускрюченными еще, застывшими в напряжении пальцами поправил мокрую прядь волос, Сергей тихо продолжил:
– Я не могу понять, как это все случилось. Когда… Когда я бил… Когда мы били старика… Мы его избили, папа, ни за что… Когда мы били старика… Мы избили его, как последние… подонки… Я уже тогда понимал, что происходит что-то ужасное… Как будто во мне что-то остановилось… Где-то глубоко-глубоко что-то замерло… Застыло, стиснулось… не знаю… Что-то такое маленькое внутри… Понимаешь, если бы я не промолчал, когда Хава предложил: давайте садик почистим! – ничего бы не было. Это точно. Это наверняка! Если бы, ну, хоть что-нибудь сказал… даже не очень решительное, промычал бы что-нибудь, проблеял бы или гавкнул – все равно – хоть что-нибудь сказал бы в ответ, ничего бы не было. Это точно! Главное, чтобы не катилось все само собой, как-нибудь, безразлично… Я тогда промолчал, и с той минуты… с той минуты…
Сергей так и не смог выговорить, что началось с той минуты. Махнул рукой, замолк, глаза его наполнились слезами.
– Пап, – сказал он и всхлипнул, – пап, как хорошо, что я могу тебе во всем признаться… Что есть кому признаться. Невмоготу молчать. Потому что… Потому что сам себе противен… Я в милицию пойду.
Сергей закрылся руками и зарыдал. Несмело, словно опасаясь, что сын оттолкнет, Михаил Павлович коснулся его плеча, провел ладонью по мокрой щеке, погладил волосы.
Грянуло «Прощание славянки». За высоким, но небрежно, с большими щелями сколоченным забором, который отделял стройку от улицы, шли призывники. Они шли под музыку нестройной колонной, сосредоточенные, серьезные, не глазели праздно по сторонам. Все громче и громче слышался оркестр, и вот уже могучие, щемящие звуки заполнили все вокруг.
Стало уже совсем темно, но никто не уходил. Они так и сидели все вместе на одной лавке перед входом в милицию – отец и мать Маврина, Михаил Павлович, отец Чашникова. Молчали.
Ира, присев на корточки, рисовала на асфальте.
Вышел капитан, хлопнул дверью, сбежал по ступенькам. Маврина встала. Капитан мельком взглянул и дальше пошел.
– Зря суетитесь, мадам, – сказал Чашников, – ОБХСС.
Чашников оказался невысоким, сухоньким мужичком. Совсем мальчик с виду, если бы не лицо, глубоко изъеденное морщинами.
Маврина садиться не стала.
– Есть ходы, – сказала она, понизив голос, – к одному человеку, но это будет стоить. Вы меня понимаете?
После тягостного молчания решился спросить Чашников:
– Что там еще за человек?
– Неужели думаете, я Вам это скажу?
Чашников презрительно скривился:
– В эти цацки сами играйте! Сколько заработали – столько получат. Мой-то уж не отвертится! – сплюнул и задумчиво растер туфлей свой плевок.
– Не понимаю, зачем нам ссориться? – не унималась Маврина. – В конце концов, есть какие-то общие интересы. Я, например, считаю, то есть совершенно убеждена, что вина, если разобраться, лежит на стороже… Взрослый человек! Пьет, ведет за собой! Вместо того, чтобы остановить несмышленышей, практически потакает им. Уверена, что любой объективный суд должен это учесть. Если только будет желание разобраться! Нужно твердо, принципиально, с самого начала заявить наше мнение. Наше общее мнение. Написать прокурору: так и так, мол1 Именно твердо! Такую бумагу вы подпишите? Прокурору?
Чашников пожал плечами:
– Про сторожа? Какая разница, подпишу.
– А вы? – обратилась она к Михаилу Павловичу.
– Но ведь, – слабо возразил тот, – мы даже не знаем, пришел ли старик в себя.
– Ой, ну что вы, – тонко улыбнулась Маврина, – понятно, что когда узнаем! Не сейчас же мы ее писать будем. Ну так как?
Заинтересовавшись какой-то важной, значительной интонацией в голосе тети, Ира подняла голову, посмотрела на отца и на чужих.
Взрослые молчали.
Суд состоялся в середине лета. Он определил окончательное наказание по статьям – 201 части 2, 96 части 1, 87 части 2 Уголовного кодекса БССР: Чашникову Юрию Петровичу – 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии усиленного режима, Саковичу Сергею Михайловичу – 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима, Маврину Дмитрию Альбертовичу – 2 года лишения свободы с отсрочкой приговора на два года.
Семен Трофимович лежал в больнице больше месяца. Потом выписался, но чувствовал себя по-прежнему плохо, часто случались обмороки. Через восемнадцать дней после суда над Чашниковым, Саковичем и Мавриным Семен Трофимович умер.








