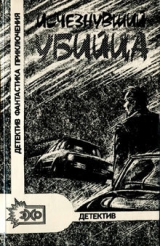
Текст книги "Детский сад"
Автор книги: Валентин Маслюков
Соавторы: Александр Ефремов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Перед пацанами едва успел затормозить. Когда мотор заглох, Яшка услышал, что они смеются. Мельком только взглянул на него Маврин, он тащил, прижимая к животу, тяжелый картонный ящик с маслом и делал вид, что совсем изнемог: ноги подгибались, Дима шатался, дурашливо хихикал:
– Сил, ребята, нет! Как это я вчера его приволок?
– Это ты со страху ослаб! – скалился Хава.
Яшка рукой помахал, чтобы обратить на себя внимание, и приветствовал:
– Наше вам!
Пацаны не откликались.
– Примета такая есть, – продолжал прежний разговор Хава, – если боишься – точно подзалетишь! Начнешь думать: чего да как… – и он отрубил пятерней в воздухе, отметая саму возможность думать, а значит – бояться.
– Ребята, вы куда? – спросил Яшка без прежней игривости.
Только теперь Хава оглянулся – они уже прошли мимо – и снизошел:
– К Натке. Сеструха Мамонта, знаешь? Джинсы белые для Мавра достать обещала.
– Вы что, серьезно? – удивился Яшка. – И масло ей тащите?
Ему не ответили. Яшка, однако, не обиделся, Хотя он, может быть, и не до конца понимал – почему, но все же, если честно, понимал, догадывался, что обижаться после всего того, что случилось ночью, права не имеет. Слез с мопеда и, толкая его радом, пошел за пацанами.
– Пиджак надо холодной водой замыть, – говорил Хава Саковичу, – только холодной, а не горячей…
– А что такое? – снова пытался подключиться Яшка.
– …Холодной замоешь, и никаких следов. Ну, совершенно. Потом даже места не найдешь, где там пятно было.
– Кровь, да? – не отставал Яшка.
Сгибаясь под тяжестью ящика, Маврин не поспевал за энергично шагающим Хавой, отставал от Саковича, и, оказавшись рядом с Яшкой, в хвосте, обратился к нему вполне дружелюбно, почувствовал товарища по несчастью:
– Вовремя ты вчера смылся! Там такое было!
– Так я пришел! – загорячился сразу Яшка. – Я же вернулся, пацаны, просто потом уже, поздно. В садик заходил! Уже никого.
Хава оглянулся, заинтересовался Сакович, в напряженной позе, удерживая масло, остановился Маврин, а Яшка, видя, что его, наконец, слушают, заторопился:
– Ну, точно! Что вы там наломали! Я как глянул – дед лежит – ну, думаю, будет! Я к деду подошел, хотел потрогать, ну, там пульс или что… Точно говорю, побоялся. Жутко стало. Ребята, кричу. И даже кричать как-то в пустом садике жутко. Никого! И дед лежит… А потом как дунул оттуда – не выдержал. Думаю, пацанам будет. Я там ничего не трогал.
– Ладно, слышали, – хмуро сказал Хава.
– Нет, правда! Я испугался. За вас же испугался. Дед вот лежит… Каменный пол этот кафельный, вот пол этот твердый, холодный, а он на нем затылком…
– Пьяный дед, спал, – поморщился Сакович.
Но Яшку как прорвало, настроения друзей он не замечал, не чувствовал:
– Вот это вот как-то меня… не знаю… Жутко стало!
– Трешку ты куда дел? – прервал его Сакович. – Что дед тебе дал.
– Трешку?
Сакович ухмылялся так, словно знал за ним, за Яшкой, что-то такое, что давало ему право на этот слегка презрительный, нетерпеливый тон. Недобро смотрел Хава. Ощущая неладное, Яшка заедаться не стал. Простодушное выражение, с каким смотрел он на своих приятелей, казалось совершенно естественным: глуповатая улыбка на бледном, никогда не загорающем лице, белесые, едва различимые брови и белобрысая, неухоженная шевелюра.
– Трешку я отдам. У меня она, – сказал Яшка, показывая полную готовность договориться по-хорошему.
– У тебя? – снова усмехнулся Сакович. – Ну, тогда за сигаретами смотай.
– Ты же не куришь? – удивился Маврин.
Сакович внимания на него не обратил:
– Ты на ходу, – велел он Яшке, – так что давай!
– Сигареты? – Яшка достал из кармана едва начатую пачку, протянул и, считая, видно, что инцидент с деньгами сторожа исчерпан, вернулся к рассказу: – Что же, думаю, такое? Все так хорошо было. Из-за чего передрались? За это же вломать могут – только держись! Это же не какой-то ларек вшивый почистили. Просто вот, за вас испугался.
Сигареты Сакович взял, стиснул пачку, скомкал в кулаке так, что труха посыпалась, когда начал он ее мять, растирать длинными, нервными пальцами. Яшка, наконец, в изумлении замолк, и тогда Сергей швырнул белый, бумажный и целлофановый комок на истоптанную землю.
– Ты чего?
– Сказал же, за сигаретами смотай! Не понял?!
Это было уже откровенное хамство.
– Я тебе в морду дам – смотай!
– Смотай, Яша, – донесся откуда-то голос Хавы.
– За сигаретами, Яша, – повторил Сакович, произнося каждое слово раздельно и весомо.
И под тяжестью этой Яшка напрягся.
– Сам смотай! – замахнулся он и стиснул зубы. Одной рукой приходилось удерживать руль, потому и замах получился несерьезный, неловкий.
А Сакович ожидать больше не стал – ударил. Глаза жестоко сузились, едва ли соображал он, зачем и за что. Яшка схватился за скулу.
– Хава! Чего он…
И осекся – удчрил сбоку Хава. Вместе с мопедом Яшка опрокинулся, загремел, ушибся больно о какие-то железяки и камни. Потом, не пытаясь подняться, заплакал от обиды, заскулил:
– За что, за что… Чего вы… у-у…
Яшка всхлипывал, размазывал слезы, а Хава, не замечая его, скомандовал:
– Пошли! Обещал я вчера белые джинсы Мавре достать и достану, тварь последняя буду, достану!
С этими словами Хава достал из кармана часы, поскреб раковинку на корпусе и стал надевать. Часы оказались старые, побитые и не шли, он покачал головой, спросил мрачно:
– У кого время есть? Поставить.
Ни Маврин, ни Сакович не отозвались. Сакович вспомнил эти часы на вывернутой руке сторожа, вспомнил и ничего не сказал. Говорить было нечего.
Овощной лоток, где работала знакомая Хавы Наташа, оказался на самом деле не лотком, а павильоном, огороженным навесом с распахнутой настежь дверью. Перед дверью, за выносным столом Натка и торговала. Точнее, в этот момент просто стояла, переминалась с ноги на ногу. В деревянном ящике пылились мелкие, усохшие лимоны, а из-под бутылки с затрепанной, грязной этикеткой, на которой давно уже нельзя было разобрать, какая именно вода там содержалась, выглядывала сплошь почерканная накладная. В лучшие времена, должно быть, значились в ней и яблоки, и апельсины, и еще множество хороших вещей, но сейчас, судя по всему, времена эти минули, продавщица поглядывала поверх прохожих так, словно ей стыдно было встречаться с ними взглядом. Безнадежно пустые ящики, не помещаясь в загородке, громоздились и снаружи, рядом со столом.
Пробудило Наташу шумное явление Хавы с компанией.
– Помогите же кто-нибудь, – причитал Маврин, не поспевая за Хавой и Саковичем, – пальцы разгибаются масло ваше тащить.
– Для тебя же стараемся! – буркнул Хава. Он почти не обращал внимания на замученного ношей приятеля.
– Пошли они к черту, эти джинсы! Мамин магазин рядом, сейчас попадешься!
– Не скули!
В тоскливом своем одиночестве Натка искренне обрадовалась знакомым – заулыбалась, захихикала, прикрываясь ладонью. Это была молодая и откровенно некрасивая женщина: плоский утиный нос, обветренные щеки, обветренные еще больше – до красных цыпок – руки. Болезненное состояние собственной непривлекательности и постоянные столкновения с жизнью сделали Натку человеком нервным и неуравновешенным: выражение лица ее менялось поминутно, извивался в ухмылке широкий, подвижный рот, и она кусала губы, стараясь овладеть собой, выглядеть пристойно – сгоняла улыбку, и тогда суетились беспокойные пальцы – хватали без надобности, переставляли бутылки с минеральной водой, теребили пуговицы на пальто, барабанили по столу, терзали и без того уже истрепанную накладную. Одета Наташа была в стандартную униформу всех некрасивых женщин – зеленое пальто с рыжим воротником. Спереди прикрыто оно было не очень чистым передником.
– Мы к тебе, Натка, за джинсами, – сказал Хава.
В ответ она еще раз выразительно хихикнула.
Тяжело, со вздохом, Маврин опустил ящик масла на стол:
– Все! Чтоб они провалились!
– Это ему, – пояснил Хава, – белые джинсы ему нужные. Женские. Сорок четвертый или сорок шестой. Со вчерашнего вечера до тебя добираемся.
Натка смутилась:
– Да?
– Ты же всем говорила, что есть! Загнать можешь.
Натка задумалась:
– Но это не у меня.
Сакович, он держался безучастно, в разговор не вмешивался, при этих Наташкиных словах демонстративно хохотнул. Никто не спросил, чему он смеется. Маврин, тот и так уже, без этого дурацкого, издевательского смеха пришел в полное отчаяние:
– Что? Куда теперь? Больше никуда не пойду!
Маврин, наверное, совсем бы впал в истерику, но подошла покупательница, женщина средних лет, стала рыться в лимонах, и он примолк, придержал на время свои чувства.
– Что, у тебя джинсов нет? – виновато ухмыльнулась Наташа.
– Это все? – спросила покупательница, брезгливо переворачивая лимон.
– Нет, я для вас специально держу – тут вот, под прилавком, – вызверилась вдруг Натка. И так внезапно, без всякого предупреждения и повода произошла в ней перемена – от обольстительной гримаски к оскалу, – что даже Маврин опешил.
– Вы не грубите! – вспыхнула женщина.
– А вы что – сами не видите? Кто это купит? – Натка энергично тряхнула лоток с плодами. – Вы это купите? Ага, она это купит! Ждите! Глаза же есть!
Женщина приготовилась уже скандалить, но раздумала, только губы поджала и пошла прочь. А Натка помолчала, припоминая, о чем шла речь, и снова улыбнулась:
– Приходи к нам в общежитие, на Подлесной, знаешь? Найдем чего-нибудь.
– Так есть у тебя? – пытался уточнить Хава. – Мы тебе масло за это притащили.
– Масло?
Наташка сразу, едва пацаны подошли, заинтересовалась тяжелой, растрепанной по углам коробкой – спросить только про нее не успела, – теперь она воззрилась на масло в удивлении…
– Продашь, может, как-нибудь, – объяснил Маврин.
– Я продам? – совершенно уже поразилась Натка. – Мы не торгуем. Только овощи. Горплодоовощторг.
– Дура! – начал выходить из себя Хава. – Как-нибудь так! Понимаешь?
– Как?
Хава глянул оценивающе. Разобрать, однако, действительно Натка не понимает или притворяется, было невозможно. Хава смягчился:
– Ну, деньги, значит, себе возьмешь.
– А мне не надо. У меня все есть.
– Нам это масло все равно девать некуда, соображаешь? Проще выбросить. А мы тебе его отдадим за то, что ты насчет джинсов для Мавриной девочки похлопочешь.
– Нет у меня никаких джинсов!
– Ну, у подруги, какая разница!
– И подруги у меня нет. Я пошутила.
Смотрит, словно только на свет родилась. Хава порядком растерялся:
– Ну, что тебе, трудно? Ну, так просто забери. В холодильник положишь.
– Холодильник-то V тебя есть? – поддержал Сакович. – Что-нибудь у тебя есть вообще?
– Нет, ребята, несите, где взяли, – сказала Наташка без тени улыбки, без всякой дурашливости. На этот раз, похоже, она не притворялась.
Пацаны, ничего уже совершенно не понимая, переглянулись. А Натка, прерываясь и кусая губы, сказала:
– Что думаете… если… так все можно? Что хотите?..
И закрылась рукой – то ли плакала, то ли задумалась тяжело. Это Наткино отчаяние среди дружеского разговора было так непонятно, что Хава следил за ней уже с испугом.
– Ты чего? Мы же только предложили. В холодильник положишь, пока только, на время.
Натка молчала, никак не объясняясь. Зато Маврин вдруг странно отшатнулся за угол навеса, охнул:
– Все! Дождались!
– Что еще? – возмутился Хава.
– Мама идет. Здесь же, рядом работает! Я же говорил!
Препираться было некогда. Хава заметался, схватил совершенно потерявшего голову Маврина, затолкал его в Наташкину загородку.
– Обеденный перерыв у нее, я так и знал!
– Молчи, – шипел Хава злобно. – Молчи, убью!
Через щели между гофрированными листами белой жести видно было, как Нина Никифоровна – Димина мать – приближается, вот она уже совсем рядом, за тонкой стенкой. Пацаны притихли, затаились среди пустых ящиков.
Нина Никифоровна остановилась перед прилавком – кажется, сюда она и шла.
– Здравствуйте, – сказала Натка первая. – Я вам оставила три килограмма.
– Спасибо, Наташенька! Девочки мне передали.
Натка шагнула за загородку, нагнулась припрятанный кулек с апельсинами взять – лицо бледное, несчастное – и замер а, встретившись глазами с Хавой. Тот, на всякий случай, состроил страшную рожу, кулаком пригрозил.
Кулек она поставила на весы.
– Ну что ты! – тотчас с улыбкой принялась Маврина апельсины снимать. – Три, значит, три! Если мы друг другу не будем верить, то уж кому тогда и верить, правда?
И на коробку с маслом глянула. Натка тоже на нее посмотрела. Настала неловкая заминка. Потом Маврина, спохватившись, стала укладывать апельсины в сумку:
– А наш-то новый балда оказался. Говорят, долго в торговле не продержится.
– Кто балда? – спросила Натка. Она, кажется, с трудом только могла поддерживать связный разговор.
Если бы нужно было сейчас выбрать между бестолковой Наташкиной молодостью и благополучной, ухоженной зрелостью Нины Никифоровны, предпочтение, увы, было бы отдано зрелости. По крайней мере, для самой Мавриной выбор не представлял бы трудности. Рядом с Наткой, постоянно чем-то встревоженной, подавленно кусающей губы, Нина Никифоровна полнее ощущала радость бытия.
– Ну, наш новый директор, – пояснила она снисходительно. – Директор, говорит, гастронома – и без квартиры. Что это?
– Кто говорит?
– Директор. Но не мне, а тому человеку, который мне рассказывал. Есть, говорит, три тысячи свободных, ну вот если бы только знал, кому дать – вот, честно, пошел бы и дал. Ну, сколько же ждать? Она, ну, тот человек, которому он это говорил, возражает: Евгений Петрович, разве же можно? Кто же это о таких вещах кричит? Я для вас кто? Вы же понимать должны! Это только двое, кого касается, знать могут, это же интимное дело! Ты – дал, я – взял! Молчок! Забыли. Не было ничего. Интимное дело. Между двумя только связь должна быть. Нельзя сюда третьих мешать. Представляешь, она ему говорит? Нельзя же ходить по улице да размахивать своими тысячами – кому дать, не знаю! Кто же так делает? Когда человека-то найдешь, кому дать, ты же сам это поймешь, сердце вот екнет вдруг: он! Сердце подскажет, не ошибется. Сердце подскажет, кому дать!
– Сердце подскажет? – удивилась Натка. Все, что втолковывала ей Нина Никифоровна, она, кажется, прослушала.
Маврина запнулась, обиженно замолкла. Полезла за деньгами.
– Это же не я говорю… Ты сама-то в общежитии живешь?
– Да.
– От мужа совсем ушла?
– У-у…
– Говорят, что… – в некотором смущении, вроде бы заколебалась, продолжать ли, Маврина. Но Натка ей не помогла – смотрела выжидательно и пусто.
– Я же не виновата, все говорят. Что скандал был, очень уж… Да? Вещи, мол, выбрасывал… Просто по-свински.
– М-да.
– Бедная девочка! И что, говорят, свекровь была?
– Что?
– Свекровь тоже была, когда он вещи твои на лестницу выбрасывал. Была, а ничего не сказала. Так говорят. Я же сама не видела.
– Говорят… да…
– Так что… неправда?
– Правда.
Маврина вздохнула, покачала головой:
– Хорошо, что нет детей.
Натка сунула в рот стиснутую в кулак руку и теперь ожесточенно, ничего не слыша, грызла ногти – то один, то другой, кусала пальцы. Лицо ее исказилось мукой.
– Я как считаю, – решилась повторить Маврина, – хорошо, что нет детей. В твоем положении это хорошо. М-да… Ну, я пойду.
Казалось, Натка ничего не замечала, а тут забеспокоилась, припоминая что-то важное, замычала:
– М-м… Постойте… Это… м-м… Холодильник у вас есть?
– Холодильник?
– В магазине. Масло вот заберите. Некуда девать. Просили просто в холодильнике подержать.
Маврина изогнула брови:
– Масло? Кто просил?
– Да так… Ребята тут приходили.
С тонкой улыбкой жалости и превосходства глянула Нина Никифоровна на свою младшую подругу и решила задержаться. Снова водрузила сумку на стол.
– Знаешь что, девочка? А ты спросила у этих ребят, где они масло взяли? Целый ящик? Как это вот просто: принесли ящик масла.
– Нет, не спросила, – равнодушно ответила Натка.
– Так я тебе скажу тогда… Они его украли!
Нина Никифоровна выдержала паузу, чтобы Натка могла осмыслить сказанное, но та и теперь, похоже, не встревожилась по-настоящему.
– Звонили сегодня из райотдела… из милиции то есть, – растолковала Маврина, – предупреждали насчет масла. Если кто предлагать будет или что… Убили там кого-то, покалечили – не знаю толком. Директор наш с ними разговаривал. На всякий случай, говорит, имейте, девочки, в виду.
Услышав про убийство, Натка не испугалась даже, а просто стукнулась лбом в стиснутый кулак и сквозь зубы произнесла: – Ой! Ой! – раскачиваясь, не желая смотреть на белый свет, и мерно стучала кулаком по пустой своей, бестолковой и несчастной голове.
– Да что уж ты так? – заволновалась Нина Никифоровна. – Ничего тебе не будет. Надо признаться только. Тут уж не маслом ведь пахнет. Ты же не знала! Да хоть вместе давай позвоним. У меня еще, – глянула на часы, – двадцать минут, успеем.
Не решаясь сменить неловкие позы, в которых, как кому пришлось, замерли они в загородке среди ящиков, пацаны затравленно переглядывались.
Натка молчала.
– В крайнем случае, – настаивала Нина Никифоровна, – и опоздать можно, Евгений Петрович поймет. Масло кто принес? Ты хоть знаешь?
Если бы сама Нина Никифоровна знала, какие последствия проистекут из ее простодушного любопытства, по-человечески понятного и простительного… Ничто, однако, не предвещало беды. Когда хищной тенью возникла из проема тощая, скрюченная фигура Хавы, Нина Никифоровна вздрогнула от неожиданности, от испуга чисто физического, вроде того, который испытывала она, когда на мокром лугу с отвратительным шлепком выскакивала вдруг из-под ноги лягушка.
Нервно ухмыляясь, Хава бессвязно выпалил:
– Вы и сами знаете, кто масло принес!
Нина Никифоровна на Натку глянула в изумлении, а Хава, не давая опомниться, продолжал:
– Да, да! Мы его… правильно вы поняли – украли. Это масло мы украли.
Заинтересовавшись оживлением у прилавка, подошла какая-то женщина с хозяйственной сумкой. Дорогу ей закрыла растопыренной пятерней Натка:
– Закрыто! Идите, закрыто!
С видимым усилием Маврина сказала:
– Ты врешь!
Сказала почти бессознательно, не понимая, о чем и про кого говорит, брызжет слюной этот ошалевший мальчишка. «Врешь», – сказала она, защищаясь от угрозы, которая слышалась уже в одной только наглости самой по себе.
– Ага! – издевался Хава. – А сыночек ваш, Димочка, он с нами был. С нами, да… И своими ручками, вот этими вот ручками, вот так вот, ножками, ножками это масло вот и вынес! Ага! Димочка, сынок, покажись!
– Врешь! – повторила Нина Никифоровна помертвелыми губами.
– Покажись, дурашка, что же ты прячешься! – заглядывая в темное нутро загородки, чтобы извлечь оттуда Маврина, Хава изогнулся крючком.
И Маврина не выдержала, повторила за ним боязливо:
– Дима…
В тишине – все равно внезапно, вдруг, хотя и Хава, и Натка, и Маврина ждали – раздался грохот, опрокинулся ящик; зацепившись за него коленом, со стоном вывалился наружу Дима Маврин. Едва сумел он удержаться на ногах, отпрянул от растопыренных маминых рук и, стукнувшись еще раз, боком о стол, бросился бежать.
– Дима! – отчаянно вскрикнула Нина Никифоровна. Она даже рванулась следом, несколько шагов сделала – да куда там! Дима мчался, не оглядываясь.
Кричать уже было поздно, кричать теперь уже надо было на всю улицу, на весь город. Дима исчез, потерялся между людьми и постройками, а Маврина, не до конца еще сознавая, что же случилось, мешкала возле Наткиного прилавка, не знала, на что решиться. Когда, наконец, повернулась она к Хаве, глаза ее были сухи, брови сдвинуты, а рот исказила резкая складка.
– Ты, – указала пальцем, – мне за все ответишь! Я тебя в милицию сдам! Я тебе покажу! Я тебя в колонию засажу!
– Не шумите, – сказал Хава, натужно улыбаясь, – услышат.
– Попляшешь еще у меня!
– Вместе сядем с вашим сыном. Знаете, сколько за убийство дают?
На полуслове, с разинутым ртом, Маврина остановилась.
– То-то! – усмехнулся Хава. – Масло заберите. Это главная улика. Вы же соображаете, что будет. Хорошо надо запрятать, чтобы следов не осталось!
…Ящик был мучительно тяжел и неудобен. Выбиваясь из сил, – дыхание частое, неровное, – волокла Маврина свою заклятую ношу. Волокла неведомо куда и, не утираясь, плакала, слезы на щеках стыли. Невольно уступали ей дорогу прохожие, оглядывались вслед.
Парень с девушкой, молодые, дружелюбные, счастливые, обогнали Маврину легким, ровным шагом:
– Вам, может, помочь?
Маврина не реагировала. На ходу взялся парень за ящик с маслом, повторил громче:
– Вам тяжело? Я вижу, вам тяжело.
Она будто очнулась – дернулась вдруг в сторону, вырывая из чужих рук масло:
– Что надо? Иди своей дорогой!
– Я только помочь, – растерялся парень.
– Знаю я вас всех, сам такой же! – отрезала она с непонятной злобой.
Маврина пошла, а молодые люди, ошарашенные таким отпором, остановились. Юноша глянул на девушку, девушка на юношу. Сначала они глядели друг на друга с недоумением. Потом засмеялись и начали хохотать. А потом – целоваться. На виду у всех.
Когда Маврин решился перейти на шаг, он долго не мог отдышаться, измученный вконец. И может быть, парадоксальным образом, ощущение, что, загнанный и несчастный, достиг он предела своих сил, только и помогало теперь держаться: не думать, не вспоминать, не подпускать слишком близко к сердцу страх.
Большего несчастья никогда еще в Диминой жизни не приключалось, он представить себе не мог, чтобы на долю нормального, вчера еще совершенно не потревоженного судьбой человека выпали ни с того ни сего, без всякой явственной вины и повода, подобные испытания. Несмотря на то, что страшная, непостижимая беда уже произошла, произошла бесповоротно, Дима еще не мог охватить умом все непомерные, чудовищные размеры случившегося. Смутно угадывал он лишь одно: в неправдоподобности того, что случилось, в самих размерах несчастья таилось какое-то, неясное еще и для него самого, оправдание. И от этого чувствовал он всепоглощающую, мучительную жалость к самому себе.
Глазами, полными слез, глядел Дима на мир, и мир расплывался, терял свои привычные черты, мир казался зыбким, ненадежным, безрадостным местом.
Предостерегали издалека крашеные фанерные буквы: «Их разыскивает милиция».
Сколько ни вглядывался Дима в смутные, не имеющие выражения лица мужчин и женщин, обезвредить, задержать, сообщить о местонахождении которых призывали его афиши, ни в ком не мог он обнаружить что-то такое очевидное, что объяснило бы ему, как и почему все эти разные люди оказались в одном месте, категорически перечеркнутые по тексту красной полосой: опасный преступник! Ничего не могли объяснить отрывочные сведения: родился, учился, работал… Все шло, видно, как у всех, в потом – бах: опасный преступник! Потом случилось что-то такое, о чем не решались писать даже тут – в объявлении на стенде милиции – настолько это происшедшее было, наверное, стыдно и некрасиво. Родился, учился, работал, а потом – бах: опасный преступник! Вот и все. Больше о нем и говорить не хотят. И прочный висячий замок на витрине. Можно было подумать, что, собравшись вместе, эти люди обладали какой-то заразной, безнравственной силой, от которой следовало защищать и детей, и взрослых. Защищать вот так – тяжелым висячим замком.
Дима сгорбился, натянул куртку по спине вверх, почти на затылок, будто голову прикрыть хотел, потом потянул ее за отвороты вперед, неуютно поежился и побрел.
Здесь, вдали от новых микрорайонов, в старом городе, где стояли нетронутые с дедовских времен двухэтажные кирпичные дома, перекликались через дорогу настежь раскрытые двери крошечных магазинчиков, где пусто было, неторопливо на улицах, изредка только громыхали по разбитому асфальту прибывшие из района, замызганные весенней грязью грузовики, откуда здесь было взяться опасным преступникам?
Долго стоял Дима на совершенно пустынном перекрестке, ожидая, когда загорится ему зеленый свет. Машин не было вовсе, и люди ходили по улице как кому вздумается. А Дима начал движение, когда желтый сигнал сменился на зеленый, пересек проезжую часть и пошел на далекие звуки духового оркестра.
Могучие медные трубы играли «Прощание славянки». Щемящие звуки качали и влекли: чем ближе подходил Дима, тем сильнее, осязаемее они становились. Можно было уже различить отдельные инструменты: ритмичное уханье барабана, вздохи, горячечное дыхание больших и маленьких труб.
Дима завернул за угол и сразу очутился в узком треугольном сквере перед зданием военкомата. В тот же миг оркестр кончил, последний раз ударил барабан, замерли, стали к солдатским ногам трубы. И оттого, что трубы замолкли, послышались повсюду голоса. Сквер был полон призывников. Большей частью не стриженные, одетые с гражданской вольностью, они держались вразброд, компаниями, кто с кем пришел. Родители, знакомые, друзья, подруги.
Около солдат из оркестра собрались любопытные.
– Все время так? – спросил подвижный паренек с нахлобученной на самые глаза шапочкой «петушиный гребень».
Барабанщик покачал головой:
– Не, нештатный оркестр.
– Это как?
– Наряды, служба – как у всех, а уж сверх этого на плацу играем – для собственного удовольствия.
– Не слабо, – ухмыльнулся парень и скрылся обратно в толпу.
– А куда нас повезут? – спросил кто-то из-за спины Димы.
Солдат пожал плечами:
– Вон прапорщик знает.
– Знает, но не скажет, – поправил второй.
– Если знает, – уточнил третий.
– А если не знает, то, конечно, скажет, – тогда скрывать нечего, – закончил первый.
Ребята поняли, что их дурачат, заухмылялись. Но не так, как солдаты – открыто и весело, скорее, растерянно, даже виновато. Всего несколько месяцев, год отделял парней в военной форме от их сверстников в гражданской, но невидимый, хотя и ясно ощущаемый рубеж отделял их друг от друга. Солдаты держались спокойно, дружно, с тем чувством несуетливого, неброского достоинства, которое приходит ко много поработавшим, усталым людям.
На скамейке под большим узловатым каштаном сидел обритый наголо призывник. Склоненная над гитарой голова блестела. Он играл и пел. Хорошо играл, хорошо пел, и только, может быть, чуть торопил и без того энергичный ритм, словно последний раз пел, и обязательно надо было успеть, закончить и поставить точку: «Один говорил, что жизнь – это поезд, другой говорил – перрон…». Вокруг стояли, слушали. А девушка, что сидела рядом, не столько слушала, сколько смотрела. На руки певца, на лицо его – запомнить хотела. Надолго.
Дима и здесь постоял, постоял и дальше пошел.
– Под портянки носки шерстяные надевай, – сказала мать.
Сын кивнул.
– Не положено, – возразил отец.
Сын тоже кивнул.
– Как это не положено? – удивилась мать.
– Так, не положено и все, – невозмутимо сказал отец. – Я тебе, Коля, вот что скажу: служи хорошо. Начальству в глаза не заглядывай, не надо, а служи честно, добросовестно…
Тут он обнаружил вдруг, что рядом стоит Дима и, вытянув шею, слушает. И сын и мать тоже посмотрели на Диму, ожидая, что он что-нибудь спросит или скажет.
– Извините, – очнулся Дима. Двинулся прочь.
Главное лицо в сквере был прапорщик, стоило ему остановиться, чтобы дать себе передышку в беспрестанном сновании в военкомат и обратно, пальцем ткнуть в козырек фуражку, приподнять ее над взмокшими волосами, как тотчас, пользуясь заминкой, собирались вокруг люди.
– А это за что? – уважительно показал на орден Красной Звезды худой высокий призывник.
– За Саланг.
– Тот самый?
– Да. Кабул – Шерхан. Высшая точка. Перевал, – прапорщик обрисовал в воздухе дорогу и перевал на ней.
Помолчав, тот же парень снова спросил:
– Страшно было?
Прапорщик плечами пожал. Потом подумал и снова пожал плечами:
– Одним словом не объяснишь.
Ни торопить его, ни переспрашивать никто не решился. И только когда стало ясно, что больше прапорщик про свой страх ничего не скажет, один из слушателей, смущаясь и краснея, начал:
– Знаете, я, когда маленький был, часто об этом думал: вот как люди пытку переносят или в бою, нужно в атаку встать, а каждая пуля в тебя летит…
Прапорщик слушал серьезно и при этих словах чуть заметно кивнул.
– …И вот я думал: а я смогу? Думал, думал и всегда получалось, что смогу. А теперь вот, когда старше стал – теперь иногда не знаю…
Прапорщик снова кивнул:
– Это правда. Думай не думай, когда решающая минута приближается, все как будто заново приходится для себя определять… а потом и это уже не важно, остается только миг – подняться под пули. И вот тогда либо ты смог, либо не смог, а все, что ты раньше о себе думал, уже не имеет никакого значения. Либо встал, либо нет… Я десять лет в армии прослужил и никогда не слышал, как пуля над головой свистит, та, что в тебя метила… Ехал в Афганистан и, если честно, то точно так же вот сомневался: смогу ли?
– А были такие, что не смогли?
– Были.
Притихшие пацаны молчали. И тот, что спрашивал, напряженно нахмурил брови и тоже молчал.
Вылез вдруг Маврин, как дернуло его. Слишком уж много всего накопилось, накипело в душе, чтобы сумел он сдержаться.
– Я бы смог, – сказал он внезапно с отчаянием. – Я бы смог! Что, не верите? Смог бы!
Они не верили.
Не зная, как убедить, чем еще доказать, что он точно смог бы, в атаку бы поднялся и все, что надо, сделал не хуже других, никого бы не посрамил и не подвел, что жизнь, если надо, отдал бы, Дима руку к груди прижал, а на глаза его навернулись искренние слезы.
Кто-то явственно хихикнул.
– Это хорошо, – сказал тогда прапорщик. – Хорошо, что ты в себе уверен.
– А как вы орден получили? – снова спросил призывник.
– Орден? Потом расскажу. Строиться пора.
Прапорщик широко махнул рукой, отсекая разговоры, и повысил голос:
– Кого назову, выходи строиться! – развернул список.
– Андреев!
Неровный строй вытягивался вдоль аллеи, вольная толпа призывников постепенно редела.
– Лютый! – кричал прапорщик. – Где Лютый? Так. Миколайчик!
Стриженый гитарист торопливо поцеловал свою девушку, сунул ей гитару и поспешил в строй.
– Щетинин!
Щетинин оказался последним. Прапорщик еще раз глянул в список.
– Всех назвал?
Оставленный в одиночестве, Дима просительно засматривал в глаза. Прапорщик заколебался:
– Ваша фамилия как?
– Маврин.
– Маврин? – снова полез в список. – Маврин?
А Дима, словно надеясь на чудо, молчал. Но чуда не произошло.
– Нету Маврина, – сказал прапорщик.
– Меня не сейчас призывают, – заторопился Дима, – позже. Но я тоже хочу сейчас. Можно?
В строю засмеялись.
– Оставить смех! – начальственно оборвал прапорщик. Но он, похоже, и сам едва сдерживал улыбку.
– Вам надо к военкому обратиться.
– К военкому?
– Да.
– Прямо сейчас?
– Если примет.
– А он здесь?
– Все! – поморщился уже прапорщик. – К военкому, я сказал, к военкому, не мешайте, – и повернулся к строю.
– Так! Становись!
Оркестр заиграл «Прощание славянки», неровной колонной прямо по мостовой двинулись призывники, побежали следом родственники и зчакомые, заплакала девушка с гитарой. Она смеялась и плакала одновременно. Как-то совсем неуместно заулыбалась, махая рукой, а потом утерла слезу и снова улыбнулась. Тот бритый наголо гитарист не оборачивался ни на слезы, ни на смех, уходил все дальше и дальше. Оркестр играл «Прощание славянки».








