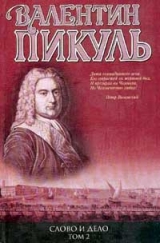
Текст книги "Слово и дело. Книга 2. Мои любезные конфиденты (др. изд.)"
Автор книги: Валентин Пикуль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Подумай, Франческо, еще не поздно: может, лучше вернуться на пристань, сесть на корабль и отплыть домой? Нет, Франческо Арайя останется в России, ибо он жаждет золота… Много золота!
Глава девятая
Князь Алексей Черкасский света белого невзвидел от страха, когда узнал, что Варька кольцо обручальное Левенвольде вернула. Ссориться с Левенвольде очень опасно.
– Дура! – кричал кабинет-министр на дочку. – Ты же и себя и меня погубила. Сама ея величество тебя за обер-гофмаршала сватала… Да и кому ты нужна со своим рылом? Погляди на себя в зеркало: перестарок уже, двадцать четыре годочка прожила в девках.
Решил князь спасаться от гнева Левенвольдова. Варьку спешно за рукоделье усадил, чтобы она горбатой Биренше туфли серебром вышила. Жену свою кабинет-министр заставил для самого Бирена жемчужные нашивки для постелей связать… Пугался князь.
– Может, – дочери говорил, – тебя и впрямь за Антиошку Кантемира выпустить? Пущай уж мамалыжник сей дохлый пользуется всем, что я накопил…
Варька капризничала, рыдая горестно:
– Не хочу за Антиошку! Не хочу за обер-гофмаршала… мне бы прынцика какого… хоть завалященького! Нешто не сыскать?
– Дождешься, что выдам тебя за истопника Ивашку Милютина, ныне он богат. Эвон какие милютинские ряды в Гостином дворе возвел… Вот возьму и отдам ему тебя с потрохами!
Велел Черепаха-Черкасский дворне ружья готовить да голубей ловить для дочери. Желал он меткой стрельбой Варькиной умаслить гнев императрицы. И писал кабинет-министр об успехах дочери самой Анне Иоанновне в депешах курьезных: «Иное попадает княжна, иное кривенько. Садили голубя близ мишени, и стрелила в крыло, и голубь ходил на кривобок, а в другой раз совсем убила его…»
Анна Иоанновна в это лето увлеклась запусканием змеев под небеса. Руки царицы, тетиву луков татарских рвавшие, удерживали змея любого, и плыли они над крышами столицы, драконами страшными разрисованные, пока не пропадали совсем в поднебесье.
– Ай да забавушка! – восклицала Анна, радуясь…
В городе же нельзя было уже окон открыть – петербуржцы задыхались от дыма, который наполнял столицу. Вокруг трещали леса в огне, выедало в пламени мхи. Ушаков рыскал по округе, выискивая поджигателей. Люди злоумышленные жгли и бояр на Москве; подозрительных бабок, к колдовству склонных, хватали здесь и там, обливали их смолою, сжигали на кострах публично, чтобы народ страхом проникся. Но это не помогало: две столицы полыхали из года в год. А бешеные собаки, вывалив из пастей сочные пенные языки, носились по городам, кусая солдат караульных, детишек и проезжих. Однажды и во дворец к Анне Иоанновне ворвались два таких пса, вволю погрызли придворных. Леса вокруг Петербурга стали сводить под корень: чтобы пожаров не было, чтобы разбойным людям негде прятаться было. Всюду царили страх, неуютство, смятение…
Европейские газеты открыто печатали, что надо ждать смены правителя на престоле русском, а от народа русского – бунта кровавого. И все чаще в «курантах» иноземных мелькало имя отверженной и забитой при дворе цесаревны Елизаветы. А в народе русском постепенно складывалась вера, что только Елизавета Петровна, круглолицая плясунья, простоватая, рыжеволосая, смешливая, – только она, девка воистину русская, может дать облегченье всем людям. Но Елизавета пока сидела смирнехонько…
* * *
Волынский с калмыком своим, верным Кубанцем, поехал к себе на дачу по Петергофской дороге. День выпал жаркий, дымно оплывало над взморьем солнце. Словно челноки в машине ткацкой, ерзали по дороге императорской – туда и сюда – драгунские разъезды, дабы путников проезжих от разбоя случайного оберечь.
Не было таких мыслей, которые бы Артемий Петрович мог скрыть от своего дворецкого, и сейчас затужил доверительно:
– Дожили, чтоб оно все треснуло… По своей же земле русский дворянин не знает как живу-здорову проехать. Из народа-труженика мы народ в разбойника превратили. Да и сыскать как? По себе ведаю: когда мне худо, я бы первым кистень взял и пошел бы…
Вдруг со звоном вылетели стекла из окон. Карету вздыбило. С ее боков, хрустя, посыпался лак. Возок Волынского столкнулся со встречной каретой, сцепясь с нею осями колес; лошади с испугу занесли на обочины, вся упряжь сразу перепуталась. Артемий Петрович был на поступки скор – сразу палку схватил и стал бить кучера на чужих козлах. Бил всласть – он любил подраться.
И вдруг над ним раздался голос – властный, строжайший:
– Брось палку, Петрович… Твой кучер виноват более моего!
У Волынского даже руки повисли – трость выронил.
Из окошка взирал на него генерал-прокурор империи Ягужинский.
Долго молчали заклятые враги, один в карете сидя, другой посреди дороги стоя. Мотали лошади головами, грызли удила, а два дышла торчали над ними крестом, словно распятие. Затем граф Ягужинский не спеша из кареты выбрался, и Волынский сразу заметил, что берлинское пиво не впрок пошло ему: постарел Пашка, сугорбился, в пальцах трясучка, ногу волочил, след на песке оставляя.
– Вот уж не ожидал, – сказал генерал-прокурор, – что первого тебя встречу, Петрович… Что скажешь утешного?
Отошли они подалее от людей челядных. А вот слов не было.
– Кто же замест тебя в Берлине послом русским остался?
– Посадили курляндца фон Браккеля, будто русского не нашли… Говорят, – прищурился Ягужинский, – ты после смерти Головкина уцелился на его место в кабинет-министры попасть. А назначили-то меня… Верь, что чести этой не искал. Конъюнктур здешних, петербургских, из Берлина было не разгадать. Может, подскажешь?
– Охотно! – прорвало Волынского на искренность. – В берлоге кабинетной один медведь – Остерман, и то графу Бирену неугодно. Вот и везут второго – тебя! Бирен надежду возымел, что ты зубы Остерману все выломаешь. Остерман же, напротив, уверен, что ты на Бирена ринешься с кулаками, как прежде бывало… Уж ты прости, что правда с языка сорвалась! Но, по примеру римскому, скоро мы все, яко Нероны, станем побоище гладиаторов наблюдать издали… Кто кого свалит и жив останется?
Высоко над ними, в дыму, свиристел крохотный жаворонок.
Ягужинский травинку сорвал, куснул ее губами бескровными.
– Худ боец из меня ныне… состарился. Коли на мне конъюнктуры строят, то битвы потешной не бывать. Умру я скоро, Петрович…
И так он это сказал, что Волынского даже передернуло.
– Не умирай ты, господи! – отвечал с надрывом (даже ласково). – Коли ты в Кабинете, так хоть двое русских противу одного немца. Умрешь ты, граф, и… не меня! Не меня изберут! Нет, станет два немца противу одного русского, да и тот русский – князь Черепаха-Черкасский, слова доброго не стоит.
Ягужинский на это смолчал. Похромал к своей карете.
– Петрович! – окликнул издали. – А это ведь ладно получилось, что я тебя раньше не повесил… Теперь тебе шумы устраивать! Тебе Остермана и Бирена сваливать!
Два дышла разъехались, распятие поломав, конюшие распутали упряжь, настегивая лошадей. Поехали. Один – в столицу, другой – на дачу… Кубанец искоса на господина своего посматривал:
– Чего сказал-то враг этот? Грозил? Али как?
– И не поймешь. Какой он теперь враг! Вроде бы и Пашка, а вроде бы и нет Пашки. Случилось ему в старости расслабиться духом… Самобытство свое потерял Ягужинский, и, чую, драки уже не будет. Базиль, мыслю я так, что Пашка долго не протянет. И место его в Кабинете ея величества опять будет упалое. Нешто же и в этот раз не меня туда посадят?
Кучер нахлестнул лошадей. Волынский откинулся на валики пышных диванов, простеганных фиолетовым лионским бархатом.
– Я-то еще самобытен! – выкрикнул. – Мне теперича шумы устраивать! Я любому, кто на пути встанет, глотку зубами вырву…
* * *
Обер-прокурор Маслов теперь неслыханного требовал: персонам знатным указывать стал, каково им мужика беречь надобно. Пуще всего Маслов нападал на князя Черкасского, как на самого богатого помещика, и за это кабинет-министр дышал на Маслова злобой яростной, неистребимой…
– Да не грози мне, князь, – отвечал ему Маслов. – Я своей суровости к алчности вельможной не отменю. Мужик русский за рубеж утекает. Еще десяток таких лет, и Россия вовек потом не оправится. Мало вам, што ли, своих нищих? А вы, министры высокие, еще из Польши наших беглых крестьян воротить желаете…
Стоном выла земля русская, земля богатейшая, земля плодоносная. Два года подряд, будто в наказание какое, побивало Русь по веснам заморозом нечаянным, потом жаром опалило нужду мужичью. Сгорало все на корню! И нужда подперла уже под кадык самый: на пасху святую, когда бы жизни радоваться, маковой росинки в рот не попало. Вновь, словно саранча серая, нахлынули нищие на Москву и Петербург, от христорадцев не стало в городах спасения…
– В чем дело? – удивлялся Остерман в Кабинете. – Когда немец встречает добропорядочного нищего, он дает ему работу. Когда русский встречает лентяя-нищего, он дает ему милостыню… Отсюда и явилось изобилие попрошаек – от безделья!
А что мог сделать Маслов? Манна небесная на русский народ еще никогда сама не просыпалась. Единое дело провел он – указ! Дабы земля дворянская впусте не лежала, пускай мужик на ней сеется, в свои закрома зерно сгребет. И указно повелел обер-прокурор помещикам исполнить все это «под страхом жесточайшего истязания и конечного разорения…»
– Как они с мужиками, так и я с ними буду…
Дунька, умница его рябая, на колени пред мужем пала.
– Батька мой родный, – заплакала, трясясь, – отступись ты с миром… Экие персоны противу тебя стенкою встали! Неужто, себя и меня не жалея, проломишь ты их слабым мненьем своим?
– Лоб себе расшибу, – отвечал Маслов, – но не отступлюсь…
На этот раз свидание его с императрицей было долгим и мучительным. Бирен тоже при этом присутствовал, но больше помалкивал. Анна Иоанновна завела речь о войне близкой, войне разорительной, ныне много денег понадобится. Да еще решила она чиновникам в столице, противу иных городов империи, в два раза денег больше давать, потому как Петербург – парадиз (что в переводе на русский – рай означает). Теперь Маслов для нее где хочешь достань, вынь да положь, – чтобы из ада рай сделать.
– Ваше величество, – отвечал Анисим Александрович, нижайше кланяясь, – корень зла в бессовестности помещиков состоит. Подати палкой выколотить – наука невелика. А вот недоимки с народа за прошлые годы собрать – больно, словно зуб вытянуть. Нонеча уже вся Россия… вся, поверьте мне, состоит в должниках вашего величества, и должники те разбегаются куда глаза глядят!
– Не все же должны нам, – заметил Бирен озабоченно.
Маслов на каблуках туфель, сверкнувших стразовыми пряжками, резко повернулся в его сторону. Он знал, что Бирен к нему благоволит, и разговаривал с графом всегда открыто, без утайки.
– Верно, ваше сиятельство, не все… Однако нам грозит оскудение полное и безлюдье провинции – вот что страшно! Деревня скоро станет пуста: кто в города – милостыню просить, а иные – в лес, кистенем пропитание добывать. Из того в печали горестной я пребываю, и прошу высочайшей милости…
– Что умыслил-то, прокурор? – спросила его Анна подавленно.
И тогда Маслов ударил ее, словно в лоб:
– Вот что! Крепостное право надобно в законность привесть. А для этого сначала мужикам непременно воли прибавить…
– Эва надумал! – удивилась Анна, поглядев на Бирена.
– А я не понял его, – ответил Бирен. – Переведите мне…
Анна Иоанновна повторила ему слова Маслова по-немецки.
– Пусть он делает что хочет, – засмеялся Бирен. – Я ведь не русский помещик, а только обер-камергер двора русского.
Но императрица поддернула рукава голубой кофты. Красный платок на ухо ей сбился. Туфли царицы шлепали по паркетам.
– Зато я, – сказала, побагровев от гнева, – помещица российска! И всей России есть хозяйка… Думаешь ли, Анисим Ляксандрыч, что болтаешь тута?
– Ваше величество, – снова поклонился ей Маслов, – не ваших прав ущемления домогаюсь, а лишь ничтожно и покорнейше воли прошу для людей, ущемленных всячески от рождения.
Бирен тяжко вздохнул. Что он вспомнил сейчас? Может, свою бедную мать, собиравшую шишки для герцогского камина? Или острый запах конюшен – запах его юности – вошел ему в ноздри, как память обо всех унижениях, пережитых им смолоду? Он вздохнул…
Анна Иоанновна в ответ заявила Маслову:
– Моими дедами так уж заведено, чтобы воли мужикам не давать, а помещику о довольстве их всемерно и отечески печься.
Бирен куснул ноготь. Анна Иоанновна взглядом, полным муторной тоски, вызвала на себя его ответный спокойный взгляд.
– Я в русские дела не хочу вмешиваться… трутти-фрутти! А впрочем, я посоветуюсь. Хотя бы с моим гоффактором Лейбой Либманом… он имеет верный взгляд на дела финансовые…
– Румянцев-то генерал, – неожиданно сказала Анна, – был прав: финансов в России нету. А есть только подати и недоимки. Европа смеется над нами, а мы плачем. И те недоимки хоть из глотки, а надобно вырвать. У меня эвон война с турками на носу виснет… Что же я? Возьму твоего Лейбу, граф, и с ним воевать пойду? Много я с жиденком твоим навоюю.
– Пожалуйста! – кивнул Бирен. – Вот перед вами стоит господин Маслов: честнее этого человека я никого больше не знаю. Соблаговолите же ему все недоимки с народа и собрать для вас. Пусть он давит помещиков, а помещики пусть прессуют крестьян…
– Ты слышал, что тебе сказано? – спросила императрица.
Маслова дома жена встретила, сообщила, что приходил английский врач Белль д’Антермони, целый час сидел.
– Чудной он, – рассказывала Дунька. – Молол мне о разностях, будто тебе надобно отравы беречься. Про женщин сказывал, что есть у них перстни на пальцах. Камни в перстнях у них – то голубые, то розовые, и следить надобно за столом, чтобы цвет их не переменился: иначе – беда будет!
Маслов выругался, шпагу в угол комнат закинув. В эти дни граф Бирен получил от него письмо. Маслов предупреждал Бирена, что завелись люди, желающие его, Маслова, погубить… Тут как раз вернулся из Берлина и генерал-прокурор – Пашка Ягужинский.
* * *
Прежнего согласия между ними не получалось. Обер-прокурор Маслов еще сражался с несправедливостями. А вот генерал-прокурор уже сник, и при дворе видели теперь Пашкину спину – согбенную.
Покорность бывшего буяна сильно озаботила графа Бирена:
– Что с ним случилось? Я рассчитывал, что он, приехав домой, сразу расшибет в куски Остермана. А тут надо бояться, как бы Остерман не загнал Пашку под стол…
А счастливчик Рейнгольд Левенвольде скоро позабыл Варьку и утешился в своем потаенном гареме, составленном из разнокожих женщин. Миних приехал из Польши в Петербург – громкогласный, звенящий амуницией, рыкающий на всех, богатый, толстый… Эти два обстоятельства отозвались в далеком Лондоне, где угасал посол русский – князь Антиох Кантемир. Он вновь обрел надежды на счастье с «тигрицей», как величал поэт княжну Черкасскую; он оценил приезд Миниха, как подготовку к войне, и – в случае победы Миниха – Кантемир мог претендовать на корону царя Валашского и господаря Молдавского…
Впрочем, князю Кантемиру вскоре предстоят некоторые неприятности. Европа готовит к печати книгу – о России и русских.
Глава десятая
Ветка! Вот она, обитель беглых людей русских. На реке Сож, в поймах ее и на островах, по берегам приятным, белеют мазанки слобод раскольничьих – Марьино, Луг Дубовый, Крупец, Грибовка, Тарасовка, Миличи… [2]2
Ныне Ветка – поселок Гомельской области на юго-востоке Беларуси.
[Закрыть]Брызжет ярью малина над частоколами, несут детишки грибы из леса, над нехитрым мужицким счастьем стоят в карауле на крышах аисты польские…
С тех пор как Петр I разгромил скиты Керженца, а Питирим нижегородский (этот волк в рясе) пожег на кострах 122 000 раскольников, – с тех пор и стала зарубежная Ветка райским местом для всех несчастных, воли ищущих. В лесах Черниговщины, совсем недалеко от Ветки (но уже в России), лежало грозное, тишайшее Стародубье – там тоже «гнезда» были. А здесь, по реке Сож, словно город большой и вольный, цвела, шумела, пела, гуляла, сеяла, колосилась, жала, ела, пила и справляла свадьбы зарубежная непокоренная Русь!..
По всей стране вышел запрет от царицы, чтобы простые люди серебра монетного не имели. Ветка – напротив – имела серебра много. Епископа им своего захотелось. Серебро – в ход. Епифания Реуцкого, которого Феофан на Соловки ссылал, от солдат отбили, привезли на Ветку: священнодействуй! Земли в округе Ветки пану Халецкому принадлежали; пан на Ветку приедет – ему полный воз денег насыплют, за это пан своих смердов тиранит, а русских не тронет. Жизнь тут вольная: царя нет, пыток нет, поборов нет, – цветет в зелени садов, хорошеет и богатеет зарубежная Русь… По утрам гудит колокол церкви, и храм этот – единый, где за Анну Иоанновну крестьяне не молятся, а на Синод палаческий отсюда харкают, как на падаль поганую…
Вот сюда-то, в этот мир, и попал гулящий Потап Сурядов.
* * *
До Ветки следуя, он сильно сомневался – не изгонят ли?
Мерещилось, будто его тут станут пытать о правилах веры: как крестишься – двупало или трехперстно? Потапу все равно было – хоть кулаком крестись. Боязно было поститься да молитвами себя утруждать, – за годы эти гулящие отвык Потап от набожности церковной.
Однако опасался зря. Живи, трудись, не обижай других и сам обижен не будешь. Не было тут постников да молитвенников. Беглые солдаты и матросы галерные, мужики вконец разоренные, люди фабричные, но больше всего – крепостных! И нигде Потап столько богохульства не наслушался, как здесь, на Ветке, особо в дни первые… Ходил по деревням ветковским какой-то старый бомбардир с ружьем ветхим за плечами.
– Люди! – взывал он. – Заходите прямо в меня, будто в храм святой… Вот престол храма! – ударял себя в грудь. – Вот врата царские! – и при этом рот разевал. – А вот и притворы служебные! – на уши свои показывал…
Всех таких, как Потап, «из Руси выбеглых», собрали гуртом, и монашек веселый, руками маша, командовал:
– Которые тута еще не мазались, ходи за мной… Перемазаться греха нет! У нас, как и везде на Руси, молятся. Вот аллилуйя лишь сугубая, хождение посолонное, а заместо слова «благодатная» употреблять следует «образованная». Мирро у нас свое, сами вдосталь наварили. Вот и пошли дружно – перемажем вас!
Кисточкой чиркнули Потапа по лбу, запахло гвоздикой и ладаном. Отшибли в сторону. За ним другой лоб подставил. Потом «перемазанных» отпустили на волю вольную, и тут каждый должен был соображать – как жить далее. Потап – по силе своей – в паромщики подался. Ветка очень большая, народ в ней никто не пересчитывал, но в иные времена, говорят, до 100 000 скапливалось; на воде много деревень стоит, одному – туда, другому – сюда ехать, вот и крути громадным веслом с утра до ночи. Но еда была обильная, сон крепок и сладок в садах душистых, никто не гнался за тобой с воплем: «Карау-ул, держи яво!..» Чего же не жить?
Росла борода у Потапа – русая, с рыжинкой огненной, кольцами вилась. По ручьистым звонам, через темную глубину и русалочьи омуты, гонял он паром бревенчатый, ходуном ходило весло многопудовое, играла сила молодецкая. Иной раз так разгонял паром, что врезался он в берег с разлету: падали бабы, просыпая ягоды из лукошек, визжали девки, а кони ставили уши в тонкую стрелку.
В садах берсень и вишенье поспевали. Иногда и грустно становилось. Отчего – сам не знал, но вспоминался тревожно край отчий. И здесь тополя да вязы над водой никли, и здесь курослеп желтый да щавель красненький – а все не то… Будто не хватало чего-то!.. Речь поляков начал понимать. Украинскую – тоже. И кричали петухи по утрам. Заливисто и бодряще, как кричали они на Руси…
– Ах ты жизнь моя! Не сходить ли мне на Русь в гости?
Но его строго предупредили:
– Того не смей. От нас едино лишь начетчики-грамотеи ходят, по Руси «гнезда» вьют, они тропы заповедные знают. Тебя же ишо на Стародубье пымают. Есть там полковник такой – Афанасий Прокофьев Радищев, он людей толка нашего свирепым огнем палит. Серебро возами у нас вымогает. И ходить нельзя: вызнают что-либо – опять нам выгонка на Русь под ярмо станется…
Через поляков доходили до ветковцев слухи неясные. Говорили за верное, будто Миних уже отъехал на Украину, готовясь противу турка воинствовать. Армия же русская из Польши домой тронулась, а впереди себя гонит толпы беглецов русских. Всякого, кого увидят, обратно с собою уволакивают. Помещики же русские беглецов тех на границе ловят – кому какой достанется (тут уж не разбираются), и опять в рабство вечное закабаляют…
Но пан Халецкий однажды приехал, утешал ветковцев:
– Не бойтесь, хлопы москальски! Миних покинул земли Речи Посполитой, а обратно не вернется. Ваше государство иными заботами отягщено сейчас – поход на Крым готовят…
* * *
Кинуло цвет в завязь – твердую, кислую. Старики сулили хороший урожай яблок и груш. Крепко спал Потап на сеновале, ноги и руки разбросав по травам благоуханным. Снился ему Колывань-городок, где на Виру он калачи покупал… потом с калачом в руках его пред полком явили. Костер развели, и забили барабаны… Сам граф Дуглас схватил Потапа за ногу и потащил его к профосам, чтобы живьем его сварить в котле кипящем…
– Вставай, дурень! – сказали в ухо ему. – Выгонка учалась!
Вовсю стучали солдатские барабаны. Поздно было спасаться: три полка армейских, войско драгунское и казачье уже окружило слободы ветковские. Ветка горела, полыхали по берегам деревни. В огне корчились белые яблони, ревел в хлевах запертый скот, мчались через сады, ломая изгороди, длинногривые кони. Выскочил Потап на улицу да – к реке. Тут его ружьем по голове так ладно пригладили, что он покатился… Мужиков вязали накрепко. Баб отгоняли в сторону. Детей по телегам кидали. Через всю слободу шла старуха и, приплясывая, творила злобное причитание:
Не сдавайтесь вы, мои светики,
Змию царскому – седмиглавому,
Вы бегите от него еще далее —
Во горы высокие, во вертепы…
Тем и кончилась райская жизнь. Разлучив матерей с детьми, мужей от жен оторвав, гнали через рубеж, обратно в Россию, в рабство неизбытное… За ними догорала Ветка, еще вчера отряхавшая белые цветы. Потап в страхе был: что отвечать допытчикам, ежели спросят – кто таков и откуда сам?
Всех паромщиков к труду приспособили. Должны были они церковь, на Ветке бывшую, за рубеж перетаскивать. На переправе же через Сож церковка опрокинулась – бревна ее далеко уплыли. Решили хоть алтарь спасти. Артельно потащили на Русь алтарь, и Потап свирепо налегал в лямку. Гроза была ночью. Молния как фукнет с небес – будто, язва, из пушки прицелилась. От алтаря божиего – пырх! – одни головешки остались. Людей пожгло, Потапу бороду огнем опалило… Полковник Радищев разрешил ветковцам забрать с собою мощи нетленные от старцев святой жизни. Потап на себе тащил гроб старца какого-то Феодосия, а в гробу что-то подозрительно стукалось. Напрасно он мучился: когда на русской земле гроб открыли, там – никаких мощей, одни косточки.
Так-то вот приволоклись «выбеглые» в Стародубье. Афанасий Радищев тут объявил, что сидеть надо тихо. А подушный налог теперь, яко с отступников, будут с них двойной собирать. Годных же к службе воинской сейчас в рекруты запишут. Потап ног под собой не чуял – спасаться надо. Тут сбоку от него объявился человек незнаемый, который совет дал.
– Вишь, вишь? – сказал, на Радищева указывая. – Вишь, как зоб у него распухает? Сейчас в гнев войдет и льва библейского собой явит… Коли спасаться, так беги до города Глухова: тамо, слышал я от людей знающих, каждому дается сразу по бабе, по шапке, по волу, по сабле и по жупану… Станешь казаком вольным!
И Потап бежал…
* * *
В преддверии большой войны генерал Джемс Кейт объезжал украинские засеки и магазины, где все припасы давно сгнили, еще со времен Петра I сваленные в кучи. Появился на Украине и Карл Бирен – инвалид, брат фаворита. Начались его достопамятные зверства: гарем развел из девок малолетних, заставлял баб щенят на псарне грудью выкармливать…
Бунчуковый товарищ Иван Гамалея сидел в писарской избе войска Лохвицкого. На подоконнике дозревали арбузы. Один уже треснул. В раскол его, в самую-то сласть, в мякоть яркую набивались окаянные мухи. Бунчуковый писал жалобу графу Бирену – на братца его Карла Бирена:
«…в сиятельстве своем подманил на бахче девку малую Гапку, увел в садик за куренями и, учинив той девочке гвалт ее паненству и много своим мужским бесстыдием над оною паствячися, аж до смерти оную размордовал, отчего и вмерла Гапка на день вторый…»
Упала тень от дверей – загородила солнце. Бунчуковый глаза от писанины оторвал, на пришельца незваного глянул. Стоял перед ним молодой парубок, ростом под потолок, ноги босы и черны от пыли, рот широк, скулы остры от голода, а глаза голубые.
– Чего тоби? – спросил Гамалея.
– Пособи, пане, – отвечал тот. – В казачестве бы мне осесть.
– А ты кто таков? Чего-то я тебя на кругу не видывал.
Назвался парень Потапом (видать, беглый). Взял бунчуковый плетку, на стене висевшую, опять Гапку вспомнил.
– Иды, – сказал, – я тоби в сечевики зараз выведу…
Вывел Потапа на двор. И стал лупцевать, ожигая справа налево. Большая свинья терлась об тын, ко всему равнодушная, и гремели поверх тына горшки, раскаленные на солнце, один об другой стукаясь. А бунчуковый ожигал Потапа исправно, приговаривая:
– Оть, москальска хвороба! Развелось вас тут, бисово симя!
Вырвался Потап от бунчукового, убежал. И так стало обидно, что упал он в лопухи посередь площади. Шумела, горланила и плясала над ним в реве быков душная воловья ярмарка. А он лежал и плакал в лопухах, серых от пыли теплой…
– Ой, чоловики ридны! Бачьте, як москаль убивався…
Обступили Потапа хохлы. Стали горилкой потчевать. Давали тютюна нюхать с рук жестких, мозолистых. Пахло от стариков чесноком да яблоками, разило от штанов парубков дегтем колесным, и цветасто реяли ленты зубастых крепкощеких молодок.
– Тю! Тю тоби, – говорили все ласково. – Не убився…
Было это с ним в городе Глухове, где на себе изведал, какова вольность казачья. Под вечер ярмарка опустела. Арбузы лежали на арбах – любой бери. Волы дышали в темноте, как люди, устало и раздумчиво. Потап начал свою жизнь по косточкам разбирать. С чего же начались все несчастья его? Вспомнил он дом Филатьева на Москве и тот день, когда барин послал его на выучку к принцу Гессен-Гомбургскому, чтобы искусству сечения он обучился… «Может, – размышлял Потап, – мне бы тогда судьбу и повернуть? Надо бы не отпираться, как следует выпороть Ваньку Осипова, который ныне Ванькой Каином стал?..»
Прошел не день и не два. Волы привозили арбы с солью и арбузами. Волы увозили пьяных хохлов по домам. Вставали зори над садами и ложился мрак – теплый и волнующий – на землю, радугами осененную. А он все думал. И понемногу сложил в голове своей такое: «Окол народа завсегда толкусь, вот мне за всех и влетает. Не лучше ль жить от народа подалее?»
Даже плечами передернул – столь страшно от людей уходить. Но все же встал и пошел. На этот раз уходил Потап далеко – на Дон или на Кубань (сам не знал пути-дороги). Травы стояли высоко – по грудь. Солнце пекло нещадно. Изредка куреня встречались в степи. Там деды сидели в портах широких. Были деды молчаливы в древней и мудрой старости. Иногда выбредал Потап на засеку покинутую. Еще издали вышка виднелась, на вышке той сложен хворост горюч. Коли поджечь его, начнется тревога по всей Украине, поскачут в седла чубатые хлопцы, завоют их матери, долго будут бежать за конями девки («Татарин! Татарин идет…»). Но татар пока нету – чисто в степи утром. А закаты здесь быстротечны и неминучи, как смерть человеческая. Тьма, звезды, прохлада…
В одну из ночей высокий курган встретился. В тени его Потап и залег. Тихо потрескивал костерок, да скрежетали в ночи, будто сабли, острые иссушенные травы… Задремал Потап, сквозь сон слышал он лепет ветра, шелестевшего золою. Очнулся же от мягкого топота копыт. Глаза протер, спросонья даже оторопел.
– Эй, кто тут?
Прямо над ним нависала бездонная пропасть неба, и над этой пропастью вырастал неведомый… всадник.
Торчала над головой его остроконечная шапка.
– Добрый ли ты человек? – спросил его Потап с опаской.
– Поган урус, – услышал в ответ.
В воздухе свистнуло, жесткая земля, в кольцо собравшись, вдруг захлестнула его горло удавкой мертвой.
– Ах! – вскрикнул он от резкой боли, и что-то сильное потянуло его прочь от погасшего костра, потащило по земле.
А земля эта (такая нежная и мягкая) вдруг обернулась для него злой мачехой. Когтями, кустами, корнями, травами она раздирала тело Потапа, и катилась под ним в даль неизбежную, а топот лошадиных копыт то удалялся, то вновь настигал его. И разом померкло все, и погасли звезды на небе…
Очнулся, глубоко дыша. На шее уже нет аркана. Но зато намертво связаны за спиной его руки. Всадник слез с коня и стоял над ним; вдруг нагнулся, одним рывком поставил Потапа на ноги, снова запрыгнул в седло.
Ногайка взлетела – бац по коню. Еще взлетела – бац по Потапу.
Конь сразу тронул рысцой. Потап – за ним, и аркан от луки седла тянулся к рукам его. Было уже поздно исправлять судьбу. Так они и бежали рядом: конь с человеком и человек без коня.
Начиналось полонное терпение… Он попал к ногаям!








