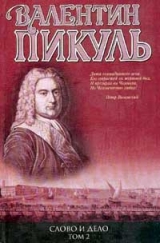
Текст книги "Слово и дело. Книга 2. Мои любезные конфиденты (др. изд.)"
Автор книги: Валентин Пикуль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
На полатях причитала жена, беду предчуя.
– Оставь, – молила мужа. – Замучают ведь тебя изверги. Подумай о себе, где ты завтра проснешься? Вот приедут и схватят, как Жолобова схватили! Не гляди, что далеко забрался – у них руки-то длиннее твоих.
– Не мешай, мать, – отвечал ей Кирилов. – Я не за тем сюда ехал, чтобы весь срам российской жизни пред дикими племенами выявлять наглядно… Уймись ты, все равно напишу и отправлю!
Средь прочих пунктов Кирилов спрашивал у властей столичных: в чем состоит воспитательный смысл вырываний ноздрей до обнажения носоглоточной кости? На что уродовать человека, созданного по подобию божиему? И почему, спрашивал, людей под следствием томят многие годы: войдет в тюрьму молодым, а выходит стариком, и ему говорят: «Извини, брат, ошибка вышла…»? «Калек, к труду неспособных, – писал Кирилов, – вы вот мне прислали, а подумали ли в Петербурге, что калеками Арала и степей не освоить?..»
Великое дело свершил Кирилов – многие тысячи людей он спас от огня и дыбы пытошной.
Императрица указала Ушакову и Феофану Прокоповичу:
– Образумьтесь! Допрос виноватого не обязателен пыткой быть. Эдак-то вы всех людей мне переломаете… Помучай немного, но не тирань, и, пока не ослабел еще, сразу в Оренбург его!
Глава двенадцатая
Париж… За казармами полка «черных гусар» на улице Дэзе кучер придержал карету на развороте, и кто-то стукнул в заднее окошечко. Кардинал Флери выглянул: стоял на улице молодой человек лет тридцати, одетый дворянином-жентильомом, как видно поджидавший здесь проезда всесильного кардинала… Флери распахнул дверцу, ногою в туфле атласной он откинул подножку.
– Вы очень ловкий малый! Надеюсь, – он спросил с усмешкой, – вы не попрошайка! Не прожектер? И вы не станете претендовать на изобретение вами красивых мыльных пузырей?
Незнакомец уверенно сел рядом с кардиналом:
– Я не отягщу ваше святейшество надоеданьем долгим и бессмысленным… Дорога эта (я знаю) ведет в Версаль, куда я не ходок. Мне нужен с вами разговор – открытый, без лукавства.
– Простите, не пойму – кто вы? Ваш акцент необычен.
– Я… русский.
– О! – умилился кардинал. – Все русские любопытны для француза. Итак, вы можете рассказывать. Но для начала назовите себя.
– Имею честь. Я рода знатного. Царица русская Наталья Кирилловна, мать Петра Великого, мне родня ближайшая… Нарышкин я! Семен по имени, а ныне проживаю изгнанником в Париже, где затаился под вымышленной фамилией – князь Тенкин.
– Что вас заставило, мой друг, покинуть родину?
– Насилье и бесправье. Все дело в том, – рассказывал Нарышкин, – что я был обручен, хотя и тайно, с дочерью Петра – цесаревной Елизаветой. Король французский может не гнушаться мною, ибо мы с его величеством являлись женихами одной и той же женщины.
– Уж не она ли вас ко мне послала?
– Нет. Я убежал давно, лет пять назад. Успел окончить здесь Сорбонну, науки разные постиг… И разговор у меня к вам, кардинал, особый и серьезный. Скажите мне вы, представляющий политику короля, доколе же Франция будет терпеливо слышать стоны русские? Не пора ли Версалю вмешаться в дела российские?
– Наш разговор становится опасен, – ухмыльнулся Флери. – Ну что ж. Так, может, даже лучше… Послушайте теперь меня. Французы здравый смысл привыкли заменять остроумием. Я, слава богу, человек неостроумный. Я здраво мыслю. Да, верно, что Россия необходима Франции как друг. Но, посудите сами, что мы, французы, можем сделать?
– Проникните на Русь хоть кончиком иглы, – ответил Нарышкин, горячо и пылко. – А за иглой протянется и нитка. Вы знали б, кардинал, как честь русского имени унижена сейчас. Вы знали б, сколько недовольных в России, готовых перевернуть престол!
– Но это невозможно…
– Возможно это, кардинал! Поверьте, если цесаревну Елизавету, которая живет в обидах, растормошить, будя в ней надежды, тогда дворянство встанет за нее! А… Долгорукие? – спросил Нарышкин. – Голицыны князья? Они же были главными в году тридцатом, когда в день черный для России воссела на престоле женщина с лицом мужским, корявая и злая…
– Поворот, – сказал вдруг кардинал. – Сейчас мой кучер опять придержит лошадей, и вам, я думаю, лучше спрыгнуть здесь. Время для протягивания иглы с ниткой для Франции еще не наступило. Но сейчас я увижу своего короля и доложу о нашем разговоре.
Нарышкин покинул карету кардинала, и она, грохоча колесами по булыжникам, завернула на дорогу к Версалю. Казалось, еще недавно сидел он в Александровой слободе, пил вино с Балакиревым, ездил на охоту с Жолобовым, была с ним рядом цесаревна. Еще недавно он играл на флейте с Василием Тредиаковским… На мосту Понт-Нефф Нарышкин остановился и долго смотрел на мутную Сену.
Ему сейчас очень хотелось квасу или клюквы.
* * *
А за деревней Смольною, близ которой жила Елизавета, с пырхом взлетали из-под снега куропатки. Под сугробами рдела в изморози яркая клюква. Чухонки местные собирали ее, везли в город на волокушах… Петр Михайлович Еропкин ныне здесь же проживал. Строил он монастырь Невский и как сосед частенько виделся с цесаревной. Мало того, архитектор был помещик небедный, а потому Елизавета Петровна деньги у него одалживала.
– Вот управлюсь когда, – обещала, – так верну тебе!
Но Еропкин понимал: никогда она не вернет, пока цесаревна, а ежели корону наденет императорскую, так вряд ли вспомнит о долгах прежних. Но он давал щедро, потому что было ему цесаревну жалко: добрая она, красивая, смешливая и… обижена от двора Анны Иоанновны! Сошелся архитектор и с челядью цесаревны – зубастыми, башковитыми грамотеями. Воронцовы и братья Шуваловы, Александр и Петр, жили трезво, без плотоядства – больше мыслили, спорили. Парни себе на уме, начитанные, хваткие. Возле них крутился, словно шутейный фейерверк, бесшабашный и ловкий Жано Лесток – на все руки мастер, в любой дом вхож, новостей столичных собиратель. А любимец цесаревны Алексей Разумовский пил да ел, в разговоры умные, как и цесаревна, не мешался.
Именно здесь-то, в свите Елизаветы Петровны, наслушался Еропкин речей об экономике государства – горьких, зловещих и тяжко ранящих. Александр Шувалов, не таясь, говорил зодчему:
– Ежели насилие духа народного и дале продлится так-то, России в первый ранг никогда не выбиться. Спасти отечество от разорения могут лишь силы новые. Надобность пристала в людях молодых, азартных, до наук охочих, коим честь русская всего дороже. А так… на карачках вслед за Европою ползти будем!
Еропкин, от двора милостями осыпанный, большой барин, весь в шелках и бархатах, был патриотом – он тоже страдал:
– Такова славная история от прадедов наших… О боже! Неужто все величье Руси падет от насилия этого? Вот и обер-егермейстер Волынский шибко печалится о том же…
– Его печаль ина будет, – смеялся Воронцов Мишка. – Мы вошки махоньки, а он теля широченная, в нашу щелку не пропихнется.
Изредка архитектор бывал наездами на Васильевском острове, где соседствовал домами с Соймоновым; адмирал ему говорил:
– А ты напрасно в дружбу мне Волынского вяжешь. Я этого сударика не люблю. Казнит мучительски, а ворует грабительски.
– Да не ворует он давно, весь в долгах!
– Долги еще не есть доказательство бедности. Мне с Волынским никак не по пути: я карьер ради нужд отечества свершаю, а он себе в удовольствие… Разве не так, Петра Михайлыч?
Архитектор убеждал адмирала:
– Поверь мне, что Волынский – гражданин небезучастный, душою скорбит за отечество не менее твоего, Федор Иваныч.
Соймонов только отмахивался:
– Знаю я скорби его… На хвосте у графа Бирена паук этот высоко взлетает. Ныне в кабинет-министры метит, и вот беда – пронырнет ведь! Таким супостатам, как он, всегда везет.
– Не беда, а счастье то будет, – возражал Еропкин. – Кто там, в Кабинете, разлегся? Черкасский-Черепаха спит день-деньской, а Остерман в одиночку Россией ворочает. Волынский-то Черепаху живо разбудит, а Остермана, будто клопа, придавит… Нам же, русским, от того лучше станется!
– Уж и не знаю, будет ли когда русским людям лучше? А пока что с каждым летом все хуже и хуже… Прощай, отъезжаю я.
– Далече ль?
– Да нет, до Кронштадта надобно съездить, а по весне снова тронусь в края дальние. Скреплять буду дружбу калмыцкую с народом российским. На старости лет меня дипломатом сделали, и сам не пойму, с чего мне честь такая?
Вечером на лошадях запаренных вернулся Еропкин в Смольную, навестил усадьбу цесаревны. В доме Елизаветы всегда под утро спать ложились, когда нашумятся с вечера, наедятся, нассорятся… Тихо на этот раз сидели за столом Шуваловы с Воронцовыми.
– Чего притихли-то? – спросил их архитектор.
– Кидай шубу на лавку, – привстал от стола Воронцов.
А вертлявый Лесток выпалил:
– Феофан Прокопович богу душу отдает…
– Не с того ль загрустили, други мои?
– С того… Вот сообща гадаем: коли умрет Феофан, будут из тюрем выпускать невинно мучимых или не станет послабления по делам синодским? Только, Петр Михайлович, ты уж за порог нашего мусора не вытаскивай. Что мы говорим тут – пусть в Смольной и останется.
– Я пытошным заведениям – не слуга… Не донесу!
Разумовский в одних подштанниках за столом сиживал.
– Беда с вами! – сказал. – Языки до полу отрастили, теперь их чешете. Давайте пить лучше. Случись что, с трезвого спросят. А пьяный всегда на безумие сослаться может… Ну, начнем?
* * *
Феофан умирал на речке Карповке, что течет среди дач и лесов, шум столицы не достигал ушей его. Умолкли за стеною палат владыки дудошники, гудошники, балалаечники. Девка белая, шлепая босыми пятками, уже не несла к изголовию его фужер стекла богемского с янтарным токаем…
Итак, смерть пришла! На подушки жаркие владыка откинулся, кадык дергался под бородой черной – в кольцах, как у цыгана. Феофан воззвал в пустоту:
– О глава, глава! Разума упившись, куда ся приклонишь?
Что ж, спасибо судьбе: он истинным был владыкой над людьми крещеными. Шесть лет подряд состязался Феофан с Ушаковым – кто больше народу истребит? Разница меж ними невелика: Феофан замучивал людей «во славу божию», а Ушаков старался «во славу государеву». Вся жизнь владыки Синода прошла между школой и застенком; он жил в страхе скотском и умирал в страхе, как умирают только палачи…
Феофан сам пытками руководил! Мозжились перед ним тела людские, шатались кости в суставах. И человека снимали с дыбы, как мешок, в котором кости уже свободно болтались. Поэт и философ, Феофан помнит, как у раскольника одного глаза в орбитах лопнули. С именем Христовым стопы выдергивали из голеней, а плечи выбивали из лопаток. Кололи иглами «овец заблудших», жгли их серой…
– Ой, страшно мне! Гриша, Гришенька… свет возжи!
Возле Феофана обретался юноша – Теплов Григорий, которого родила от владыки молодуха-монашенка. А чтобы грех покрыть, Теплова за сына истопника выдавал, отсюда и фамилия пошла такая – Теплов, мол, от печек теплых произошел этот юноша.
– Гриш, а Гриш… – позвал Феофан сына.
– Чего угодно, ваше преосвященство?
Феофан сыночка напутствовал в жизнь будущую:
– Ты зубы-то отточи… Грызи всех, кои встревать на пути станут. Волком будь, Гришенька! У меня смолоду врагов столько было, что не ведал – куда ступить. Я только при Анне Иоанновне, благослови ее бог, и вздохнул спокойно. А то ведь, бывало, не спал…
Умер он. Владыку уложили в гроб, облили его воском, чтобы не смердил по дороге, и повезли в Новгород, где и закопали. Вот и преклонилась его голова, разуму и страхов упившись. Поменьше бы на Руси таких «просветителей», [11]11
Феофан Прокопович вошел в историю русской литературы как заметное явление. Но литературоведы никогда не касаются (очевидно, умышленно) гнусной изнанки этого тирана. Но зато антирелигиозная литература, издаваемая в СССР, в полной мере раскрыла палаческий образ Феофана. Исторический же романист не вправе наводить на палачей «хрестоматийный глянец».
[Закрыть]у которых в одной руке вирши духовные о любви к ближнему, а в другой – плетка-семихвостка…
Как только Феофана не стало, по России легкий трепет прошел: это забились сердца замученных им и вздохнули колодники в «мешках» тюрем монастырских:
– Сдох зверь ненасытный! Теперь нам легше станется…
Горой лежали неповершенные дела по инквизиции духовной. Куда их деть? На больших телегах привезли их в Тайную канцелярию. Да, наворотил покойничек… Ушаков велел телеги на двор завезти.
– Сам-то крышкой накрылся, – сказал Ушаков, – а нам теперь не ешь, не пей, чужой навоз раскапывай… Ванюшка! – позвал он Топильского. – Ты все эти дела единым махом в ажур приведи…
Ванька Топильский был на расправу скорым:
– Андрей Иваныч, я все духовные дела разгреб. Утомился с ними. Иных людишек и на волю отпустил, сердце-то, чай, не каменное.
– Милосердие – это хорошо, – похвалил его Ушаков. – Ты у меня мастак, Ванька. Зри в оба! По слухам придворным, я так ведаю, что ныне государыня наша, голубка ясная, к Дмитрию Голицыну подбирается… Зажился старичок на этом свете. Пора уж ему… Ты зри!
Поздно вечером в кабинет начальника Тайной розыскных дел канцелярии втерся бочком славный юноша – собою приглядный, ухоженный.
– Теплов я, сын истопника владыки синодского… Не пригожусь ли по делам вашим тайным? Может, чей разговор подслушать надобно? Или к персоне подозрительной в дружбу войти? Я бы это смог… А сколь жалованье у вас? Много ль положите?
Выяснилось, что Гриша Теплов – художник. Но парсуны писать не брался! Виньеточки рисовал нарядные. Родословные древеса развешивал по стенам домов боярских. С того и жил. Понятно, нуждался. Деньги всегда нужны молодому человеку.
* * *
По льду на лошадках Соймонов в начале 1737 года отбыл в Кронштадтскую крепость жалованье флотскому офицерству произвесть. Опушенный красивым инеем, под берегом Котлина застыл корабль с несуразным именем «Петр I и II», а командовал кораблем этим Петр Дефремери… На казнь смертную осужден, он от смерти с помощью Соймонова был избавлен.
– Мне и теперь, – рассказывал он адмиралу, – ходу в карьер совсем нет. Политика наша Франции бережется, а посему меня, как француза, даже в море не отпускают.
Федор Иванович ему деньги отсчитал, поздравил – событие в жизни человека, когда один раз в году жалованье выдали. Дефремери по этому случаю графин с вином на столе водрузил.
– Мой тост двойной будет – за Францию, которая дала мне жизнь, и за Россию, которой я шестнадцатый год служу.
Выпили. Копчушки астраханские – на закуску.
– Оно и ладно, – сказал Соймонов, жуя. – Каждый раз, как в тарань зубами вцепишься, сразу Каспий поминается… Помнишь, Петрушка, как хорошо было нам на Дербент плавать? Молоды были…
Дефремери поник головой:
– Сломалась моя жизнь после сдачи корвета «Митау». Друзья все пропали… во льдах! Где Овцын Митька? Где Харитоша Лаптев?
– Не печалься, – утешал его адмирал. – Я тебе так посоветую: езжай-ка ты под Азов, в Донскую флотилию, которой Бредаль командует. Бредаль – вояка славный, сам из норвежцев, я ему напишу о тебе. Он примет. И будешь ты, воюя, при нужных делах состоять.
– А разве война походом на Бахчисарай не кончилась?
– Миних растревожил гнездо осиное, теперь татарва жалит нас. А на войне ты себя побереги. Не ядром пугаю. Заразы бойся – чумы…
В чине капитана III ранга Дефремери отъехал на Азовское море. В пути он не был одинок: часто встречались санки с офицерами армейскими и флотскими – все поспешали на юг, в разлив близкой весны, и было ясно: до победы еще далеко… Ехали! Ехали! Ехали!
Кто на войну едет? Конечно, больше молодежь.
Глава тринадцатая
Ну и вызвездило сегодня… Вот это ночь так ночь!
Струится мороз под копытами, режут снег полозья санные.
Приятный брег! Любезная страна!
Где свой Нева поток стремит к пучине.
О! прежде дебрь, се коль населена!
Мы град в тебе престольный видим ныне…
Ровно в полночь сменяются караулы империи Российской. Вершатся салюты у полковых знамен, возле судебных зерцал и казенных печатей, над ящиками с деньгами. Зорко берегутся от гнева простонародного дворцы царские, дома вельможные, здания посольские.
Всюду кордегардии. Гауптвахты. Мосты. Шлагбаумы…
В коридоре пред спальней царицы офицер выкрикнул:
– Стой! Замри!
А впереди еще целая ночь. До утра стоять здесь.
Мимо часовых, после проигрыша в карты счастливчику Рейнгольду Левенвольде, волоча на себе чудовищные пудовые робы, императрица протиснулась в двери опочивальни. Караулу пожелала басом:
– Спокойной вам ночи, охранители мои!
Быстрым шагом, ни на кого не глядя, в мысли тайные погружен, сиятельный граф Бирен пронырнул в спальню к царице. Дверь закрылась за ним, любимый арап Анны Иоанновны надел белую чалму с аграфом алмазным, встал у порога… Во дворце – тишина.
А утром Анна Иоанновна наказала:
– Людей из кавалергардии послать на дом князю Дмитрию Голицыну – станет ли князь волноваться? И что он, князь Голицын, сказывать при аресте станет, о том никому не объявлять, а мне дословно рапортовать… Ясно?
* * *
Старик был болен – его из постели вытащили. Допрос вели во дворце Зимнем, близ самой спальни императрицы, и она, пред судьями не показываясь, из-за ширм потаенно слушала, о чем говорят… Вышний суд все подряд в одну кучу свалил: кляузы Антиоха Кантемира, отлынивание Голицына от службы под видом болезни-хирагры, донос чиновника Перова и… гордыню!
– Не залепляйте глаза мне, – отвечал Дмитрий Михайлович. – Не проще ль будет прямо сказать: судим тебя, князь, за то, что в смутный год тридцатый желал ты республики аристократической!
В конце допроса ему подсунули листы для подписи, но хирагра старая мешала князю, он брата Мишу позвал, тот за него расписывался, а князь Дмитрий Михайлович при этом Ушакову сказал:
– Ежели б для пользы отечества Российска сам сатана из пекла ко мне явился, я б советы его мудрые тоже принял…
Ушаков сунул руку под парик, скреб себе лысину:
– А повторить, князь, слова сии смог бы?
– Отчего же и нет? – И князь повторил (а Ушаков записал).
Записав же, он сразу императрицу в спальне ее навестил:
– Ваше величество! Голицын уже сатану в помощь призывал!
– Это в дому-то моем? Видать, ему вышний суд империи не страшен. Тогда учнем судить его Генеральным собранием…
Генеральное собрание – из самых знатных вельмож. За председателя в нем князь Алексей Михайлович Черкасский. Приговор над стариком начинался восхвалением гениальной мудрости царицы Анны Иоанновны, причем все судьи вставали из кресел и, обратясь к иконам, благодарили царицу за «матерное» охранение законного правосудия в государстве… Сатану тоже не забыли – о нечистой силе в последнем § 13 было помянуто (в таких словах: «…еще и злее того яд тот изблевал»).
Суд творился с пяти часов утра, еще под покровом ночи, а в восемь утра уже все было оформлено указом.
«И хотя он, князь Дмитрий, – указывала Анна Иоанновна, – смертной казни достоин, однакож Мы, Наше Императорское Величество, по Высочайшему Нашему милосердию, казнить его, князь Дмитрия, не указали; а вместо смертной казни послать его в Шлютельбург…»
После чего осужденному сказали:
– Ступай домой и жди смиренно…
Дома у Голицына отобрали все кавалерии орденские и шпагу; бумаги опечатали, караул приставили при капрале и при сержанте; больной старец начал сборы недолгие в тюрьму Шлиссельбурга.
– Там как раз ныне фельдмаршал князь Василий Долгорукий сиживает, чаю, Емеля, с ним мне скушно не будет…
Емельян Семенов помогал ему вещи укладывать. Голицын брал в крепость кружку, ложку, солонку, «кастрюлик с крышечкой», сковородку, вертел, два костыля инвалидных, порты байковые, колпак на голову, рубаху из шерсти и куль муки ржаной… Говорил:
– Хорошо, что дети мои взрослы – не малыми покидаю их. А ты, Емеля, за книгами моими присматривай… не дай им пропасть!
Явился в дом Ушаков для конфирмации, увидел книги:
– Макиавеллия гнусного или Юстия Липсия нету ли?
– Многое ты понимаешь в них! Конечно, есть.
– Книги эти опасные, их велено по империи сыскивать.
Снял он с полки один из томов, листанул – стихи.
– Не вредно ли? – обратился к секретарю Семенову.
Это были сатиры Боккалини, и Емельян выкрутился:
– Да нет. Тут песенки разные… о любви галантной.
Из Тайной канцелярии снарядили целый обоз с командой воинской, чтобы забрать книги из подмосковного села Архангельское. Голицына стали увозить в Шлиссельбург; слезно простился старик с братцем Мишею, расцеловался с Емелею, дворня князя пришла в покои к нему, мужики и бабы кланялись в ноги «страдальцу».
– Лошади стынут, пошли, – тянули Голицына на улицу.
Дмитрий Михайлович стражей от себя отстранил:
– Я еще не прощался… с книгами!
И перед шкафами книжными опустился старый книгочей на колени, словно перед иконами святыми. Приник к полу и разрыдался:
– Друзья мои, прощайте. Вы мне счастье дали!
Его подхватили, рыдающего, и поволокли в сани. Императрице было доложено, что Голицын перед дорогою в Шлиссельбург не иконам, а книгам молился. Те книги надо проверить – не сатанинские ли?
* * *
Караул при доме Голицына снят не был. Сержант регимента Семеновкого, Алешка Дурново, пошел в место нужное. В дыру зловонную напоследки заглянул и увидел, что средь дерьма бумаги лежат.
Не погнушался гвардеец – достал!
Эти письма, невзирая на запах отчаянный, сама императрица читала. Писал их Сенька Нарышкин, который в эмиграции под именем Тенкин затаился от гнева божьего. Особых секретов Анна Иоанновна не выведала, но зато пронюхала, что цесаревна Елизавета была тайно обручена с этим самым Сенькой.
– Во блуд-то где… Ай-ай, ну и девка!
Звали Тредиаковского к царице, явился он – в робости.
– Ты почто якшался с Сенькой Нарышкиным?
– Ваше величество, беден я… на дому его жил, от стола его кормился. А за это обучал его на флейте танцы наигрывать.
– Пошел вон… лоботряс!
На пламени свечи Анна спалила письма парижские.
– Ищите далее, – повелела. – А сержанта Алешку Дурново за проворство похвальное трактую я десятью рублями…
Емельян Семенов (в камзоле голубом, в парике с короткими буклями, перо за ухом, а пальцы в чернилах) по дому хаживал. Губы кусал. Думал, как бы спасти что от сыщиков? Когда инквизиторы давали ему бумаги подписывать, Емеля подмахивал их не гражданской скорописью, а полууставом древним. Это – от ума! Пусть лучше сочтут его за человека, старины держащегося, нежели примут за гражданина времени нового… Когда караул устал, приобвыкся к дому, стал Емельян Семенов жечь письма из портфеля княжеского. Лучина уже разгорелась в печи, пламя охватывало пачки голицынских документов. Но тут вбежал сержант Алешка Дурново и заорал:
– Ага-а… попались!
Руки себе спалил, но письма из пламени выхватил. Семеновым сразу заинтересовался Андрей Иванович Ушаков:
– Человек приметный. Хитрый. А с лица благоприятен…
Библиотека князя Голицына задавала всем работы тогда. Ванька Топильский в книгах не разбирался. Сунулись за помощью в Иностранную коллегию, но Остерман ответ дал, что его чиновники «показанных языков не знают». Выручил всех академик Христиан Гросс:
– Дайте-ка сюда… О-о, да тут пометки на латыни!
Семеному пришлось сознаться: это мои пометки.
Ушаков бомбой, арапа отшвырнув, вломился в комнаты императрицы:
– Матушка, новое злоумышление открыл я.
– Не пугай ты меня, Андрей Иваныч, что там?
– Выяснил я ныне, что вся дворня князя Голицына грамотна, в чем злодейский умысел усмотреть мочно. Пишут же мужики не коряво, а даже лепо. Мало того, иные из крепостных галанский, шпанский, свейский и французский языки ведают. А один из дворни князя, некий Емелька, Семенов сын… ой, страшно сказать, матушка!
– Да не томи, Андрей Иваныч… говори.
– Латынь знает, – сообщил Ушаков, глаза округлив.
– Латынь? – Царицу даже пошатнуло. – Это на што же мужику по-латинянски знать? Добрые люди того сторонятся, а он…
Ушаков арестовал Емельяна, начал с ним по-хорошему:
– Ты вот что, парень, скажи мне по совести, зачем господин твой бывший, князь Дмитрий, дворню языкам обучал?
– Сам князь Голицын, – пояснил Семенов, – языков иноземных ни единого не ведал. Но книги зарубежные читать желал. И вот крепостных обучал чрез учителей, дабы они переводили ему с книг.
– А ты в каком ныне состоянии пребываешь?
– Был в крепостных. Сейчас вольноотпущенный. Сочтя меня за человека образованного, князь Голицын отпустил на волю меня, ибо стыдно стало ему грамотного в рабстве содержать.
– А зачем тебе, Емеля, грамотность понадобилась?
– Не хочу псом помереть, – дерзко отвечал Семенов. – А человеку, ежели он человек, а не скотина худая, многое знать свойственно.
– Подозрительно рассуждаешь, – прищурился Ушаков…
Анна Иоанновна так рассудила:
– Всех из дворни Голицына, которые грамоте обучены, бить кнутом нещадно. А того молодца, что латынь ведает, пытать!
Семенова ввели в камеру для пыток. Горел там огонь. Палач вращал на пламени щипцы с длинными ручками. Тень дыбы запечатлелась кривою тенью на кирпичной стене, заляпанной пятнами крови.
– Огнем тебя умучать велено, – сообщил Ушаков.
Палачи сорвали с Емели одежду, и он спросил:
– Хотел бы знать – в чем вина моя?
Великий инквизитор империи Российской хихикнул:
– К тому и приставлены мы здесь, чтобы вины сыскивать. – Он велел палачам выйти и сказал Семенову наедине: – Вот, Емеля, пропадешь ты здесь. А ведь я большой человек в государстве… могу своей волей тебя от пытки освободить. И даже… даже в люди тебя выведу! Ко мне, – сообщил доверительно, – в службу тайную всякая гнида лезет, принять просится. Ученые же люди не идут. А мне такие, как ты, разумные да язычные, тоже надобны. Хошь, приму?
Семенов молчал. Ушаков бросил ему одежду:
– Закинься! Не стой голым… Эх, Емеля, Емеля! Ты думаешь, зверь я? Да нет, милый. Это я сейчас Ушаков, которого все дрожат. А ране… как вспомню, плачу. В лаптях, голодный, всеми затертый. Ох, настрадался я. И каторги хлебнул. Да, Емеля, все было. Я ведь людей жалею, как не жалеть их, подлых? Ну? – спросил. – Идешь ко мне? И сразу кафтан получишь при шпаге. Соглашайся, сынок… Сам простой человек, до всего дошел, я простых людей-то люблю!
– Нет, – ответил ему Семенов.
– Не горячись. Раскинь умом. Я спасенье тебе предлагаю. За един годок службы у меня ты на всю жизнь сытым будешь.
– Не надо. Лучше пытайте.
– А ежели я тебя уничтожу? – спросил Ушаков вкрадчиво.
– Все смертны. Кто раньше. Кто позже.
Андрей Иванович указал секретарю на огонь:
– Да ведь смерть-то для тебя непроста будет… Не бахвалься! Сунь-ка для начала руку туда – жарко ли?
Семенов вдруг шагнул и руку на пламя горна водрузил.
– Да погоди, дурень… Я пошутил. Сядь! – Ушаков сказал потом, с укоризною головой покачивая: – Отчего ты мук не боишься?
– Оттого, что у всех людей тело душой управляет. А мой дух столь закален в упражнениях умственных, что он у меня в подчинении состоит. И с телом слабым, что хочет, то и творит!
– Ну, ладно, – призадумался инквизитор. – Посмотрим теперь, как ты сумеешь тело свое душе подчинить…
На пытках Семенов молчал. Ему подсовывали шифры тайные, в доме найденные, – он говорил, что «забыл за давностью». Нитки тянулись далеко – от Парижа до Березова, но секретарь ничего не выдал. Его оставили «для передыху», а затем приговорили ехать к армии, где и служить «до скончанию века».
– Вот и ладно, – ободрился он. – В армии сгожусь…
Его привели в канцелярию, а там Ванька Топильский как раз выпускал под расписку на волю доносчика – Перова:
– Напиши здесь так: мол, дерзать более я не стану.
– Да не дерзал я, – отвечал Перов. – Где уж нам!
– Дерзал или не дерзал – это дело десятое. Но существует у нас форма законная, чтобы человек, от нас уходя, поклялся, что он «дерзать более не станет»… Пиши!
С улыбкою наблюдал за ними измученный Семенов.
– Много ты, тля, получил с доноса своего? – шепнул он Перову. – Ты же не только людей погубил… ты библиотеку погубил!
А всю дворню князя Голицына избили кнутами: и велено было людям ученость свою «предать забвению». Что знал – забудь.
* * *
Не было тогда на Руси таких прекрасных жемчужин, как библиотека князя Дмитрия Михайловича Голицына. В громадных сундуках привезли ее под конвоем из села Архангельского, кучей свалили в сырых подвалах Канцелярии от конфискации. Напрасно Академия наук взывала к Ушакову и к самой царице – ученым ни единой книжечки так и не дали!
А в подвал тот проникли два могучих вора…
Первым залез туда охотник до чтения Артемий Волынский, таскал он из подвала к себе на Мойку книги связками. Жадно хватал редчайшие уникумы (иногда рукописные). Политика и ситуации ее, схожие с нынешними на Руси, – вот что занимало его. Волынский жаждал из книг открыть тайну непостижимую – что будет дальше?
С факелом в руке в подвале появился и Бирен:
– А-а, друг Волынский, ты, кажется, меня опередил…
Разграбили они книгохранилище Голицына, изъяв из него все самое ценное. [12]12
После московского пожара 1812 г. около 200 книг из библиотеки Д. М. Голицына вдруг всплыли в Москве на толкучке; их оптом скупил известный библиофил граф Ф. А. Толстой, от него они перешли к историку М. П. Погодину и переданы были ученым в Публичную библиотеку. За последние годы советскими историками была проведена большая работа по изучению подбора голицынской библиотеки.
[Закрыть]Остальное же растащили по своим закутам сошки помельче их, побоязливей. Анна Иоанновна не была умна. Но даже ее скудного ума хватило, чтобы понять одну истину:
– Иногда книгу важней уничтожить, нежели человека…








