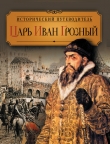Текст книги "Иван Грозный. Исторический роман в трех книгах. Полное издание в одном томе"
Автор книги: Валентин Костылев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 80 страниц)
Даже ребятишки, и те гурьбою облепили заставу.
Курбский ехал, опустив голову, не глядя ни на кого. Колыметы и прочие его спутники улыбались жалко, заискивающе поглядывая на литовских людей. Своим взглядом они явно говорили: «Не глазейте на нас, мы такие же, как и все... Мы ваши друзья. Вскоре мы постараемся доказать это».
Король принял беглецов в своем походном шатре.
Он сидел под широким, пышным балдахином, обитым горностаем. У его трона стояли ксендзы, маршалы, секретари. Красивые мальчики-пажи вытянулись по обеим сторонам лестницы к трону. Закованные в медные кирасы, немецкие кирасиры и драбанты, с алебардами, окружали королевский трон и свиту.
Курбский опустился на одно колено, держа шлем в правой руке. Примеру князя последовали и его спутники.
– Бьем челом, ваше королевское величество! Примите нас, изгнанников из своей родной земли, как верноподданных, как слуг ближних, готовых сложить за вас голову на ратном поле и послужить честию в королевских замках и крепостях.
Слова эти были произнесены Курбским хриплым, дрожащим голосом, будто каждое слово у него вытягивали из горла насильно, против его желания. Его бросало то в холод, то в жар. Он казался сам себе безмерно жалким, приниженным, он испытывал то, что всегда ему было чуждо, чего он никогда не испытывал ранее, за что он, гордый князь, презирал других людей.
Король поднялся с кресла и, глядя куда-то в пространство, как будто стараясь умышленно не глядеть на изменников, невнятно, томным, небрежным голосом произнес:
– Господь поможет вам стать моими верными слугами.
И сел снова в кресло, пухлый, выхоленный.
К Курбскому подошел длинный рыжеусый королевский секретарь, громко прокричал королевскую грамоту, по которой князю Андрею Михайловичу Курбскому король в награду за переход на его, литовскую, службу жаловал во владение на вечные времена ковельское имение.
Стоявшие около короля вельможи хмуро, презрительно, исподлобья смотрели на толпу изменников-московитян.
Они думали о том, что для «вечного владения» ковельским замком и землями мало королевской грамоты. А что скажет генеральный сейм? Не волен король выдавать без согласия сейма такие грамоты. Что же? Значит, король так обрадовался московским проходимцам, что и с конституцией считаться не желает. «Ну, еще об этом мы поговорим после! Чужеземцам дарить в собственность поместья король может только с согласия панов-сенаторов, всех сословий и земских послов».
Секретарь провозгласил еще одно пожалование князю Курбскому. Король отдавал ему в управление земли староства Кревского в Виленском воеводстве.
«И это пожалование противозаконно», – думали паны.
Вельможи краснели от обиды, с трудом сдерживая свой гнев. «Не имеет права король раздавать иностранцам никаких должностей в великом княжестве Литовском. Чего уж он так обрадовался?! Заковал бы их всех в кандалы. Иуды! Они так же предадут и польско-литовскую корону, как предали Москву».
Курбский на коленях униженно благодарил короля.
От него не скрылись злые усмешки и перешептывания королевских вельмож. Сердце похолодело от обиды. Курбский хорошо знал нравы шляхты, знал и то, что королевская воля – это не все. На одну доброту короля положиться нельзя. Его власть ограниченна. Необходимо угодить и шляхте, оказать услуги к явной пользе нового отечества и нового государя. Надо доказать верность Польше. Надо... надо... Не только изменить, но и нанести ущерб царю Ивану... Заслужить доверие панов. А может быть, и этого им будет мало?
Когда кончился королевский прием, Курбского с его друзьями повели в особый дом, окруженный высокою оградою, прикрытый кущей листвы столетних лип. Словно его нарочно скрывают от сторонних глаз. Около ворот расставили караул пегих венгров якобы для «бережения новых королевских слуг».
Несмотря на милостивую встречу короля, Курбский и его друзья, очутившись в мрачных, пустых комнатах этого дома, почувствовали себя как бы королевскими пленниками. «Зачем стража у ворот?» – спрашивали они друг у друга. Воздух, пропитанный гнилью и сыростью, застревал в горле, вызывая неприятную дрожь. Видимо, в этом доме никто не жил – чей-то брошенный дом.
Колыметы, а с ними и другие беглецы поздравили Курбского с королевскими милостями. А один из них – Кирилл Иванович Зубцовский – даже облобызал князя и, вытирая слезы, сказал:
– Господь Бог милостив! Наш единокровный ты князь, не забудешь нас...
Курбскому было больно слушать поздравления; охватывал мучительный стыд при каждом слове его товарищей.
«Товарищей!»
Давно ли этот приказный сброд стал его «товарищами?» Они чему-то радуются. Глупцы. «Единокровный князь». Сам сатана не подобрал бы более ядовитых слов.
Немного времени спустя в дом пришел посланный короля с описью, в которой сказано было, какие владения входят в состав ковельского поместья. Он расхваливал замок, будущее жилище Курбского. Говорил о плодородности ковельских земель.
Королевский слуга имел тоненький, женский голос, был мал ростом, безволосый и вместе с тем юркий, болтливый.
– Тебе, князь, выпало большое счастье! – воскликнул он по-русски. – Ты будешь обладать и замком в местечке Вижву, а в местечке Миляновичи ты найдешь подобный сказке дворец... Ты отныне хозяин двадцати восьми сел. Ты – большой вельможа!
Спутники Курбского, тесно обступив королевского посланника, с жадностью слушали его. Их глаза разгорелись, лица разрумянились.
– Сколько же будет на той земле христианских душ? – хмуро спросил Курбский.
– Три тысячи душ...
– Когда же король дозволит мне войти во владение той землей?
– Скоро. Немножко терпения, князь.
Утомленные долгим путешествием по лесам и долинам, да еще в жаркую пору, московские беглецы рано улеглись спать.
Курбский вышел в сад и сел в одиночестве на скамью около пруда, от которого пахло гнилой водой, прелыми травами.
Ночью было не так душно.
Курбский долго смотрел на небо. Звезды напоминали о родине, о матери, о жене и сыне.
«Родина! Нет уж теперь ее у тебя, у Курбского! Ты человек без родины. Ты муж и отец без жены и сына. Ты – наследник великих князей ярославских – навсегда лишен возможности помолиться в усыпальнице своих прародителей. Все пропало теперь для тебя. Все!»
Курбский встал со скамьи и обошел кругом пруда; поднял камень, с силой бросил его. Булькнуло. Долго бессмысленно смотрел на темную поверхность воды, где скрылся камень.
«Ну, что же. Прощай, Русь! Не проклинай своего неверного сына!»
«Все ли кончено? – задал себе вопрос Курбский и ответил сам себе: – Нет. Осталось... Что осталось?»
Осталось мщение. Кто скажет, что Курбский слаб, что он сложил оружие, отказался от борьбы? Глупец тот, ребенок! Курбский – князь и воин. Запомните это!
Если Сигизмунд не пожалеет золота, он заключит выгодный союз с крымским ханом. Горе московскому деспоту! На взятые из казны деньги он, князь Курбский, за свой счет... нет, за счет Москвы... посадит на коня две сотни наемных воинов, да и сам, со своими друзьями, пойдет громить московскую землю. Враг?! Да. Курбский – лютый враг великого князя.
«Теперь я свободен. Никакая сила не может помешать мне мстить царю Ивану. И как бы грозен ты ни был, Иван Васильевич, все равно тебе ничего не сделать с отъехавшими в Литву русскими людьми – руки коротки. Кончилась твоя власть, деспот!»
Начинается новая служба новому государю.
Курбский снял шапку и помолился, окинув небо растерянным, невидящим взглядом...
XII
Посреди Кремля стояла круглая, сложенная из красного кирпича высоченная башня. У ее основания ютилась церковь Петрока Малого. На башне висели большие колокола, вывезенные из Лифляндии. Между башнею и церковью к особой установке был привешен тысячепудовый колокол, в который звонили только по большим праздникам.
Около этой громадины жизнь била ключом. Подъячие писали челобитные, кабалы и росписи. На столах красовались расставленные около подьячих глиняные горшки, куда челобитчики бросали деньги.
Перед Съезжей избой таскали на правеж должников из простонародья. Выколачивали из них долги. Толпы любопытных густо окружали это место. Родственники страдальцев, попавших на правеж, проливали слезы, глядя на то, как стегают батожьем близких им людей. Бабы выли в голос. Любопытные толпились просто так, для времяпрепровождения.
Стрельцы, монахи, служилый люд смешивались в толпе зевак с кремлевскими обывателями, торговцами, нищими и кликушами.
Здесь-то один нищий и остановил объезжавшего площадь Василия Грязного. Назвал по имени, прижался щекой к стремени. Глаза слезливые, лицо в синяках.
– Чего те? – недовольно спросил Грязной. Хлестнул кнутом по спине.
– Дай кусочек хлеба либо грошик, я тебе што поведаю.
Василий Грязной бросил монету. Бродяги временами полезное болтают, не лишне послушать.
– Говори, пес!
– Ваську Кречета пристукнули... Го-го-го! Спокинул нас, сердешный.
Бродяга дико загоготал, оскалив зубы.
Грязной соскочил с коня.
– Повторь! Чего ты?
– Наша доля такая: живи, да не заживайся! Убили Ваську.
– Кто убил? Бродяги, воры?
– Сотник ваш государский... стрелец Истома Крупнин!
– Идем со мной! – в страшном гневе, покраснев до ушей, сказал Василий Грязной.
Он повел лошадь под уздцы, в раздумье поникнув головой. Сколько было надежд на то, чтобы снова увидеть Агриппину! Как бы хорошо было хотя тайно, хотя немного пожить с ней. Но... видно, не судьба. Как же смел этот пес, Истома, казнить человека через опасную грамоту? Государева грамота, што ли, ему не указ? И Феоктисту он увел к себе. Теперь это всем известно. Гордец, самоволец, хам! Надобно за него взяться! Посмотрим, что тогда скажет Феоктиста, куда она в те поры денется?
В Сторожевой избе Грязной допросил бродягу, дал ему еще деньгу. Узнал он теперь всю правду о смерти Василия Кречета.
– Счастья ищи, а в могилу ложись. Добивался Васька подарков от тебя, да вот Бог не привел, – закончил свой рассказ бродяга, слюняво хихикая.
Василий Грязной послал стрельца за братом Григорием, который сидел в Судной избе и считал на вишневых косточках собранную с торговых мужиков на Пожаре [103]103
Красная площадь.
[Закрыть]мзду. Глаза его горели, щеки разрумянились. Сидел он один, в отдалении от дьяков, и все время подозрительно оглядывался кругом.
Не любил Григорий ни с кем делиться поживой, даже с братом. И жена его была такая же. И скупостью своею он прославился на всю Москву.
В это время подошел к нему посланный братом Василием стрелец.
Григорий вздрогнул, смешал кости, сунул за пазуху деньги, лежавшие у него на коленях в мешочке.
– Эк тебя принесло! – недовольно сказал он, лениво повернув голову. – Ну, чего те надобно? Шляетесь тут...
– Братец послал... Василь Григорьич... Зовет, штоб не мешкал-де, скорее шел в сторожку.
Нехотя поднялся Григорий, хмурый, раздосадованный.
Василий встретил брата восклицанием:
– Дожили мы с тобою, Гришка. Срамота!
Бродяга хотел скрыться вслед за стрельцом, но Василий схватил его за ворот: «Стой, лесная тварь, разбойничья харя! Стой!»
Грязной заставил бродягу все снова рассказать по порядку: как Василий Кречет ехал в монастырь, как инокиню повез он и с Ермаком встретились, как бежали от него по дороге. О смерти Василия Кречета Грязной велел рассказать подробно, ничего не утаивая.
– Чего мне утаивать? Вывели Ваську на полянку. Сам сотник Истома и бахнул в него из пищали. Был Васька, и не стало Васьки. А нас всех батожьем исполосовали, у меня и до сей поры спина горит, будто в огне... Подайте грошик!..
– Пошел прочь, свиная ноздря!
После того как бродяга в страхе выскочил из сторожки, Василий стал жаловаться Григорию на самовольство своей жены, дерзостно убежавшей из-под крова семейного очага, нарушившей Божию заповедь и уставы церковные, покрывшей вечным позором его доброе имя царского слуги. Отец ей помог в том беззаконии и спрятал ее в своем доме, как будто она и не венчанная жена, а простая гнусная женка, что на площади продает себя...
– Но и того мало! – гневно ударив кулаком по столу и напряженно вытянув шею, закричал он. – Мало! Этот своевольник Истома убил нашего слугу, нашего верного раба, сотворил убийство через царскую опасную грамоту.
Григорий сидел в раздумье, спокойно выслушав Василия, а потом с усмешкой сказал:
– Царем надобно теперь его постращать. И ежели он не хочет сложить свою седую голову на плахе, пущай жену тебе вернет и откупится щедрою деньгою, сколь мы с него спросим... Прибыли мало нам в его голове, а деньга во вся дни пригожа. Бога боюсь я, и сердце мое слабое, не люблю я кровопролития. И без нас с тобой люди крови добудут, а мы, ну-ка, подале от греха. Денежки. Денежки нам подай!
Василий с негодованием покачал головою:
– Нет, брат! Бескровная корысть – не по мне. Утихла бы моя тоска, коли я заколол бы своею рукою старого барсука. Да и на плахе бы на голову его посмотрел я с душевным веселием... Деньги можно и у других взять. Честь дорога!
– Э-э, брат! Тут чую большую деньгу. Он порядливый хозяин, домосед, служит с давних пор, из древности... Жалован был великими князьями не однажды. Да и в походах поднажился... Нет, нет, Василий, не упрямься... Не упускай такого случая.
– Норов, братец, не клетка, не переставишь; уж такой я зародился. Правды ищу без корысти, но с честью. Денег всех не заберешь и сердце ими не успокоишь. Кабы батюшка государь откупы брал да не казнил, пропали бы все мы в те поры. Кровь недруга что родниковая вода... Жажду утоляет.
Григорий настаивал на своем.
Василий не уступал ему.
– Стало быть, и не зови меня никогда на совет свой, коли так! – с сердцем хлопнув дверью, удалился из сторожки Григорий Грязной.
Иван Васильевич был смущен и озадачен необычайным подарком, привезенным ему в Москву через нарвскую гавань из-за моря английскими купцами.
Много хлопот доставил этот груз и англичанам и русским, пока его удалось привезти в Кремль, на царев двор.
Подарок этот – громадная железная клетка со львами.
Перед тем как пойти взглянуть на невиданных зверей, Иван Васильевич много думал о том, хорошо ли, что он согласился принять этот дар от заморских людей, к добру ли это? Не грешно ли? Советовался он и с духовником своим, и с царицей, и с Малютой...
Толмач Алехин передал Ивану Васильевичу, что англичане зовут льва «царем зверей», потому что он самый сильный из всех зверей.
Иван Васильевич не раз читал в Библии и греческих книгах о «владыке пустынь, льве рыкающем».
Любопытство взяло верх.
Однажды поздно вечером царь, в сопровождении Малюты, отправился в большой темный сарай, куда временно была поставлена клетка со львами. Четыре рослых факельщика и несколько стрельцов шествовали впереди царя.
Сарай был заперт и находился под охраной вооруженной татарской стражи.
По приказу царя татары открыли двери.
Сыростью и острым, едким, тяжелым духом повеяло на царя и его спутников.
Факельщики быстро приблизились к клетке.
Нерешительными шагами робко последовал царь за ними. Малюта расставил стрельцов кругом клетки.
Вот они!
Царь Иван, не подходя близко, стал рассматривать сквозь решетку освещаемых колеблющимся пламенем, невиданных доселе страшных заморских зверей.
Увидав людей и щурясь от яркого пламени факелов, львы поднялись с земли. Один из них, самый большой, с пышной седеющей гривой, мирно зевнул – открылась громадная клыкастая огненно-красная пасть.
Царь в страхе перекрестился.
Малюта тоже.
Другой лев, поменьше, подошел вплотную к решетке и замер, остановив неподвижные, чересчур спокойные, слегка презрительные глаза на Иване Васильевиче.
Царь, смущенно улыбнувшись, покосился на Малюту.
– Этак на меня еще никто не смотрел... – проговорил он едва слышно.
К решетке, мягко ступая, высоко подняв громадную голову, подошел вплотную же и другой зверь. Облизываясь, равнодушно оглядел он царя, срыгнул, покачал головою, обмахнулся хвостом. Львы поразили царя Ивана Васильевича своим гордым, величественным видом.
Стрельцы увидели, как государь подошел ближе к клетке. Лицо его вытянулось, глаза сверкнули каким-то странным торжеством, губы его что-то шепчут. В отсветах факельных огней блеснули большие, сильные зубы Ивана Васильевича... Он смеется... он сделал еще шаг, подошел совсем близко...
– Твой царский род самый древний, – тихо, как бы в бреду, говорил Иван Васильевич. – Твой львиный род пережил Иудейское, Израильское, Вавилонское, Ассирийское, Египетское царства и всякое разрушение и падение в горячих пустынях эфиопской земли... за это ты – царь – достоин уважения.
Лев стоял неподвижно с полуоткрытой пастью. Казалось, он действительно внимает словам царя. Слышно было его медленное, тяжелое дыхание. Темно-бурая грива на груди и брюхе зверя то и дело подергивалась.
– Малюта, подай мясо...
Иван Васильевич выхватил у близстоящего стрельца копье, ткнул наконечником в кусок поданного мяса и просунул его за решетку.
– На, царь! Прими угощение из рук московского государя.
Оба льва, пискнув тоненьким голоском, вцепились в мясо, затем сарай потрясся от страшного рыка громадного льва, оскалившего зубы на своего соперника.
Стрельцы видели, как весело расхохотался Иван Васильевич, обернувшись лицом к Малюте, тоже рассмеявшемуся.
– Малюта! И эти цари готовы сожрать друг друга, – сказал Иван Васильевич громко. – Ты, царь? Слышишь? Зверь и царь! – воскликнул Иван Васильевич, подойдя еще ближе к клетке. – Не уступай. Ты владыка. Тобою хвалятся пророки, поминая твое имя в своих посланиях.
Лев, как бы прислушиваясь к беспокойному, прерывистому голосу царя, напряженно вытянулся на своих передних лапах. Будто неживой... не спускает глаз с царя...
Вдруг царь обернулся к Малюте и грозно сказал, указав на стрельцов:
– Чего они на меня смотрят? Гони их отсюда прочь!.. Свети сам.
Малюта выхватил у одного из факельщиков факел и крикнул стрельцам, чтобы удалились.
Сразу стало темнее.
В сарае только царь и Малюта, освещающий факелом морду льва за решеткой. Зверь перестал терзать кусок мяса, жмурится, обнюхивает воздух.
– Малюта... – тихо сказал Иван Васильевич. – Кабы мы бросили ему Курбского, вот была бы потеха! – И тихо, как бы про себя, произнес: – А надо бы, иуду.
Малюта пошевелил бровями, подумал и глухим, мрачным голосом сказал:
– Оную погань не станет и зверь жрать... В ядовитой змее больше яду и всякой нечисти, нежели едомого.
Царь внимательно посмотрел на Малюту.
– Да и не заманишь теперь его, государь... Писали уже ему друзья, што и жену-то его с сыном в темницу бросили и што, коли покается, выпустят их, и прочее писали по моему совету, штобы с миром приезжал... Ничего не помогло... Молчит. Не верит нам.
Царь снова обернулся к клетке.
– Дивуйтесь! Вас силою отторгнули от родины, а русские князья доброю волею изменяют родной земле... Прав ты, Малюта, негоже поганить пасть льва оною падалью.
И снова Иван Васильевич вонзил копье в кусок мяса и просунул его в клетку... И снова львы огласили тишину визгом и рыком, вызвав мрачную улыбку на лице Ивана Васильевича.
– Спасибо аглицким гостям! Знатную мне забаву пригнали из-за моря...
Море!
Чего ни коснись – невольно вспоминаешь его.
Иван Васильевич опять заговорил о своих кораблях, что посланы им из Нарвы с атаманом Керстеном Роде.
– Что-то привезут они нам с тобой, Малюта... какие чудеса? Какие вести? Хорошо ли их приняли там? Не уронят ли они честь нашего царства? Справился ли разбойник с разбойниками?
– Бог милостив, государь. Народ мы с Басмановым отобрали надежный. Да и Совин – парень не дурак, ловкий, бывалый...
Царь задумался. С опаскою оглянулся по сторонам:
– Никого нет? Не подслушают?
– Мы одни, государь...
– Подойди ближе...
Малюта приблизился к царю.
– Слушаю, государь.
Иван Васильевич тихо сказал:
– Уеду я из Москвы... Посмотрим... Не образумятся ли?
– Воля твоя, государь...
– Пускай отрекутся от самовольства и крамолы. А не отрекутся, будут стоять на своем – зверями затравим, палачами изведем, но не быть по-ихнему... Гляди, как на нас смотрит «царь». Львиный род много видел, как читали мы в Библии, смен царств и царей, много побед и поражений... Их мне не удивить своим величием... Они видели владык сильнее меня. Но где же владыки?! Нет уже их! Что же мне величаться?!
Малюта, опустив голову, молча выслушал это страстное, похожее на исповедь, излияние царя.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
В быстротекущей веренице белоснежных облаков, казалось, плывет и самый шатер Фроловской башни. Ноябрь. Студено. Выпал снег, и, хотя солнце поминутно проглядывает, снег прочно держится на кремлевской стене между зубцов, в уютных, тенистых прогалинах между главами красавца храма Покрова Богородицы, на тесовых кровлях обывательских домов и в тени высоких кремлевских стен.
На Красной площади пустынно. По ее обочинам, словно окаменелые, – конные стрельцы. Они со всех сторон закрыли путь на площадь московским обывателям, торговцам, обозам приезжих сельских жителей и нищим.
Сегодня пушечный двор вывез на Красную площадь еще две сотни заново выкованных и отлитых пушек, отправляемых по приказу царя на бранные поля Ливонии, куда Иван Васильевич думал и сам вскоре отправиться во главе большого войска.
Соскочив с коня и бросив поводья конюху, царь стал осматривать в сопровождении воевод долгожданный наряд. Он горд тем, что новые, небывалые ранее в Москве пушки – плод самостоятельного труда московских пушкарей. Он горит желанием лично видеть действие их в бою. Он внимательно следит за тем, как заряжается орудие. Из его уст пушкари слышат похвалу новшеству – заряжению орудия не с дула, а с казенной, затылочной, части. Не спят московские литцы, не стоят на одном месте – шагают дальше.
Царь ласково гладит плоскости железного четырехгранника, обковывающего казенную часть, вынимает клин, заглядывает в клиновое отверстие: канал сквозной, сверкающий металлом, длиною около двух саженей.
Царь полюбопытствовал, прочно ли сидит пушка в своем станке, одобрил приваренные к нижней части орудия стержневые подпорки для утверждения орудия в станке, но приказал оковать деревянные станки для прочности железом.
Горделивым взглядом окинул он громадную площадь, на которой в одинаковом расстоянии одна от другой ровнехонькими рядами стояли пушки. Словно живые, присев к влажной, оттаявшей под утро земле, они грозно вытянули свои длинные стволы в пространство. Да, да, он должен сам повести свое войско для конечного разгрома врагов.
Но вот лицо его омрачилось.
Он подозвал Малюту:
– Поди сюда.
Когда Малюта приблизился, указал рукою на орудия:
– С иноземными ворогами нам легче бороться... Гляди. То наши верные мстители... Они будут истреблять врагов без обмана. А как мы сможем с тобой праведно положить священную кару на изменников, чтоб нам бить точно по врагу... без промаха и порухи?
– Господь Бог поможет нам...
– Все ли из этих пушек будут честною рукою направлены по ворогам? Сомненья грызут мою душу... Свой глаз понадобится на поле брани. Курбский под Невелем с великою силою не мог одолеть малую часть врага и побросал наш наряд... думал я, будто он невиновен в том, будто заведомо он не предавал нас, а вышло, что... День со днем чернее и чернее становятся мои мысли... Взгляни на площадь. Что труда здесь, что слез и казны, и вот одна из собак, со злобы и ненависти к царю, вдруг опоганит московские стяги, побросает пушки и побежит, жалко поджав хвост... И после того: «Прости, Государь, не моя вина!»
Голос Ивана Васильевича дрогнул. Малюта взглянул на его лицо и с испугом отшатнулся. Оно побледнело, покрылось глубокими морщинами, глаза сверкнули страшным гневом.
– Подай коня, – прошептал царь.
Малюта поманил стремянного, державшего под уздцы царского аргамака.
Иван Васильевич ловко вскочил на лошадь и, не ответив на поклоны бояр и воевод, быстро поскакал в Кремль, сопровождаемый братьями царицы, Темрюками, князем Вяземским и Алексеем Басмановым.
Ветер усиливался – холодный, предзимний, гоня облака, поднимая пыль на площади, леденя душу бояр, напуганных внезапной переменой в настроении царя.
Малюта помолился на храм Покрова, почтительно поклонился боярам и воеводам и неторопливой походкой направился в Кремль.
Во дворце Ивана Васильевича ожидали московские оружейники. Они принесли в дар государю новую легкую пищаль, стрелявшую уже не при помощи фитиля, а посредством особого замка, воспламенявшего заряд трением стали о кремень. Брызги искр зажигали порох. Царь был сильно обрадован. Выйдя на дворцовый дворик, выстрелил в сарай из новой пищали.
– Слава Всевышнему! – перекрестился он, разглядывая ружье. На лице его снова появилось выражение спокойствия и удовлетворенности. – Давно бы так.
Оружейники, которых ввел во дворец дворянин Кусков, расхваливая особенности устройства новой пищали, доказывали, что все прежние фитильные ружья надо упразднить. В них-де много неудобств: фитили во время боя от сырости часто гаснут, получаются осечки. Загораясь, они выдают неприятелю местонахождение стрелков, и очень опасны те ружья для воина. Случаются разрывы дула.
Царь внимательно выслушал оружейников, приказав Кускову передать свое царское повеление боярину Челяднину, чтоб он одарил оружейников да поднес им по чарке водки.
Малюта, появившийся в палате государя, был обрадован его веселым видом. Он опасался нового припадка гнева, которые в последнее время часто посещали Ивана Васильевича. Лекарь Бомелий просил Малюту всячески оберегать царя от неприятностей. Сама царица каждый день умоляла Малюту помалкивать о раскрытии крамольных дел.
Иван Васильевич, увидев Малюту, пошел ему навстречу с пищалью в руках. Он радостно воскликнул:
– Гляди, Лукьяныч. Приношение моих оружейников.
И он стал пояснять, в чем кроются достоинства новой пищали.
Царь неодобрительно отозвался только о том, что крышку на полке с огнивом приходилось перед выстрелом отодвигать рукой, а это замедляло стрельбу. Оружейники обещали придумать другое.
– Не ерманские, не дацкие, не свейские... не Курбские... не Тетерины... Это сделали мои люди... мои, – сказал с самодовольной улыбкой царь.
– Их много, государь...
– Так ли?
– Дерзаю думать, что так, – поклонился царю Малюта.
По лесным глухим дорогам скакал к Москве с литовского рубежа всадник. Молод, строен и хорошо вооружен. Чтобы ни с кем не встретиться, он умышленно объезжал города и села, делая большие крюки, с трудом преодолевая болота и овраги, лежавшие на его пути.
Всадник этот – слуга князя Курбского Василий Шибанов. Никто не решился отвезти московскому царю послание князя. Как особенную драгоценность Василий зашил его в свой зипун у самого сердца.
Нередко молодой гонец останавливал коня и, вдыхая в себя запах родного русского соснового бора, крестился с чувством, с благоговейным торжеством и юношески-беспечно улыбался, оглядываясь по сторонам.
Родина! О, как истосковался он по родной земле! Хоть перед смертью, хоть ненадолго Господь Бог привел-таки посмотреть на дорогие сердцу, заброшенные среди полей и лесов русские села и деревушки, на милые, такие простые, бедненькие бревенчатые церквушки, на затянутые голубым октябрьским ледком озера и речки... В них отражается благословенное небо отчизны, погруженной в глубокое размышление. Она – как мать, задумавшаяся о судьбе своих детей. Нет, нет. Он, Василий Шибанов, не изменник, он только слуга Курбского... Будь милостивой, родная Русь! Он знает – в Москве его ждет страшная смерть, но он – не изменник... Князь Курбский в его лице имеет раба, а родина – преданного сына. Курбский посылает его на верную смерть. Курбскому нужен он, Шибанов, пока жив. Князь смотрит на него как на своего раба. Никто не поехал бы в Москву из его приверженцев, да не мог бы он никого из них и послать; их не тянет на родину, а его, Шибанова, она постоянно зовет к себе и во сне и наяву. Гнев родины священен, и, что бы ни случилось, Василий Шибанов был, есть и умрет покорным, любящим свою землю россиянином. И над его могилой, в его стране, будут расти серебристые березки, и вольные пичужки будут встречать весну и воспевать солнце так же, как и над могилами героев-предков, как над могилами честных его земляков-сородичей...
У князя свои счеты с царем Иваном Васильевичем.
Он, Шибанов, никогда не был врагом царю и может смело предстать перед его грозными очами и с честью, мужественно, как надлежит правдивому сыну своей родины, встретить царскую немилость, ибо – да! – он, Василий Шибанов, провинился...
«Родина! Ты одна поймешь и простишь меня, злосчастного странника, малоумного Василия Шибанова».
У заставы, в Дорогомилове, не удалось проскочить через рогатку в город незамеченным. Василия Шибанова остановили. Стали расспрашивать: чей, откуда? Шибанов сказал, что одному царю ответит – кто, чей и откуда он.
Окружили его всполошившиеся стремянные стрельцы и по приказу Григория Грязного проводили к Малюте Скуратову для допроса.
Спускались сумерки.
Малюта встретил при входе в каземат неизвестного ему всадника со свечою в руке. Пристально из-под густых бровей оглядел его с ног до головы, вздохнул.
– Ладно, пойдем... Эй, молодцы! Возьмите у него коня.
Василий Шибанов отдал поводья стрельцу и смело пошел следом за Малютою.
Оставшись наедине с Шибановым, Малюта сел на скамью и тихо, ласково спросил:
– Откуда ты, добрый молодец? Чей?
– Одному царю мочен я то сказать...
– Ничего. Говори мне. Государь без моего опроса не допустит лицезреть его царскую милость.
– Из Литвы я, когда так, а сам роду московского, веры христианской, православной.. Гонец я князя Курбского.
Малюта вскочил со скамьи, крепко вцепился в плечи Шибанову, несколько минут молча смотрел выпученными глазами на парня.
– Курбского? – спросил он сдавленным, едва слышным голосом. – Ты ума лишился... рехнулся?
– Нет. В доброй памяти. Повторяю: я посол князя Андрея Михайловича Курбского к моему государю.
Смелый вид и сухой деловитый голос парня совсем озадачили Малюту.
– Повторяешь?! – вскинув брови, воскликнул Малюта.
– Клянусь, што никогда не кривил душою перед государем и до смерти не отрекусь от него. Я лишь исполняю волю князя. А прискакал к царю с посланием от него. Оно зашито у меня вот тут, в зипуне.
Малюта выхватил из-за голенища длинный нож, разрезал полу зипуна у смирнехонько стоявшего Василия Шибанова и стал с любопытством рассматривать письмо Курбского. Затем хлопнул в ладоши. Появились стрельцы.
– Возьмите его, накормите посытнее и посадите в подклеть, заковать в железа его. Да строго-настрого сторожите. Отвечаете головою.
Малюта отправился к царю. Дорогою, перед царевой моленной, остановился; на коленях попросил у Бога прощенья, что опоганил себя, взяв в руки письмо крамольника. А затем помолился о том, чтобы царь спокойно принял послание изменника Курбского.
Иван Васильевич только что вышел из покоев царицы задумчивый, взволнованный: опять царевич Иван поссорился с царицей Марией. Царь хотел его наказать, а он спрятался где-то во дворце. Царевич Иван становится дерзким, непослушным, упрямым... Даже отца перестал бояться. Федор совсем другой мальчик. Тихий, богомольный, смиренный...