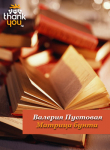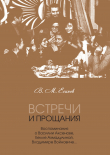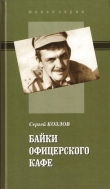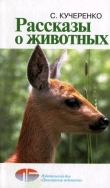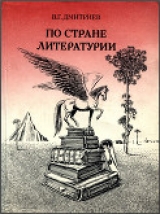
Текст книги "По стране литературии"
Автор книги: Валентин Дмитриев
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Все началось с того, что Долгоруков, занимаясь генеалогией, вздумал предать гласности более чем сомнительное происхождение целого ряда вельмож, вошедших в силу в течение XVIII века, потомки которых образовали «сливки» русского общества. В 1842 году князь выпустил в Париже на французском языке, под псевдонимом «граф Альмагро», брошюру «Заметки о знатных русских семьях», где приводились факты, компрометировавшие многих аристократов, чьи предки, люди низкого рода, выдвинулись лишь благодаря своей службе в качестве царских денщиков и брадобреев, за что их жаловали графскими и даже княжескими титулами.
О Меньшикове, например, говорилось: «Разносчик, торговавший пирогами, он стал камердинером Петра Первого, помещен был им в гвардию и вскоре возвысился до генеральского чина, хотя едва умел читать и писать».
О Екатерине I Долгоруков осмелился писать так:
«Она была дочерью бедного ливонского крестьянина, стала служанкой пастора, затем женой шведского драгуна. Попав в плен при взятии Мариенбурга русскими войсками, она сделалась наложницей генерала Бауэра, который отдал ее графу Шереметьеву, а тот – Меньшикову. Последний в свою очередь уступил любовницу Петру Первому, а тот возьми и женись на ней». Братья и племянники Екатерины стали графами Скавронскими.
Не менее пикантные подробности сообщались о происхождении титула князя Безбородко, заслужившего милость царственных особ тем, что был виртуозом по куаферной части, т. е. парикмахером.
Судить автора за то, что он сообщал достоверные исторические факты, было невозможно, и Николай I ограничился тем, что велел его сослать,– правда, не в Сибирь, а только в Вятку, служить под надзором полиции.
После смерти царя Долгоруков подал его преемнику записку о необходимости освободить крестьян (конечно, с выкупом за землю).
В 1859 году он тайно выехал за границу и выпустил там новую разоблачительную книгу «Правда о России», сперва на французском, затем на русском. На объявленное ему повеление немедленно возвратиться и предстать перед судом сената Долгоруков ответил издевательским письмом: «Желая доставить вам удовольствие видеть меня, посылаю при сем свою фотографию, весьма похожую.
Можете эту фотографию сослать в Вятку или в Нерчинск, по вашему выбору, а я сам – уж извините – в руки вашей полиции не попадусь, и ей меня не поймать!»
На вывезенные из России средства Долгоруков развернул борьбу с самодержавием, хотя не придерживался столь либеральных взглядов, как Герцен и Огарев. Он выпускал оппозиционные царскому правительству газеты «Будущность», «Правдивый», «Листок», сотрудничал в «Колоколе» и, по словам Герцена, «подобно неутомимому тореадору, не переставая, дразнил быка – русское правительство и заставлял трепетать камарилью Зимнего дворца».
Книга «Правда о России» содержала резкую критику царского режима. В ней доказывалось, что династия Романовых прекратилась со смертью Елизаветы Петровны, и в России правит немецкая династия Голштейн-Готторпов.
О вельможах былых времен Долгоруков писал: «Высокопревосходительные, сиятельные и светлейшие холопы, разодетые в шитые кафтаны, покрытые орденами и лентами...»
Столь же резко отзывался он о вельможах, ему современных. Приводя множество фактов, автор убедительно вскрывал гнилость и реакционность царского режима, продажность чиновников, самоуправство и жестокость помещиков, казнокрадство, возведенное в систему и разоблаченное Крымской войной, крючкотворство и отсутствие гласности в судах, лживость официозной прессы, расточительство царского двора, запущенность финансов, произвол тайной полиции. Он требовал целого ряда реформ в духе умеренного либерализма.
За эту книгу Долгоруков был заочно приговорен сенатом к лишению дворянского и княжеского достоинств, всех поместий и к ссылке в Сибирь на поселение. Но поскольку он был недосягаем для царского правительства, то его признали «навсегда изгнанным из России».
Куда более серьезным, с нашей точки зрения, было другое обвинение, выдвинутое против Долгорукова некоторыми литературоведами, а именно – в причастности к сочинению оскорбительного анонимного письма, приведшего к роковой дуэли Пушкина; но позднейшие исследования это опровергают.
И другому князю титул не помешал перейти в лагерь непримиримых врагов самодержавия.
В 1864 году русское правительство снарядило «торговую экспедицию» для нахождения кратчайшего пути из Забайкалья в Приамурье через Маньчжурию (впоследствии по этому маршруту была проложена Китайско-Восточная железная дорога).
В экспедиции участвовал иркутский второй гильдии купец Петр Алексеев. Сопровождавшие караван казаки-буряты быстро угадали, что купец – мнимый, вовсе сукнами не торгует, и признали в нем военного, так как он отлично сидел в седле, владел оружием и ориентировался не хуже любого проводника.
Купец этот был не кто иной, как старший офицер для особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири М. С. Корсакове, 22-летний князь Петр Алексеевич Кропоткин, представитель одной из самых древних русских фамилий, незадолго до этого окончивший Пажеский корпус, «человек большой учености и блестящей карьеры», как отзывается о нем один современник.
Карьеры князь П. А. Кропоткин не сделал, но стал выдающимся географом и геологом и не менее выдающимся революционером. В 1874 году он был арестован царским правительством за активное участие в народническом движении и после двух лет заточения в Петропавловской крепости совершил смелый побег из военного госпиталя, куда его перевели для лечения. Эмигрировав за границу, этот аристократ, один из потомков Рюрика, близко познакомился с К. Марксом, разделил его идеи, но потом примкнул к М. А. Бакунину и стал одним из идеологов анархизма.
Поселившись в 1886 году в Англии, Кропоткин вел большую научную и литературно-публицистическую работу, снискал огромный авторитет, был избран в 1893 году членом Британской ассоциации по развитию наук (аналог нашей Академии наук), постоянно печатал научные статьи в заграничных журналах, газетах, Британской энциклопедии.
Однако в русской печати он ничего помещать не мог, поскольку Александр II велел «не допускать к выходу в свет сочинения лиц, признанных изгнанными из отечества, тайком покинувших его, и государственных преступников, какого бы содержания ни были эти сочинения и в каком бы виде ни издавались: под собственными ли именами авторов или под какими-нибудь псевдонимами или знаками».
В первую очередь это касалось Герцена, Огарева, Бакунина и Кропоткина. Царь был чрезвычайно шокирован тем, что последний, будучи отпрыском древнего аристократического рода, примкнул к революционному движению.
Вот почему под статьей «Два ученых съезда» в «Вестнике Европы» (1898, № 4) стоит «П. Алексеев» – вымышленная фамилия, образованная из отчества автора, та самая, под которой Кропоткин за 34 года до того участвовал в Маньчжурской торговой экспедиции.
В этой статье подробно описаны доклады, сделанные рядом ученых на состоявшихся в 1897 году в Детройте и Торонто конгрессах Британской и Американской ассоциаций по развитию наук. Принадлежность этой статьи перу Кропоткина доказывается тем, что он лично принимал участие в обоих конгрессах. К тому же в его «Записках революционера» (1899, русский перевод, изданный в Лондоне,– 1902) есть рисунок, сделанный им во время путешествия по Канаде в том же году.
Лишь после победы Октябрьской революции Кропоткин получил возможность вернуться в Россию (ему было уже 75 лет). Он поселился в городе Дмитрове Московской области, где и умер в 1921 году. Его именем названы город на Северном Кавказе и улица в Москве.
«К НАМ ЕДЕТ ДЮМА!»
Автор «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо» пользовался в России не меньшей популярностью, чем у себя на родине. Его произведения переводились на русский сразу же после выхода в свет, их расхватывали, ими зачитывались.
Мудрено ли, что известие: «К нам едет Дюма!» – произвело в 1858 году фурор в литературных кругах? И. Панаев писал в «Современнике»: «Весь Петербург в течение июня месяца только и занимался г-ном Дюма. Ни один разговор не обходился без его имени».
Дюма и ранее много путешествовал, описал в своих путевых очерках ряд стран, но попасть в Россию ему до сих пор не удавалось: он был на плохом счету у царского правительства из-за своей книги «Учитель фехтования» (1840), где была описана романтическая история декабриста И. А. Анненкова и его жены, француженки Полины Гебль, последовавшей за ним в Сибирь. В России эту книгу запретили, ибо в ней были показаны ужасы крепостничества и без обиняков говорилось о кровавых страницах в истории русской монархии. Впервые «Учитель фехтовария» вышел в России лишь в 1925 году, к столетию со дня восстания декабристов.
После смерти Николая I Дюма возобновил свое ходатайство о въездной визе. Новый царь, Александр II, был либеральнее своего предшественника и в 1858 году разрешил знаменитому французскому писателю приехать, чтобы присутствовать в качестве шафера на свадьбе одного знакомого, а затем совершить путешествие по России.
Однако власти были настороже: ведь ехал не какой-нибудь «французик из Бордо», а известный всему миру автор, гордившийся своими демократическими убеждениями и тем, что его отец был республиканским генералом. И III отделение императорской канцелярии (т. е. орган сыска) завело дело «Об учреждении надзора за французским подданным, писателем Александром Дюма».
Последний и не скрывал, что собирается «стать свидетелем великого освобождения сорока пяти миллионов рабов» (реформа 1861 г. была не за горами), посетить на Кавказе Шамиля, «этого титана, который в своих горах борется против русских царей» и описать свое путешествие в издававшемся им журнале «Монте-Кристо».
«Северная Пальмира», где Дюма провел целый месяц, восхитила его, тем более что стояла прекрасная летняя погода. Он пишет: «Не знаю, есть ли в мире какой-нибудь вид, который мог бы сравниться с панорамой, развернувшейся перед моими глазами».
Дюма встречался с петербургскими литераторами, посетил редакцию «Современника», Рассказывает о знакомстве с Некрасовым, называя его «одним из самых популярных русских поэтов»: «Г-н Никрасов (!) —человек лет сорока, с болезненным и очень печальным лицом, с насмешливым и мизантропическим характером. Он очень любит охоту, которая дает ему возможность уединения; после своих друзей, Панаева и Грегоровича, больше всего любит свое ружье и собак. Последнюю книгу его стихов цензура запретила переиздавать, и она очень дорого стоит. Я заплатил за нее 16 рублей».
Петербургские и московские газеты уделили немало внимания приезду Дюма, но кое-где проскальзывали насмешливые нотки. А Герцен в лондонском «Колоколе» прямо писал: «Со стыдом и сожалением читаем мы, как наша аристократия стелется у ног Александра Дюма».
Однако писатель не только вращался в высшем свете и в литературных кругах, но и посетил одну тюрьму. Рассказывает о своих беседах с заключенными: первый пошел на грабеж лишь для того, чтобы уплатить подати; второй свободно говорил по-французски и оказался крепостным, которого посылали в Париж учиться на механика. Когда он вернулся, барин велел его жене кормить грудью не своего ребенка, а породистых щенят. В пылу негодования крепостной задушил щенят, получил за это двести розог и на другой же день поджег имение барина. «Но кто же настоящие преступники,– вопрошал Дюма,– становые и помещики или те, кого они ссылают на каторгу?»
Полюбовавшись белыми ночами, «столь светлыми, что можно прочесть письмо любимой женщины, каким бы мелким почерком оно ни было написано», посетив Ладожское озеро и остров Валаам, Дюма выехал по железной дороге в Москву, где провел несколько недель.
Московские друзья и почитатели устроили в его честь торжественный обед, а затем – вечер в саду «Эльдорадо», получивший известность как «ночь графа МонтеКристо».
Побывав на поле Бородина, осмотрев Троице-Сергиеву лавру, писатель сел в Калязине на пароход и пустился вниз по Волге, останавливаясь в Угличе, Костроме, Нижнем Новгороде, Казани, Саратове, Царицыне. Везде он осматривал достопримечательности, везде в его честь устраивались пышные приемы.
И все это время он находился под неусыпным тайным надзором полиции. Власти принимали его с почетом, но показывали гостю лишь то, что хотели, и непрерывно слали донесения в Петербург. Так, из Астрахани сообщалось: «Управляющий губернией старался оказываемым вниманием привлечь этого иностранца к себе для удобнейшего над его действиями надзора и во избежание излишнего и, может быть, неуместного столкновения с другими лицами и жителями».
Словом, устраивалось нечто вроде потемкинских деревень, а недальновидный путешественник принимал все за чистую монету и не мог нахвалиться русским гостеприимством. Он был очень рад, что в России, оказывается, его знали, что почти все, с кем он встречался, хорошо говорили по-французски.
Астрахань не была конечным пунктом маршрута, и возвращаться тем же путем Дюма не собирался. Посетив соляные озера, он был с великим почетом принят калмыцким владетельным князем Тюменем, в юрте которого стоял выписанный из Парижа рояль. Галантный француз не преминул сочинить дочери Тюменя мадригал, где назвал ее жемчужиной и цветком, украсившим берега Волги. Калмыков он сравнил с обитателями Эдема...
Затем неутомимый путешественник познал все неудобства езды на перекладных по почтовому тракту: через Дербент – в Баку, оттуда через Шемаху и Нуху – в Тифлис, где он стал гостем царского наместника, князя Барятинского. Съездил он и по Военно-Грузинской дороге во Владикавказ, чтобы увидать замок царицы Тамары и поискать скалу, к которой якобы был прикован Прометей. О посещении Шамиля, конечно, не могло быть речи, но Дюма стал свидетелем стычки русского отряда с горцами (возможно, инсценированной специально для него). Наконец, добравшись через Кутаис до Поти, неутомимый путешественник сел там на пароход и отправился домой через Константинополь.
В течение десяти месяцев он проехал около 4 тысяч лье, истратил 12 тысяч франков и подробно описал свои странствия в пяти томиках «От Парижа до Астрахани» и трех – «Впечатлений от поездки на Кавказ».
Несмотря на всю популярность Дюма в России, переводить первое из этих сочинений на русский не стали, ибо цензура не пропустила бы его. Мало того, и во Франции его издание цензура Наполеона III запретила, что подчеркивается на обложке каждого томика, вышедшего в Брюсселе.
Объяснялось это тем, что автор немало места уделил русской истории, которую излагал вовсе не так, как наши историографы, вынужденные замалчивать запретные для них главы. О насильственной смерти Петра III и Павла I в России оказалось возможным писать только после революции 1905 года. А Дюма рассказывал со всеми подробностями, кем и как были убиты эти цари. Не умолчал он и об упорных слухах, будто Николай I, узнав о поражениях при Альме и Инкермане, сделавших неизбежным падение Севастополя, принял яд, лишь бы не подписывать позорный мир.
Хотя в изложении Дюма русская история и превратилась в сборник анекдотов из жизни царей и придворных, он уделил должное внимание восстанию 1825 года.
По его словам, «либеральная петербургская и московская молодежь питает глубокое уважение к памяти декабристов. Когда-нибудь Россия воздвигнет им монумент». Дюма дает перевод пушкинского «Послания в Сибирь», с волнением описывает свою встречу в Нижнем Новгороде с жившими там героями его «Учителя фехтования» – «графом» И. Анненковым и его женой Полиной.
Не обошел писатель и чиновников-казнокрадов, рассказав, например, что лед для нужд Зимнего дворца, выломанный на Неве под его окнами, выдавался за волжский, привезенный втридорога; что бутылка шампанского, выпитая царем на охоте, превратилась в тысячу бутылок...
Возмутило француза и лицемерие властей. В России, по их утверждению, не существует смертной казни.
«Действительно,– пишет Дюма,– к смерти в России официально не присуждают, а только к трем тысячам шпицрутенов, заведомо зная, что больше двух тысяч вынести невозможно».
Перечисляя чины табели о рангах – большею частью всяких советников: титулярного, надворного, статского, тайного – Дюма иронически замечает: «В России больше советников, чем где бы то ни было, но меньше всего просят советов» – явный намек на произвол властей.
Ни один переводчик не решился бы перевести такие высказывания, ни один издатель не рискнул бы представить такую книгу в цензуру.
Правда, были переведены и изданы в 1861 году «Впечатления от поездки на Кавказ», но там не было ничего неприятного для царских властей. Напротив, русские – завоеватели Кавказа изображены как европейцы, приобщающие некультурных горцев к цивилизации. Но и тут, если сравнить русский текст с оригиналом, можно обнаружить цензурные купюры.
Поскольку путевые очерки Дюма «От Парижа до Астрахани» еще на русский не переведены (лишь небольшой отрывок, о встрече с Анненковыми, напечатан как приложение к «Учителю фехтования» в издании 1957 г.), познакомим читателей с этим произведением автора «Трех мушкетеров».
В нем немало «развесистой клюквы». Так, сообщается, что Пушкин родился в Псковской губернии (т. е. в Михайловском); что писатель Бестужев (Марлинский) – родной брат декабриста Бестужева-Рюмина, повешенного; что Полежаев сочинил поэму «Машка» (пояснено: в России так называют падших женщин) и был убит на Кавказе... Все это, так сказать, клюква литературная.
Рассказывая, как его угощали икрой, взятой у еще живого осетра, Дюма добавляет: «Русские больше всего на свете любят икру и цыганок». В Волге, как он сообщает, водятся сомы-людоеды, нападающие на людей.
У овец под Астраханью – такие огромные хвосты-курдюки, что каждая овца возит хвост в тачке...
А вот каким способом в России охотятся на медведей: кладут мед в медный горшок с узким горлом; стараясь достать мед, зверь засовывает голову в горшок, обратно вытащить ее не может, тут его и ловят...
Вот наблюдения над русским языком: «Он не очень богат на обращения: если не «братец», то «дурак», если не «голубчик» (маленький голубь), то «сукин сын» (пусть переводят другие!» – добавляет автор).
Описывая Волгу, он не мог обойти Степана Разина:
«Бандит Стенко Разин, родись он князем, стал бы, вероятно, великим человеком и знаменитым полководцем; но поскольку он был простой казак, его четвертовали. Он отличался мужеством заговорщика, смелостью разбойника, прозорливостью генерала и вдобавок красотой».
Предание о персидской княжне (ну, как же без нее?)
Дюма излагает так: «На вопрос Разина: что подарить тебе, Волга?» – эхо каждый раз ответствовало: «Ольгу!»
Ольгой звали его возлюбленную, и он бросил ее в реку с вершины утеса под Царицыном, который с тех пор называется Девичьим».
Большой гурман, Дюма много места уделяет русской кухне, ругает «чи» (это слово, по его мнению, китайского происхождения) и находит, что они сильно уступают простой капустной похлебке, какую варят самые бедные французские крестьяне. Развенчивает Дюма и знаменитую волжскую «стерлет». Все дело, как он считает, в том, что в России нет талантливых поваров.
Нашего путешественника поразили обширные русские равнины, которым нет ни конца ни края. В его подорожной стояло: «Александр Дюма, литератор». Смотрители почтовых станций недоумевали: что за чин такой? Похоже на «коллежский регистратор», ниже которого чина не было... Видать, птица неважная! Но спутники француза авторитетно разъясняли: да нет, это то же самое, что генерал! И лошадей давали тотчас же.
Непременным спутником подорожной, по словам Дюма, является нагайка: без нее лошадей не получишь.
Кроме того, надо брать с собой в дорогу все: матрац, подушку, съестные припасы...
Отдадим справедливость автору очерков: он добросовестно старался познакомить читателей с русской литературой. Об этом свидетельствует большое количество включенных им переводов стихотворений русских поэтов. Вразрез с тогдашним обычаем, они сделаны не прозой, а рифмованными стихами, хотя это и труднее. Дни, проведенные на пароходе, неспешно бороздившем волжские воды, Дюма использовал для того, чтобы сделать творения Пушкина, Лермонтова, Рылеева, Некрасова доступными для французских читателей. Любезные спутники делали для него подстрочники, а плодовитость его, как автора, вошла в легенду.
Пушкину посвящена целая глава. Ставя его чрезвычайно высоко, Дюма отмечает любовь к нему в России.
«Русские боготворят Пушкина и Лермонтова; второго – в особенности женщины, которые знают все его стихотворения наизусть, в том числе и запрещенные цензурой». Рассказано, как Пушкин, решив принять участие в восстании 14 декабря, за неделю до этого выехал в Петербург из своего имения, но вернулся назад, так как заяц дважды перебежал дорогу, а это очень плохая примета. «Иначе Пушкин был бы либо повешен, как Рылеев, либо сослан в Сибирь, как Трубецкой и другие»,– авторитетно разъясняет Дюма.
Во всех подробностях рассказана история дуэли, последние часы поэта, но он представлен жертвой своей ревности.
Из стихов Пушкина в путевых очерках Дюма мы находим: часть оды «Вольность» («Самовластительный злодей...»), «Эхо», «Ворон к ворону летит», «В крови горит огонь желанья», отрывок из «Медного всадника» («Люблю тебя, Петра творенье...»), окончание «Моей родословной» («Видок Фиглярин, сидя дома...»), «19 октября 1827 г.» («Бог в помочь вам, друзья мои...»), ряд эпиграмм; из стихов Рылеева – отрывок из «Войнаровского»; Лермонтова – «Думу», «Горные вершины», «Дары Терека»; Некрасова – «Забытую деревню», «Княгиню», «Еду ли ночью по улице темной...»
Таким образом, очерки Александра Дюма-отца о его поездке в Россию стали одной из первых антологий русской поэзии на французском языке – поэзии, тогда еще почти неизвестной его соотечественникам. За это ему можно простить и поверхностность, и «развесистую клюкву».
«ЖИЛ НА СВЕТЕ РЫЦАРЬ МОДНЫЙ...»
Несмотря на свою славу, И. С. Тургенев часто становился мишенью для остроумия собратьев по перу.
С нападками на него выступали и консерваторы и демократы. Первые считали его чересчур левым, а вторые, наоборот, барином до мозга костей. Роман «Отцы и дети» (1862) был воспринят ими как пасквиль на новое поколение. «Меня били руки, которые я хотел бы пожать, и ласкали руки другие, от который я бежал бы за тридевять земель»,– писал Тургенев Марко Вовчку (М. Вилинской).
Хотя образ Базарова написан далеко не такими черными красками, каких впоследствии не жалели для нигилистов Лесков и Достоевский, не говоря уже о писателях реакционного лагеря,– «Отцы и дети» вызвали целый град эпиграмм. В стихотворении «Отцы или дети?»
Д. Минаев, используя форму лермонтовского «Бородина», писал в «Искре»:
Уж много лет без сожаленья
Ведут войну два поколенья,
Кровавую войну.
И в наши дни в любой газете
Вступают в бой «отцы» и «дети»,
Разят друг друга те и эти,
Как прежде, в старину.
Иронически критикуя «детей» («Друг черни и базаров, лягушек режущий Базаров, неряха и хирург»), Минаев притворно восхвалял представителя «отцов» – Павла Кирсанова:
И мы, решая все на свете,
Вопросы разрешили эти.
Кто нам милей – отцы иль дети?
Отцы! Отцы! Отцы!
В той же «Искре» в том же 1862 году была помещена краткая анонимная эпиграмма:
Как древле Соломон, теперь Тургенев сам
Романом доказал, как все превратно в свете,
Где дети иногда дают урок отцам
И лучшие отцы болтают вздор, как дети.
Тургенев сообщил М. Ковалевскому: «Когда я писал заключительные строки «Отцов и детей», я принужден был отклонять голову, чтобы слезы не капали на рукопись». Это стало известно, и в «Будильнике» (1865) появилась эпиграмма, подписанная «Комар» и посвященная «автору чувствительного романа»:
Ты мне сказал, что слезы льешь рекой,
Когда ты сам роман читаешь свой.
В том ничего нет странного, ей-ей:
Отцы ведь плачут от дурных детей.
В 1863 году повод для нападок против Тургенева дало его письмо Александру II, где он заверял царя в своей лояльности, в умеренности своих взглядов, отрекался от былой дружбы с Герценом и осуждал его. За это письмо Герцен в «Колоколе» назвал Тургенева «седовласой Магдалиной мужского рода» (евангельская Магдалина была, как известно, кающейся грешницей). Сподвижник Герцена Н. П. Огарев отозвался на письмо Тургенева царю резким стихотворением, переиначив пушкинское «Жил на свете рыцарь бедный...»:
Жил на свете рыцарь модный,
Литератор не простой,
С виду милый, благородный,
Духом робкий и пустой.
Он имел одно виденье,
Дух смутившее ему,
Что к свободе направленье
Приведет его в тюрьму.
Но таланта дар отличный
Да Белинского слова
От паденья нрав тряпичный
Охраняли в нем сперва.
И в пустыне скверноплодной
Он сберег сердечный жар,
Он возвысил лик народный,
Заклеймил позором бар.
Но в минуту раздраженья
Самолюбьицем пустым
Молодого поколенья
Стал врагом он мелочным.
И, тревожась о пощаде,
Сам к царю он написал,
Что он, преданности ради,
Связи дружбы разорвал.
И, холопам подражая.
Он представился царю.
Царь сказал ему, кивая:
«Очень вас благодарю».
И прием хоть был отраден,
Но художник со стыда
Сразу скрылся в Баден-Баден,
Словно призрак, без следа
[7]
.
Очень не понравился критикам рассказ Тургенева «Собака» (1864): мистические нотки в нем вызывали недоумение и толки о том, что талант Тургенева гаснет.
П. Вейнберг в «Будильнике» обратился к автору с таким стихотворением:
Я прочитал твою «Собаку»,
И с этих пор
В моем мозгу скребется что-то,
Как твой Трезор.
Скребется днем, скребется ночью,
Не отстает,
И очень странные вопросы
Мне задает:
«Что значит русский литератор?
Зачем, зачем
По большей части он кончает
Черт знает чем?»
В 1867 году Тургенев написал на французском языке несколько либретто для оперетт. Они были положены Полиной Виардо на музыку и поставлены в ее домашнем театре; в оперетте «Леший» Тургенев сам исполнил главную роль. В связи с этим Д. Минаев, на этот раз укрывшись под псевдонимом «Литературное домино», писал в «Искре»:
Какой талант! И где ж его
Поймет простой народ?
Он сам напишет «Лешего»
И сам его споет.
Слез много нами вылито,
Что он в певцы пошел...
Иван Сергеич, вы ль это?
Вас леший обошел!
В той же «Искре» (1870) в связи с постановкой на берлинской сцене оперетты «Последний день чародея» (слова Тургенева, музыка Виардо) была помещена анонимная эпиграмма:
Возможно уличить в измене
Его как раз:
Зачем он на берлинской сцене,
А не у нас?
Нашлись бы, чай, на роли эти
У нас певцы,
А их послушали б и Дети,
Да и Отцы,
Роман Тургенева «Дым» (1867) был, как «Отцы и дети», воспринят многими как памфлет против передовых представителей русского общества, вдобавок он был проникнут пессимистическими настроениями. Не мудрено, что появились резкие отповеди, в том числе стихотворные.
Огарев писал (эти строки были впервые опубликованы «Литературным наследством» в 1953 г.):
Я прочел ваш вялый «Дым»
И скажу, вам не в обиду;
Я скучал за чтеньем сим
И прочел вам панихиду,
Огареву вторил Тютчев:
«И дым отечества нам сладок и приятен...»
Так поэтически век прошлый говорит.
А наш —и сам талант все ищет в солнце пятен,
И смрадным «Дымом» он отечество коптит.
(«Голос», 1867, № 170)
Впоследствии Тургенев писал в предисловии к собранию своих сочинений (1880): «Сам Ф. И. Тютчев, дружбою которого я всегда гордился и горжусь доныне, счел нужным написать стихотворение, в котором оплакивал ложную дорогу, избранную мною. Оказалось, что я одинаково, хотя и с различных точек зрения, оскорбил и правую, и левую стороны читающей публики».
Д. Минаев в поэме «Раут» (1868) говорит о писателе, который часто ездит на чужбину.
А теперь вернулся (что ж, мы будем хлопать!)
Автором романа под названьем «Копоть».
Соотечественников Тургенева раздражало его постоянное проживание за границей, ставившее для многих под сомнение патриотизм писателя. Про него говорили, что он «изучает Русь в Париже». В списках ходила такая эпиграмма:
Талант свой он зарыл в «Дворянское гнездо».
С тех пор бездарности на нем оттенок жалкий,
И падший сей талант томится приживалкой
У спавшей с голоса певицы Виардо.
Появились выпады и против повести «Вешние воды» (1872)—по мнению некоторых критиков – слабой, свидетельствующей об упадке таланта автора. Все тот же Минаев (мало кто так высмеивал Тургенева, как он) писал в «Искре»:
Недаром он в родной стране
Слывет «талантом»... по преданьям:
Злаглавье вяжется вполне
В его романе с содержаньем.
При чтеньи этих «Вешних вод»
И их окончивши, невольно
Читатель скажет в свой черед:
«Воды, действительно, довольно!»
Роман «Новь» (1877) также не удовлетворил русских революционных демократов из-за умеренности политических убеждений его героев. Минаев в «Петербургской газете» высмеял его, подписавшись: «Общий друг»:
«– Читали «Новь»? – Читал в теченье трех часов,
Не отрываясь, я.– И мнения какого?
– В романе этом все бы было ново,
Когда бы не было «Бесов»
И «Некуда» Стебницкого-Лескова!
Другая эпиграмма, опубликованная уже после смерти Тургенева «Историческим вестником» в 1892 году, приписывается А. Апухтину:
Твердят, что новь родит сторицей,
Но, видно, плохи семена
Иль пересохли за границей:
В романе «Новь» – полынь одна.
Об этом романе, а также о мнимом отказе Тургенева от писательства (такое впечатление вызвал его рассказ «Довольно!») упоминает В. Буренин в поэме «Иван Оверин»:
Лет тридцать он дворянские амуры
Описывал прекрасно, но потом,
Внезапно устыдясь литературы,
Дал клятву больше не шалить пером.
С тех пор в отчизне барышни все хмуры
И молят страстно небеса о том,
Чтоб автор «Нови», им на, утешенье,
Переменил жестокое решенье.
Неблагоприятный отклик получило и выступление Тургенева в Обществе любителей русской словесности по случаю открытия памятника Пушкину в Москве (1880). В своей речи он позволил себе усомниться, можно ли приравнять Пушкина к Шекспиру и Гете, и сказал, что «название национально-всемирного поэта мы не решаемся дать Пушкину, хотя не дерзаем отнять его». Это умаление заслуг великого русского поэта не прошло незамеченным и дало повод О. Голохвастовой саркастически написать:
В речи длинной, тонкой, меткой
Нам Тургенев сообщил,
Что хорошею отметкой
Мериме, сей критик редкий,
Гений Пушкина почтил.
Но, чтоб нам не возгордиться,
О себе не возмечтать —
Поспешил оговориться,
Что не след нам торопиться
Пушкина великим звать.
Не велик уж, не народен
Наш развенчанный поэт,
Мериме хоть он угоден
И для русских превосходен...
Что ж, об этом речи нет.
Но Европе просвещенной
Где же Пушкина читать?
Будет с нас, и тем польщенны,
Что, Вьярдом переведенный,
Сам Тургенев ей под стать.
Эти строки ходили в списках и были опубликованы лишь в 1909 году «Вестником Европы». В них упоминалось о том, что муж Полины Виардо перевел некоторые произведения Тургенева на французский.