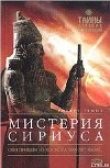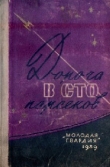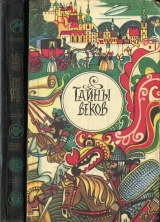
Текст книги "Тайны веков. Книга 2"
Автор книги: Вадим Суханов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
«В подлинности нет сомнения»
Такие находки науке в самом деле известны. Еще в 1844 году английский естествоиспытатель сэр Дэвид Брюстер выступил на собрании Британской ассоциации содействия развитию науки с сообщением о находке в Кингудском карьере (Милнфилд, Северная Британия) стального гвоздя, примерно на дюйм внедренного вместе со шляпкой в твердый песчаник. Острие этого гвоздя, почти полностью съеденное ржавчиной, выходило наружу, в слой валунной глины. К сожалению, ничего не известно ни о точном месте, ни о глубине, где был добыт кусок камня с гвоздем.
Сообщение сэра Брюстера опубликовано в «Обзорах сообщений, сделанных на сентябрьском 1844 года собрании Британской ассоциации содействия развитию науки» (Лондон, 1845, с. 51). К нему следует отнестись со всей серьезностью, ибо Дэвид Брюстер – признанный ученый, автор десятков научных трудов. Это, в свою очередь, не позволяет отбросить как «нелепые» другие аналогичные факты, хотя они порой и происходят из сравнительно менее надежных источников.
Так, в 1869 году в штате Невада в куске твердого полевого шпата, добытого на значительной глубине, якобы обнаружили металлический винт длиной около 5 сантиметров. Восемнадцатью годами раньше золотоискатель Хайрэм Уитт привез в родной город Спрингфилд кусок золотоносного кварца «размером с мужской кулак». При случайном падении этот кусок раскололся, и внутри его оказался чуть тронутый ржавчиной... гвоздь.
В XVI веке испанский вице-король Перу дон Франсиско де Толедо держал в своем кабинете стальной гвоздь длиной 18 сантиметров, плотно зацементированный в куске горной породы. Гвоздь этот был найден в перуанской горной выработке.
Разумеется, принимать все эти сообщения некритически весьма рискованно и наивно. Только тщательный и всесторонний анализ странных находок может гарантировать нас от ошибок. В этом смысле показательна «история» печати звездолетчиков, описанная советской прессой в 1965 году. Тогда за свидетельство палеоконтакта был принят отпечаток головки болта, случайно попавшего в нефтяную скважину. Не менее примечательна находка в 1968 году в донбасской угольной шахте «металлического стержня», оказавшегося естественным пиритовым образованием.
Но существование «разгаданных» НПО не избавляет нас от необходимости искать приемлемые объяснения в каждом конкретном случае, тем более что гвозди отнюдь не единственные представители этого семейства, хотя, увы, и наиболее пока многочисленные. Как сообщает журнал «Труды общества древностей шотландских» (Эдинбург, 1854, т. 1, с. 121—122), в начале декабря 1852 года в куске угля, добытого неподалеку от Глазго, оказался железный инструмент странного вида. Джон Бьюкенен, приславший обществу эту находку, сопроводил ее письменными показаниями, данными под присягой, пяти рабочих, присутствовавших при открытии. Сообщая об обстоятельствах дела, он не без некоторой растерянности замечает:
«Я совершенно согласен с общепринятой в геологии точкой зрения, согласно которой уголь образовался задолго до появления человека на нашей планете; но странно, как это орудие, определенно вышедшее из человеческих рук, могло проникнуть в пласт угля, закрытый... тяжелой массой горной породы».
Члены общества также, по-видимому, разделяли «общепринятую точку зрения» и, посовещавшись, решили: инструмент является частью бура, сломавшегося при одной из предыдущих попыток поиска ископаемых. К сожалению, как и в других случаях, НИО находился, внутри, куска угля, и, пока последний не был разбит, о существовании предмета никто не подозревал. Но никаких следов бурения в этом районе не было.
Еще более странная находка явилась в июне 185.1 года близ американского города Дорчестера. Журнал «Сайентифик Америкэн» так описывал этот случай:
«Несколько дней назад мощный взрыв разрушил скалу... в Дорчестере... Этот взрыв разбросал во все стороны огромные камни весом до нескольких тонн и множество мелких фрагментов. Среди них были подобраны два обломка металлического предмета, разорванного при взрыве пополам. При соединении эти части образовали колоколоподобный сосуд 4,5 дюйма (т. е. 11,4 см) высотой, 6,5 дюйма (16,5 см) шириной в основании, а при вершине 2,5 дюйма (6,4 см) и толщиной стенок около одной восьмой дюйма (0,3 см). Металл сосуда по виду напоминал цинк или же сплав со значительной добавкой серебра. На поверхности различались шесть изображений цветка или букета, покрытых чистым серебром, а вокруг нижней части сосуда – лоза или венок, также покрытые серебром. Резьба и покрытие были превосходно выполнены неизвестным мастером. Этот странный сосуд загадочного происхождения извлечен из слоя породы, находившегося до взрыва на глубине 15 футов (4,5 м)... В подлинности находки нет сомнения, и поэтому она достойна изучения».
Продолжение следует...
К сожалению, даже объекты, «достойные изучения», не всегда бывают изучены. Часть обнаруженных НИО за прошедшие десятилетия утеряли, другая – и по сегодняшний день тихо хранится в музеях и частных собраниях. Строить гипотезы об их природе приходится в лучшем случае на основе фотоснимков, в худшем – на основе довольно некачественных описаний. Так что же такое НИО? Что представляют собой эти предметы, столь различные по своему характеру и объединяемые лишь двумя общими признаками:
1) они, по-видимому, искусственного происхождения;
2) находят их в ненарушенных пластах, образовавшихся в эпохи, когда «человек разумный» на Земле еще не существовал?
Что же это такое? Следы погибшей цивилизации? Свидетельства палеоконтакта? Плоды человеческих рук, случайно попавшие в древние слои? Естественные объекты необычной формы? Наконец, просто мистификация? Пока неизвестно. Любое априорное предположение может оказаться неверным. Но если попытаться исходить из чисто теоретических рассуждений, придется признать: «тривиальные» объяснения имеют больше шансов оказаться справедливыми, чем «нетривиальные».
С одной стороны, гипотеза о существовании на Земле некой технически развитой працивилизации вступает в резкое противоречие со всем, что нам достоверно известно об истории нашей планеты. С другой – НИО в целом имеют слишком «обычный» состав, чтобы можно было приписать их изготовление цивилизации внеземной. Не будем же мы, обнаружив каменный топор, утверждать, что он изготовлен на современном заводе. Столь же странно ожидать от высокоразвитой цивилизации, способной посылать экспедиции на межзвездные расстояния, широкого использования стали, которую уже в XXI веке могут вытеснить титан, синтетические материалы и бездислокационные металлы.
В любом случае главное – не упускать из виду всякого рода странные объекты, обнаруживаемые в земных пластах. Для науки будут иметь большую ценность как ископаемые метеориты (которые в СССР пока еще не найдены), так и, разумеется, подлинные НИО, загадку которых еще предстоит разрешить.
Курьезы природы или приглашение к открытию?
В. Авинский, кандидат геолого-минералогических наук
Природа богата на выдумку. Созданное ею порой очень трудно отличить от творений рук человеческих. Да только ли человеческих? Извечная идея о множественности обитаемых миров и научные предположения о возможности «вмешательства» разумных существ космоса в земные дела, обоснованные еще К. Циолковским, ныне приводят исследователя к необходимости решения суперзадачи: не является ли то или иное таинственное, не поддающееся объяснению нечтоатрибутом инородной, внеземной цивилизации?
Объекты, о которых идет речь в статье В. Рубцова и Ю. Морозова, потому и привлекают внимание, что до сих пор их происхождение непонятно.
Авторы справедливо ставят вопрос о возможности существования целого класса НИО, которые можно было бы считать искусственными. Но здесь не следует торопиться. Ибо не являются ли в действительности многие из них пиритовыми замещениями растительных остатков, хорошо известными геологам и называемыми метаморфозами? Стержнеподобные пиритовые тела могли образоваться в пустотах между кристаллами, которые, срастаясь, накрепко замуровывают такой вот «гвоздь». Так что одно лишь беглое перечисление таинственных «винтов» и «гвоздей» со шляпками мало что дает. Его можно сравнить, пожалуй, с беглой пальбой из «мелкашки», в то время как обстоятельный разбор авторами «параллелепипеда» – это эффективный прицельный огонь бронебойного ружья.
Поскольку именно форма зальцбургского объекта была причиной всех споров о его происхождении, а мы пока не располагаем точными данными о его химическом составе и физических свойствах, хотелось бы обратить внимание читателя на его геометрические особенности. Зальцбургский предмет назвать параллелепипедом трудно. Скорее он похож на подушку, прямоугольную в плане, эллиптическую в разрезе, да еще из двух половинок. На вопрос: что вы видите на этих рисунках? – знакомые специалисты дали следующие ответы:
Физик:«Что-то вроде панциря черепахи».
Химик:«Скорлупа ореха, грецкого».
Фотограф:«Полушария мозга».
Палеонтолог:«Вряд ли это створки раковины...»
«Странный портсигар», – отшутился астроном.
Каждый из моих добровольных экспертов выражал удивление, когда я объяснял, что этот предмет считают ископаемым метеоритом или кристаллом. Разве такие бывают метеориты?
И правда, в мире кристаллов у него нет прямых аналогов. Во всяком случае, монокристаллы подобного вида неизвестны. В то же время до сих пор не встречалось и геометрически правильных метеоритов. С большой степенью условности наш объект можно сравнивать с так называемыми сдвойникованными кристаллами, или контактными двойниками. Но кристаллические двойники обычно соединяются непосредственно по плоскости срастания, как сиамские близнецы сросшимися боками. Здесь же есть буферная зона, необычный поясок, выполненный, очевидно, из другого материала, имеющего иную структуру...
Нельзя не согласиться с авторами статьи об открытии доктора Гурльта, что объекты, действительно достойные изучения, часто остаются вне поля зрения ученых, особенно тех, научные интересы которых давно устоялись. Вполне резонно, что исследователи, разрабатывающие солидную научную тему, не считают возможным тратить время на какие-то там загадки, курьезы. Но это отнюдь не означает, что ими вообще не стоит заниматься. Стоит! Энтузиасты неоднократно доказывали это на практике.
Пусть подумают над загадками непонятных ископаемых объектов молодые ученые, помня, что за отклонением от правил, за сегодняшним курьезом часто исследователя ждет открытие.

Мост Цезаря
Е. Капитонов, кандидат технических наук
За десять дней?
В 55 году до н. э., преследуя разбитые германские племена, Гай Юлий Цезарь, римский полководец и писатель, решил переправиться через Рейн. Желая продемонстрировать могущество Рима, Гай Юлий рассудил, что хорошо бы соорудить мост – дело в тех краях неслыханное, да и вообще весьма трудное, учитывая ширину, глубину и быстроту реки.
В четвертой книге своих «Записок о Галльской войне» Цезарь приводит описание этого моста. Естественно, никаких рисунков, чертежей или иллюстраций в тексте не было, а само описание порой можно было трактовать по-разному.
Мост после завершения восемнадцатидневного похода Цезарь приказал разобрать. Остались лишь несколько опор со стороны галльского берега, где ранее воздвигли четырехэтажную караульную башню. Казалось, мост сыграл свою роль и отныне удел его – забвение.
Однако вот уже чуть ли не полтысячи лет, как построенный Цезарем мост привлекает пристальное внимание исследователей. Еще бы: ведь его соорудили за десять дней. Срок рекордный даже для наших дней, ведь ширина Рейна в месте переправы около 400 метров, глубина – метра четыре; к тому же опоры моста изготовлялись из дубовых стволов толщиной в два фута и весом около тонны, а их еще надо было отыскать в близлежащих лесах, срубить и доставить.
Поэтому мост интересует архитекторов и строителей, полководцев и военных инженеров. Занимаются им и историки техники.
Как же он выглядел?

Этот вопрос возникает прежде всего. Одним из первых попытался изобразить мост знаменитый итальянский архитектор эпохи Возрождения Палладио. Вот как он писал: «...вследствие незнания смысла некоторых слов, употребленных им (Цезарем. – Е. К.)в описании, устройство этого моста изображалось в рисунках по-разному, в зависимости от различных толкований. Но так как и я об этом думал не раз, то не хотелось пропустить случай изложить способ, который я себе вообразил, когда в молодости впервые читал „Комментарии“ (то есть „Записки“ Цезаря. – Е. К.),ибо мне кажется, что многое из этого сходится со словами Цезаря, и получается удивительно хорошо, как можно было убедиться по впечатлениям от моста, построенного мною через Вакильоне, под самой Винченцей».
Цезарь описывал мост, как бы глядя вдоль него с берега. Именно таким изобразил мост и Палладио. Скамоцци, современник Палладио, рисуя мост, изображал продольные брусья, связывающие между собой опоры и образующие каркас, на который в качестве окончательного покрытия укладывались, по словам Цезаря, шесты и фашины прямоугольного сечения. Первым опроверг правильность такого решения император Наполеон. Здесь нет ничего удивительного. Профессиональный военный, хотя и далекий от вопросов строительства и архитектуры, он привык повелевать и решил поправить знаменитых архитекторов, пусть даже мертвых. Императора можно понять: архитекторы эпохи Возрождения основывались в своих работах на трех принципах, сформулированных еще Витрувием: польза, долговечность и красота. Конечно же, полководцу легче было догадаться, что при строительстве временной переправы быстрота ее сооружения гораздо важнее, нежели красота. Наполеон и заметил, что при строительстве моста нельзя тратить время на окантовку бревен – они будут оставлены круглыми.
А что же инженеры?
В XIX веке о мосте Цезаря много рассуждали военные инженеры Циммеракель, Гойлер, Фройлих, Цогаузен. Книга последнего, полковника прусского королевского инженерного корпуса, особенно занимательна. Скрупулезно проанализировав текст «Записок» Цезаря, разыскав и изучив образцы древней техники, Август фон Цогаузен особенно тщательно провел наблюдения в тех странах, где путешествовал некогда со своими легионами Цезарь.
Личность ученого вообще удивительна. Примерный семьянин, страстно, по его словам, любящий жену и детей, он еще больше любил свое увлечение.
И хотя частые его командировки вызывали в нем горькое чувство раскаяния и стыда, хотя искренние слезы нередко лились по его лицу, когда он покидал родной дом, Цогаузен пользовался любым предлогом, чтобы в очередной раз изучить работу плотовщиков на Рейне и его притоках, полюбоваться на всевозможные устройства на реках, устанавливаемые местными плотниками, в частности деревянные мостики на речке Ар, впадающей в Рейн повыше Бонна, где жила его троюродная сестра. Он считал, что методы рейнских плотовщиков и плотников могли быть использованы и при Цезаре, поскольку полководцами принято привлекать к работе при всех своих затруднениях местное население. В конце жизни Цогаузен пришел к выводу, что ширина моста в 40 футов (которую все переводчики Цезаря считали взятой по поверхности воды) в действительности должна измеряться по дну реки, там, где основание опор, состоящее из наклонно вбитых в дно свай, имеет наибольшую ширину. Только тогда мост получился бы столь же узким, как римские дороги.
Одним из первых Цогаузен занялся и другим важным вопросом, без решения которого не обойтись ни одному исследователю моста, – как средствами античной техники смогли построить такое сооружение, как, в частности, можно было забить в дно бурной и глубокой реки сваи весом в тонну каждая. Инженеру удалось выяснить, что такая работа вполне выполнима при помощи ручного копра, установленного на двух лодках. Но лодки следовало поставить так, чтобы расстояние между ними было в полтора метра, поскольку сваи состояли из двух параллельных бревен, скрепленных поперечинами, с общей шириной 147 сантиметров (более чем через век устройство такого копра привела польская исследовательница А. Россет. Копер поставлен, правда, не на лодках, а на строящейся части моста, что является ошибкой). При этом сваи не забивались глубоко в грунт, но лишь фиксировались, а затем дополнительно укреплялись.
Решив определить возможное расстояние между опорами, вообще не указанное Цезарем, Цогаузен произвел расчет моста. Ученый не считал свои выводы окончательными. Он рассматривал их как один из этапов изучения легендарного моста, считал, что последующие исследователи многое еще смогут добавить, В этом Цогаузен оказался прав. И сегодня рождаются все новые предположения об устройстве моста.
...Цезарь или Маммурра?
В воспоминаниях Цезаря о Галльской войне есть сообщение еще об одном мосте, построенном легионерами, которое почему-то исследователи обходят молчанием. Однако предоставим слово самому словолюбивому полководцу:
«По земле эдуев и секванов протекает и впадает в Родан река Арар. Ее течение поразительно медленно, так что невозможно разглядеть, в каком направлении она течет. Гельветы переправились через нее на плотах, на связанных попарно челноках...
Чтобы догнать после... сражения остальные силы гельветов, Цезарь (из мнимой скромности полководец пишет о себе в третьем лице. – Е. К.)распорядился построить на Араре мост и по нему перевел свое войско. Его внезапное приближение поразило гельветов, так как они увидели, что он в один день осуществил переправу, которая удалась им едва-едва в двадцать дней».
Конечно, река Сона (а именно так теперь называется древний Арар) существенно меньше и спокойнее Рейна, но и она не ручеек. Длина ее 455 километров, из них на протяжении 355 она судоходна, следовательно, Сона являет собою достаточно глубокий и широкий поток. Постройка моста за один день говорит о том, что в войсках Цезаря были искусные строители, обладавшие опытом не меньшим, нежели рейнские плотовщики, на чье умение столь легкомысленно полагался Цогаузен.
Однако вот еще нерешенный вопрос: а кто был автором моста через Рейн? Первым с ним пытался справиться австриец Вейт. В армии Цезаря была должность производителя строительных работ (praefectus fabri), которую занимал некий Маммурра.
Однако, анализируя целый ряд обстоятельств, Вейт пришел к выводу, что автором моста был не древнеримский прораб, а сам Цезарь. Косвенно об этом свидетельствует хотя бы подробное описание моста в книге Цезаря. Мемуары его были предназначены для римских политиков. Цезарь старался в них подчеркнуть собственные заслуги, доказать свое искусство полководца, мудрость и благородство гражданина. Записки должны были способствовать росту его популярности. И включение подробного описания строительства моста в труд имело смысл, если автором проекта был Цезарь, а не какой-то Маммурра.
Вот что известно нам сегодня о мосте через Рейн. Читатель скажет: но это же лишь догадки, основанные на анализе или логических рассуждениях, но вовсе не доказанные безоговорочно фактами. Что ж, тем лучше. Значит, следует ожидать появления новых идей и догадок.
Существовал ли мост Цезаря?
А. Снисаренко, историк
Принципиальная возможность постройки моста через Рейн сомнений не вызывает. Но чем мотивирует необходимость нелегкого строительства сам Цезарь? Он выдвигает две причины, одну смехотворнее другой. Мост понадобился для того, чтобы, во-первых, обеспечить безопасность переправы и, во-вторых, поддержать престиж как самого полководца, так и всего римского народа. Оставим в стороне причину вторую, от которой отдает пропагандой и декламацией. Безопасность? Ее уже обеспечили мечи легионеров. Но вот еще один вопрос, отчего-то пропущенный Цезарем. Цезарь намеревается предпринять молниеносную карательную экспедицию и затевает никчемное строительство. Десять дней? Немало для Цезаря, десять потерянных дней. Опытный полководец спешит (по его же словам!) на правобережье Рейна и «забывает» о готовом флоте и о традиционных походных средствах оперативной переправы. Он жаждет продемонстрировать несокрушимость военной машины римлян и возней на берегах Рейна дает неприятелю возможность преспокойно скрыться.
Что произошло дальше? Часть германских племен встретила римские войска «землей» и «водой», а остальные укрылись в лесах. После восемнадцатидневного преследования противника римляне вернулись на правый берег Рейна, разрушив за собой мост! И тут же Цезарь предпринимает поход в Британию, используя для переправы все те же корабли. Это мероприятие он повторяет и на следующий год. Пять легионов и две тысячи всадников пересекают бурный пролив, нимало не страшась подстерегающих их опасностей, которых здесь было куда больше, чем на Рейне. И в самой Британии Цезарь также форсировал Темзу дедовским способом, даже не помышляя удивить бриттов своими инженерными талантами. Но после возвращения на материк, в 53 году до н. э., по словам Цезаря, он строит второй мост через Рейн – еще быстрее, чем первый, так как техника подобного строительства, поясняет Цезарь, уже была освоена солдатами. Где освоена? На том же Рейне два года назад?
Таковы факты. За пять лет Цезарь дважды создал грандиозные сооружения, одно из которых он очень подробно описал, но которое никто не видел и следы которого никем не обнаружены.