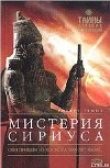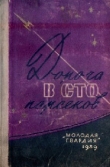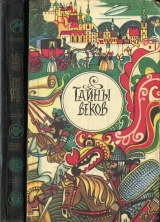
Текст книги "Тайны веков. Книга 2"
Автор книги: Вадим Суханов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Айны, кто они?
Б. Воробьев, писатель
«Мохнатые курильцы»
«...B нынешнем, государь, в 711 году, мы, рабы твои, с Большой реки (Камчатки. – Б. В.),августа с 1-го числа, в ту Курильскую землю край Камчадальского носу ходили; и с того носу мы, рабы твои, в мелких судах и байдарах за переливами на море на островах были».
Козыревский поднимает голову от бумаги, прислушивается к шуму дождя за бревенчатыми стенами наскоро срубленной избы. Ночь. На столе горит плошка. Порывы ветра ударяют в окно, затянутое лахтачьим пузырем. В избе холодно и сыро, но Козыревский не замечает этого. Он словно бы вновь перенесся в тот день, когда вместе с Данилой и двенадцатью казаками добрался до курильской Лопатки, от которой за полосой воды, прямо на полдень, была видна скалистая земля. Погрузившись в байдары, отчалили, но вода в проливе вдруг закипела и с бешеной силой понеслась из океана в Пенжинское море. Едва успели вернуться. Устрашенные, долго еще смотрели казаки, как переливаются водяные горы, а когда море стихло, снова погребли к манящей земле. На этот раз повезло.
Оставив байдары сохнуть, пошли берегом на полдень и к вечеру увидели то ли дома, то ли чумы. Держа пищали наготове – кто знает, что там за люди, – направились к ним. Навстречу высыпало человек полсотни, одетых в шкуры. Смотрели без испуга и были облика необыкновенного – волосатые, длиннобородые, но с белыми лицами и не раскосые, как якуты и камчадалы.
Несколько дней он с Данилой через толмача склонял курильцев под государеву руку, но те отказывались от такой чести, заявляя, что никому ясак не платили и платить не будут.
Только и узнали казаки, что земля, на которую они приплыли, остров, что на полдень за ним лежат другие острова, а еще дальше – Матмай, Япония, как понял тогда Козыревский. С тем и отбыли казаки обратно в Большерецк...
Мы не утверждаем, что картина, нарисованная нами, в точности соответствует действительной, но документ, из которого взята цитата, существует. Это «записка» казачьего атамана Данилы Анцыферова и есаула Ивана Козыревского, коей они извещали Петра Первого об открытии Курильских островов и о первой встрече русских людей с аборигенами тамошних мест – айнами, прозванными казаками за свою чрезвычайную волосатость «мохнатыми курильцами».
Событие это помечено летом 1711 года. А первые сведения о Курильских островах сообщил еще в 1697 году «дальневосточный Ермак» Владимир Атласов. Правда, сам он так и не побывал на Курилах, «взыща смерть» в одной из схваток, но дело его довели до конца сподвижники.
Через 26 лет после Анцыферова и Козыревского, в 1737 году, Камчатку посетил Степан Крашенинников, ученик и соратник Ломоносова, член Российской академии наук. Он оставил после себя классический труд «Описание земли Камчатки», где, помимо других сведений, дал подробную характеристику айнов как этнического типа. Это было первым научным описанием племени.
Век спустя, в мае 1811 года, к курильским берегам пристал русский военный шлюп «Диана» под командованием знаменитого мореплавателя Василия Михайловича Головнина. Будущий адмирал в течение нескольких месяцев изучал и описывал природу островов и быт их жителей; его правдивый и красочный рассказ об увиденном высоко оценили как любители словесности, так и ученые специалисты. Отметим и такую деталь: переводчиком у Головнина служил курилец, то есть айн, Алексей. Нам неизвестно, какое имя носил он «в миру», но его судьба – один из многочисленных примеров контакта русских с курильцами, которые охотно обучались русской речи, принимали православие и вели с нашими пращурами оживленную торговлю.
Такова предыстория научного изучения этого небольшого народа.
Проблема
Айны. Загадочное племя, из-за которого учеными разных стран сломано великое множество копий. Белолицые и прямоглазые (мужчины к тому же отличаются сильной волосатостью), айны по своему внешнему облику разительно отличаются от других народов Восточной Азии. Они явно не монголоиды, скорее тяготеют к антропологическому типу Юго-Восточной Азии и Океании. Охотники и рыболовы, на протяжении веков почти не знавшие земледелия, айны тем не менее создали необычную и богатую культуру. Их орнамент, резьба и деревянная скульптура удивительны по красоте и выдумке; их песни, танцы и сказания талантливы, как всякие подлинные творения народа.
Аборигены Японских островов, южного Сахалина и Курил, айны называли себя различными племенными именами – «соя-унтара», «чувка-унтара». Слово «айну», которым их привыкли называть, вовсе не самоназвание этого народа, оно означает только «человек». Японцы называли айнов словом «эбису».
Факты культурной истории айнов многочисленны, и, казалось бы, можно с высокой степенью точности вычислить их происхождение. В самом деле: можно, во-первых, предположить, что в незапамятные времена всю северную половину главного японского острова Хонсю населяли племена, являющиеся или прямыми предками айнов, или стоящие по своей материальной культуре очень близко к ним; во-вторых, известны два элемента, которые составляли основу орнамента айнов – спираль и зигзаг; в-третьих, не подлежит сомнению, что исходным моментом айнских верований был первобытный анимизм, то есть признание существования души у любого существа или предмета; наконец, достаточно хорошо изучены общественная организация айнов и способ их производства.
Но оказывается, что метод фактов не всегда оправдывает себя. Например, доказано: спиральный орнамент никогда не был достоянием лишь айнов. Он широко применялся в искусстве жителей Новой Зеландии, маори, в декоративных рисунках папуасов Новой Гвинеи, у неолитических племен, живших в нижнем течении Амура. Что это – случайное совпадение или следы существования определенных контактов между племенами Восточной и Юго-Восточной Азии в какой-то отдаленный период? Но кто был первым, а кто перенял открытие?
Или: известно, что поклонение медведю, его культ были распространены на обширных территориях Европы и Азии. Но у айнов он резко отличен от подобных ему, существовавших у других народов, ибо только они вскармливали медвежонка грудью женщины-кормилицы! Особняком стоит и язык айнов. Одно время считалось, что он не находится в родстве ни с каким другим языком, но сейчас некоторые ученые сближают его с малайско-полинезийской группой.
Приведенные примеры говорят об одном: факты, которыми мы располагаем в отношении айнов, разнообразны, противоречивы, порой трудно объяснимы, а иногда необъяснимы вовсе.
Древние айны?
Историческая проблема, возникающая в связи с айнами, есть вопрос их культурного и расового происхождения. Следы существования этого народа обнаружены в местах неолитических стоянок на Японских Я островах. Именно там зародилась так называемая дзёмонская культура, или культура «веревочных узоров», носителей которых ныне все чаще и чаще отождествляют с древними айнами.
Начало научному изучению дзёмонских стоянок было положено немецкими археологами Ф. и Г. Зибольдами и американцем Морсом. Полученные ими результаты значительно разнились друг от друга. Если Зибольды со всей ответственностью утверждали, что дзёмонская культура – творение рук древних айнов, то Морс был осторожнее. Он не соглашался с точкой зрения своих немецких коллег, но в то же время подчеркивал, что дзёмонский период существенно отличается от японского. А что же сами японцы? Каких взглядов придерживались ученые Страны восходящего солнца? Большинство из них не соглашалось с выводами Зибольдов и Морса. Для них айны были всегда только варварами, о чем свидетельствует, например, запись японского хрониста, сделанная в 712 году:
«Когда наши возвышенные предки спустились на корабле с неба, на этом острове (Хонсю. – Б. В.)они застали несколько диких народов, среди них самыми дикими были айны».

Но вот неожиданность: вдруг выясняется, что предки этих «дикарей» задолго до появления на островах японцев создали целую культуру, которой может гордиться любой народ! Именно поэтому официальная японская историография предпринимала попытки соотнести создателей дзёмонской культуры с предками современных японцев, но никак не с айнами.
Между тем изучение дзёмонских стоянок продолжалось, накапливался солидный фактический материал, и на сегодняшний день ученые располагают довольно подробной картиной жизни «протоайнов». На некоторых деталях этого полотна мы остановимся подробнее, поскольку от них тянется нить к пониманию постепенного восхождения современных айнов по крутой лестнице исторического развития.
В археологии термин «неолитический» применяется в основном к обществам, которые полностью или в значительной мере занимаются производством пищи, а не ее собирательством. Но нет правил без исключения. Нередко в периферийных очагах неолитической культуры наряду с видимыми достижениями в обработке, скажем, орудий труда, или в ткацком мастерстве пища по-прежнему добывалась охотой и собирательством. Именно к такому типу, типу замедленного развития, относится и дзёмонская культура. Большинство специалистов утверждает, что предки айнов не были знакомы с земледелием и скотоводством, а если в более поздней фазе развития и занимались ими, то все же их значение было не столь велико, как значение охоты и рыбной ловли.
Одним из доказательств того, что дзёмонский человек интенсивно занимался собирательством, принято считать груды раковин, которые часто находят возле его стоянок. Древние айны поедали моллюсков в таком количестве, что раковины от них образовывали не просто груды – целые горы. Эти горы одновременно есть и самый характерный признак дзёмонских поселений, ранние из которых относятся, видимо, ко второму тысячелетию до новой эры. Многие из них сейчас раскопаны, а некоторые реконструированы и служат своего рода наглядными пособиями при изучении условий жизни дзёмонцев. Иногда их поселения располагались в пещерах, но в большинстве своем люди дзёмона жили в постройках, где пол находился ниже уровня земли. Это так называемые полуземлянки, которые строили, например, в Северном Китае на протяжении всего неолита. До сих пор не найдено никакого удовлетворительного объяснения, почему дзёмонцы вкапывали свои жилища в землю. Предположение, что это делалось с целью увеличить высоту жилья, кажется нам чересчур шатким. Поднять потолок можно было с помощью других, доступных в то время приемов.
Что представляли собой жилища дзёмонцев? Все они, или почти все, имеют форму круга или прямоугольника. Расположение столбов, подпиравших крышу, указывает на то, что она была конической, если основой постройки являлся круг, или пирамидальной – когда в основе располагался четырехугольник. Во время раскопок не найдены материалы, которыми могла бы покрываться крыша, поэтому можно лишь предполагать, что для этой цели использовались ветки или тростник. Очаг, как правило, располагался в самом доме (только в раннем периоде он находился снаружи) – вблизи стены или посредине. Дым выходил через дымовые отверстия, которые делались на двух противоположных сторонах крыши. Очаг чаще всего вкапывали в пол и обкладывали крупными камнями. Позднее дзёмонские дома отошли от типа полуземлянок – их пол располагался уже на уровне земли и был вымощен камнем. Трудно сказать, сколько человек обитало в обычном дзёмонском доме. Во время одних раскопок обнаружена хижина с останками пяти людей, погибших, как предполагают, от несчастного случая, но эта находка не вносит никакой ясности в вопрос, поскольку неизвестно, действительно ли все погибшие жили вместе.
Орудия и оружие дзёмонцев были весьма похожи на те, которыми пользовались и другие сообщества предысторических людей, живших в аналогичных климатических и географических условиях. Правда, дзёмонцы обладали одним существенным преимуществом – у них был обсидиан, которым богаты Японские острова. При обработке обсидиана грани получались более гладкими, чем у кремня, так что наконечники стрел и топоры дзёмонцев можно отнести к шедеврам неолитического производства. Топор, кстати, и был основным орудием дзёмонского человека. Его использовали и по своему прямому назначению, и, вероятно, для рытья земли. Из других орудий важное место отводится скребку для обработки кож и коры деревьев.
Из оружия незаменимы были лук и стрелы. Стрелы, как предполагают, были отравленными (айны и позднее употребляли для этой цели молотый корень одного из видов полыни). Высокого развития достигало производство гарпунов и удочек, изготовлявшихся из оленьих рогов. Словом, и орудия и оружие дзёмонцев типичны для своего времени, и несколько неожиданно лишь то, что люди, не знавшие ни земледелия, ни скотоводства, жили довольно многочисленными сообществами.
Однако настало время подробнее объяснить происхождение слов «дзёмон», «дзёмонцы», «дзёмонская культура», которые мы неоднократно употребляли в тексте, не вскрывая, однако, связи между ними и тем, почему целый пласт общечеловеческой культуры носит такое название. А связь существует, ибо термин «дзёмон» в дословном переводе с японского означает «веревочный узор». Именно от узора, которым дзёмонцы украшали свою керамику, они и получили это название, поскольку узор наносился с помощью обыкновенной веревки. И что удивительно – нет никаких доказательств употребления дзёмонскими гончарами какого-либо приспособления для верчения посуды, а тем более гончарного круга. Все делалось вручную! И все же керамике дзёмона отводится особое место в примитивной керамике вообще – нигде контраст между отполированностью ее орнамента и крайне низкой «технологией» не выглядит разительнее, чем здесь.
Вообще достойно восхищения, что собиратели и охотники достигли таких высот в искусстве. Уже отмечалось, что их фольклор, резьба и скульптура, мелодии и танцы необычайно красочны и своеобразны. А орнамент, которым они украшали и посуду, и ткани, и резьбу, позволил ученым выдвинуть хотя бы частично обоснованную гипотезу о происхождении айнов. Сейчас многие склоняются к тому, что они – потомки древних племен, родственных австралийцам и меланезийцам. Вот что пишет по этому поводу академик А. П. Окладников: «Одним из веских доводов в пользу такого утверждения послужила орнаментика современных айнов и древнего населения Японских островов, в основе которой лежит кривая линия, конкретно – спираль».
Итак, спираль. Произвольно, случайно ли ее начертание у айнов? Нет. Оказывается, спираль, как, впрочем, и второй элемент айнской орнаментики – зигзаг, есть не что иное, как изображение змей. И восходит эта символика к глубокой древности, к айнской мифологии, в которой рассказывается о небесном змее, спустившемся на землю в сопровождении своей возлюбленной, богини огня.
Мы говорили, что основой религиозных воззрений древних айнов был первобытный анимизм. Небольшие антропоморфные фигурки, которые с самых что ни на есть ранних времен укладывались в могилы дзёмонцев, ясно указывают на веру в существование некоего божества в человеческом облике. Поначалу это были очень простые изделия с четко означенной головой, телом и руками, но без признаков пола. По мере развития дзёмонского общества фигурки моделировались яснее, приобретали все более развитые формы, а грудь их указывала на то, что изображения принадлежат особе женского пола. Предполагают, что они символизировали мать богов. Такая вера могла, вероятно, возникнуть в обществе, еще не порвавшем с матриархатом. Может быть, подобная организация, в которой племенные и личные связи основывались по женской линии, хоть власть и принадлежала мужчинам, существовала у дзёмонцев. Кажется, здесь нет ничего необычного, и все-таки загадка существует. Поклонение женскому божеству, знаменующему плодородие, было распространено у западных земледельческих племен. Странно, что такой же культ приняли дзёмонцы, еще не занимающиеся обработкой земли.
Современные айны
Жизнь современных айнов разительно напоминает картину жизни древних дзёмонцев. Их материальная культура на протяжении минувших столетий изменилась столь незначительно, что эти изменения могут не приниматься в расчет. На Курильских островах айны до конца XIX века жили в полуземлянках дзёмонского типа. В самой Японии они их больше не строят, но архитектура айнов и сегодня отличается от японской, а дома обладают одной общей чертой с хижинами дзёмонов – они опираются на столбы, тогда как постройки японцев поставлены на прямоугольную раму, положенную на землю. Сохранили айны и пирамидальную форму крыши. Эти различия хотя и незначительны, но явно обозначают традицию и не могут быть объяснены лишь различиями в уровне строительного мастерства.
Айнов осталось немного. В 1920 году их насчитывалось около 17 тысяч, из которых большая часть жила на Хоккайдо.
Айны и теперь очень религиозны. Традиции анимизма у них по-прежнему главенствуют, и айнский пантеон состоит в основном из «камуи» – духов различных животных, среди которых особое место занимают медведь и касатка. Особняком стоит Айойна, культурный герой, создатель и учитель айнов. Немалую роль играет культ змеи, связанный с женским божеством солнца, а также другое женское божество – «унти-камуи», богиня очага, к которой в отличие от других божеств можно обращаться непосредственно.
Обрядность айнов сложна; особое место в ней занимают так называемые «инау». Под этим названием понимаются самые различные предметы, которые практически невозможно объединить общим происхождением. Скорее всего им в разных случаях подходят разные объяснения. Большинство «инау» антропоморфны и украшены пучками длинных стружек. Ученые рассматривают «инау» как посредников, которые «помогают» айнам общаться с богами.
Наибольший интерес в айнской обрядности вызывает «медвежий праздник». Подобное событие случалось нечасто, и предназначенный для обряда медведь воспитывался с крохотной поры в деревянной клетке и вскармливался, как уже говорилось, грудью женщины. Жертвоприношение совершалось особым образом – медведя удушали между двумя деревянными плахами. Затем тушу свежевали, приготовляли жаркое, и все принимались за трапезу. Происходила она очень торжественно, все присутствующие восславляли медведя и всячески извинялись перед ним в следующей форме: если б его душа не была высвобождена из тела, разве она могла бы отойти вестником к богам, объяснить им, как преданы им айны и как они заслуживают их защиты?
Таковы айны нового времени; к началу новой эры их культура находилась на неолитической стадии развития, но все же была настолько жизнеспособна, что оказала влияние на культуру своих поработителей – японцев. Как указывает советский ученый С. А. Арутюнов, айнские элементы сыграли существенную роль в формировании самурайства и древней японской религии – синтоизма.
Суммируя сказанное,
мы воздержимся от каких-либо конкретных выводов. Литература об айнах обширна, но разбросана по разным источникам, и эти знания еще требуют своего обобщения. На сегодняшний день неопровержим лишь факт существования самих айнов. Но:
1. Были ли древние дзёмонцы прямыми предками айнов?
2. Какие узы связывали некогда айнов с племенами южных морей, австралийцами и меланезийцами?
3. Где начало и где конец той спирали, которой айны орнаментировали свои декорации и границы которой пролегали от островов Океании на юге и до урочища Сакачи-Алян в нижнем течении Амура, где уже в наши дни открыты петроглифы, содержащие и зигзаг и спираль?
Словом, мы повторим ту сакраментальную фразу, с которой начали свой рассказ:
Айны – кто они?..

Прибытие единственного инка
В. Казаков, писатель
...по желтому знаку в небе все узнали о прибытии Единственного Инка.
Из перуанской легенды
Чимпа лежал на вытертой шкуре ламы у самого выхода из пещеры и поглаживал перья Могучего Ру. Ветерок лениво шевелил языки костра, обдувал теплом человека и птицу. Внутри пещеры в серых сухих сумерках жевала траву и ободранные кактусы лама. Иногда на ее шее серебряным звоном вздрагивал колоколец.
Ру, крупный, сизо-черный орел, от прикосновения сильных пальцев юноши чуть пружинил на полусогнутых лапах. Глядя в темные и глубокие, как горные расщелины, глаза Чимпы своими мутноватыми, подернутыми голубоватой пленкой зрачками, Ру открывал клюв, выпрашивая подачку.
Из кожаного мешочка Чимпа достал кусочек сушеного мяса, на ладони поднес к затупленному носу Ру – резкий стремительный клевок, и мясо исчезло в глотке орла. И все-таки Чимпа почувствовал неуверенность клевка. Клюв коснулся руки. Притупилось зрение Ру, не так мгновенно и точно срабатывали мышцы.
«Сколько лет птице?» – подумал юноша.
Вырастил и натаскал Ру-поводыря Верховный жрец Храма Орлов Манко Амару, когда еще не имел сына. Теперь ему девяносто. Он почти не поднимается с возвышения из мягких шкур и оттуда учит молодых жрецов, готовит их к посвящению в сан Орлов. Чимпа слышит надтреснутый, тонкий голосок белого Манко Амару, и улыбка растягивает его толстые губы: жрец был всегда добр к Чимпе и быстро отличил его. Чимпа уже третий год носит сан Сына Орла «Парящего высоко».
Сейчас Единственный Инк в длительном плавании, и Чимпа с маленьким отрядом воинов и рабов ждет его парусные суда здесь, на скальной площадке отрога Анд, глядящего в море. На склоне отрога выбит яркий белый знак в виде трезубца. Ждет, чтобы, увидев первым, оповестить всех инков о благополучном возвращении правителя.
Размышляя, Чимпа кормил орла, поглаживал, чистил его оперение. Вот одно перышко вылезло из хвоста. «Да, стареет Могучий Ру!» Чимпа, повертев перо в пальцах, надломил его. Потом расщепил крепкими желтоватыми ногтями вдоль. Снова в его ушах зазвучал тонкий голос мудрого Манко Амару: «...юноши, посмотрите внимательно, как Великая Природа сделала легкую пушистую косточку крыла рожденных для полета?!»
И сейчас уже прошедший науку Чимпа дивился этому чуду. Перо легчайшее, а его не сломаешь. Твердый стержень обеспечивает жесткость там, где требуется поддержка, но ближе к кончику он становится упругим, как того требует полет. От стержня отходят бородки, они несут множество ответвляющихся в обе стороны маленьких бородочек, которые переплетаются с совеем уже крохотными, обеспечивающими прочность. На одном-единственном пере великое множество бородочек, их ответвлений и крючочков.
Отбросив в сторону перышко, Чимпа взялся за крыло Могучего Ру, расправил его. Форма крыла походила на сделанные жрецами-строителями крылья «обезьян» и «крокодилов»: плотное и тупое по ведущему краю, оно сужалось к концу, не встречающему ветер.
На маленьких «обезьянах», хоть они и прыгали в восходящих потоках так, что мутило в животе, Чимпа любил летать больше. Они сразу набирали силу для полета, и для них требовалась только одна быстроногая лама. А большие широкие крылья грузовых «крокодилов» обтянуты тканью, такой же, как на головной повязке Чимпы, и пропитаны желчью животных. Они гудят, как кожа барабанов, и долго плохо пахнут. «Обезьяны» уходят в небо сразу, а «крокодилу» нужен длинный разгон по земле, иногда ему даже не хватает площадки, и ламы, тянущие его, срываются вниз с крутого склона, ломают ноги. Зато в небе «крокодил» устойчив и парит ровно, как Могучий Ру.
...Снаружи в пещеру ворвался сильный гортанный крик, скорее вопль торжества. За спиной Чимпы всхрапнула лама. Он легко вскочил на ноги. Его коренастая невысокая фигура выросла в проеме каменного убежища. Смуглый, прикрытый только набедренной повязкой, юноша вытянулся струной и посмотрел в сторону моря.
От горизонта к склону Анд со знаком трезубца плыли под парусами деревянные скорлупки. Они медленно приближались, и терпеливый Чимпа на одном из парусов разглядел красный знак Единственного Инка.
Чимпа отдал несколько коротких приказаний, сопровождая их резкими жестами – серебряные украшения звенели на его руках.
Два воина-инка в легких тканевых плащах, с бронзовыми короткими мечами на бедрах выскочили из-за скалы и побежали к легкокрылой «обезьяне», окрашенной в яркий желтый цвет молодого солнца. Отсоединили ременные тяги от валунов, и «обезьяна» легла на крыло. На вздернутый конец крыла спланировал Могучий Ру. В возбуждении он дважды хлопнул полутораметровыми опахалами.
Один из рабов вывел из пещеры лохматую ламу в несложной сбруе. За ней тянулся искусно сплетенный в многочисленные кольца сыромятный конец длиною в двадцать шагов. Конец присоединили к носу «обезьяны» за клык внизу, и лама натянула ремень. Воины схватили «обезьяну» за концы крыльев.
Совершив ритуал поклонения Солнцу, Чимпа залез в круглое отверстие корзины, сплетенной в виде капли и жестко прикрепленной к крыльям. Он уселся на тростниковую скамеечку, положил руки на часть поперечного шеста, пронизывающего крыло из конца в конец. Внимательно осмотрелся. Справа и слева желто отблескивали крашеными птичьими перьями недлинные полуовальные крылья. Он двинул шест вправо – гибкая задняя часть на конце пошевелилась. Двинул шест вперед – эластичный хвост, похожий на хвост Ру, загнулся вниз.
Свист Чимпы спугнул Могучего Ру.
Подстегнутая бичом, рванулась вперед лама.
Воины недолго держали «обезьяну» – кольца сыромятного ремня вытянулись в ровную линию.
Отпущенная «обезьяна» рванулась с места, проскользила по камням и приняла под крылья волну встречного упругого ветра.
Конец буксирного ремня упал с клыка.
Чимпа сразу же почувствовал, как неведомая сила подняла, подхватила его и потащила вверх над крутым склоном. Струя воздуха трепала красную кисточку головной повязки, но в глаза ветер не бил, его отсекала гладкая дощечка на носу «обезьяны».
Земля уплывала, скорлупки в море «теряли» паруса.
Но вот Чимпу потянуло вниз, да так резко, что он оторвался немного от сиденья. Он поискал в небе глазами и увидел Могучего Ру. Тот парил в стороне. Осторожно повернув «обезьяну», Чимпа стал приближаться к нему. Орел не подвел и на этот раз – найденный им поток вознес «обезьяну».
Чимпа уходил от склона со знаком трезубца, держа нос «обезьяны» в направлении белой земной линии, ведущей к плоскогорью Наска, где ждал вести мудрый жрец Манко Амару. Юноша, хоть и имел звание «Парящего высоко», почувствовал легкое удушье. Значит, им достигнута предельная для летающего инка высота. И он толкнул немного от себя шест управления. Ветер около головы засвистел веселее.
Могучий Ру-поводырь, распластавшись в небе, парил впереди, иногда отклоняясь немного в стороны. Если Ру взмахивал крыльями, Чимпа туда не шел. Чаще всего в этих местах на земле виднелись рисунки пляшущих существ.
Любуясь полетом старого Ру, Чимпа знал: ярко-желтую «обезьяну» видит сейчас все живое в Андах. Племена квичуа, аймара и другие помнят о небесном знаке прибытия Единственного Инка Тупака Юнаки из большого морского похода и поспешат навстречу властелину...
Вдруг парение Могучего Ру стало неуверенным. Он тяжело хлопнул крыльями в хорошем восходящем потоке, стараясь не провалиться ниже Чимпы. Сын Орла почувствовал сердцем, как тяжело старому Ру.
Вот птица поравнялась с правым крылом «обезьяны». Орел несся рядом с Чимпой, поджав лапы, вытянув стремительную кривоклювую голову, распустив хвост, и косил взглядом на человека. Тоскливым взглядом уставшей, загнанной птицы.
– Садись, Ру! – крикнул на все небо Чимпа. – Я все знаю здесь, Ру, я долечу, садись на скалы, отдохни!
Но Ру был хоть и старым, но верным поводырем. Взмахнув крыльями, он снова повел небесную гонку...
Впереди уже виднелось плато Наска, различались 3 посадочные полосы, знаки стоянок и стартов, места сборки «обезьян» и «крокодилов», сложенный из белых плит маленький храм Орла.
Могучий Ру недалеко обогнал Чимпу. Последним усилием он оттолкнулся крыльями, взмыл и сложил ослабевшие опахала.
Сначала Ру падал тяжелым камнем, потом завертелся спиралью – крылья его растрепались, и злой ветер вырвал из них несколько перьев. Тело старого Ру неслышно принял на себя острый скальный выступ.
Орлы-поводыри не умирают в гнездах и пещерах. ) Они покидают друзей только мертвыми...
Племена горного Перу узнали о гибели Единственного Инка. Они видели сигнальную желтую «обезьяну» в сером небе. Но только Сын Орла «Парящий высоко» видел смерть верного Могучего Ру. И никто не видел слез на глазах Чимпы. Их высушило небо...