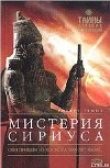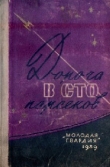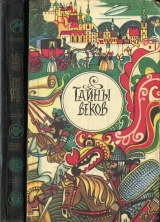
Текст книги "Тайны веков. Книга 2"
Автор книги: Вадим Суханов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Балтика оказалась тесной для авианосца
Г. Смирнов, морской инженер
Для того чтобы правильно оценить идеи Л. Мациевича и проект М. Канокотина, необходимо ясно представлять себе особенности развития авианосцев. Вообще говоря, свойства и качества любого класса боевых кораблей полностью зависят от того оружия, для которого корабли предназначены. Например, появление линкоров связано с появлением артиллерии, а изобретение миноносцев – с изобретением минно-торпедного оружия.
На первый взгляд может показаться, что и авианосцы не исключение из этого правила, ибо они появились после того, как были созданы самолеты. Но тут есть существенное различие. Назначение снаряда или торпеды однозначно и неизменно: проникнуть внутрь вражеского корабля и там взорваться. Других назначений у них нет. Снаряд или торпеду нельзя послать в разведку; точно так же нельзя их использовать для охраны корабля от вражеских снарядов и торпед. Иное дело самолет. Он и в разведку слетает, и защитит корабль от самолетов противника, и разбомбит любую цель.
Теперь ни для кого не секрет, что авианосец только тогда может претендовать на главную роль во флоте, когда несет на своем борту самолеты-бомбардировщики или самолеты-торпедоносцы. А между тем первым военным применением самолета была разведка. Несколько позже появились истребители. Лишь в ходе первой мировой войны были созданы бомбардировщики. Вот почему все ранние проекты авианосцев предназначались для самолетов-разведчиков или самолетов-истребителей. Вот в чем секрет того парадокса, что новый класс боевых кораблей появился раньше, чем предназначенное для него грозное оружие.
О том, насколько далеки были военно-морские специалисты от понимания грядущих перемен в составе мировых флотов, свидетельствуют дискуссии и статьи тех лет. В 1913 году, буквально накануне войны, в одном из русских морских изданий так обосновывалась полная невозможность для самолета сражаться с кораблем: «При выстреле из орудия крупного калибра... вокруг орудия и вдоль пути снаряда образуются сильные вихревые движения воздуха. Аэроплан, попавший в такой вихрь, вряд ли сможет удержать свое равновесие, – ведь известно, как опасны для аэроплана неожиданные удары ветра; таким образом... для аэроплана будут опасны не только попавшие в него снаряды, но и пролетающие мимо него на близком расстоянии».
Практика показала, однако, что самолетам не так уж страшны «вихревые движения воздуха», образующиеся «вокруг орудия и вдоль пути снаряда». И хотя за все время войны на корабли было сброшено с самолетов всего 800 тонн бомб, даже этот ничтожный опыт оказался весьма многозначительным для тех, кто мог его правильно оценить.
«...Воздушная армия... может перевезти при каждом полете 1500 т бомб, – писал в 1928 году итальянский генерал Дуэ. – Английский флот, произведя... один залп, может выбросить около 200 т снарядов. Но в то время как английский флот может выпустить свои залпы лишь по другому флоту, обладающему способностью противодействия... воздушный флот может сбросить свои бомбы в любой пункт на суше или на морских пространствах противника... В то время как английский флот должен выбросить много стали и мало взрывчатых веществ, воздушная армия может сбросить много взрывчатых веществ и очень мало стали. Воздушная армия такого рода превзошла бы наступательную мощь английского флота, даже если бы последний мог летать».
Так в ряде стран начала вызревать идея ударного авианосца. Но сила традиций была столь велика, что никто не принимал эти корабли за основную ударную силу флота. Тем более ошеломляющим был эффект, который произвели авианосцы в первых же сражениях второй мировой войны. Лишь этим ошеломлением можно объяснить несколько поспешное провозглашение заката линейного флота, которому якобы пришел на смену флот авианосный. Конечно, цифры, приведенные в статье П. Веселова, убедительны: из 20 линкоров 13 действительно были потоплены авиацией. Однако нельзя забывать, что в большинстве случаев экипажи линкоров были либо захвачены врасплох, либо деморализованы подавляющим превосходством противника в воздухе при недостаточности собственных средств противовоздушной обороны. А если авиация сталкивалась с линкором на равных, тот выходил победителем. В 1942 году 33 японских самолета атаковали американский корабль «Саут Дакота». И что же? Шквал огня буквально разломал в воздухе 32 нападавших самолета. Думается, что в этом вопросе глубоко прав известный советский историк кораблестроения Н. Залесский. «...Создание линейного корабля, неуязвимого для самолетов, – пишет он, – задача трудная, но в принципе, вероятно, возможная. Следовательно, можно ли сказать, что „исчезновение“ класса линейных кораблей из состава современных флотов явилось следствием развития авиации? Вряд ли. Скорее в этом сыграло свою роль атомное и ракетное оружие».
С учетом всего сказанного и следует подходить к оценке проекта М. Канокотина и идей Л. Мациевича. Из найденных П. Веселовым документов явствует, что Канокотин находился на уровне представлений своего времени, поэтично выраженных русским полковником Гатовским: «Воздушный разведчик подобен орлу без когтей: быстро и высоко проносясь над противником, пронизывая его зорким оком своим, он не может овладеть своей добычей, захватить ее когтями». По всей видимости, Мациевич имел в виду создать корабль для «орлов с когтями». Находясь в гуще русской авиационной жизни, он, конечно, знал об опытах на Ходынском поле, а может быть, и принимал в них участие. Здесь раньше, чем где-либо, были успешно проведены опыты бомбометания с самолетов по вычерченному на земле в натуральную величину контуру линкора.
Если новый класс боевых кораблей рождается вследствие появления нового оружия или новых задач, то дальнейшая его эволюция оказывается теснейшим образом связанной с техническим совершенством самого оружия. Думается, что секрет забвения идей наших соотечественников кроется в необычайно быстром совершенствовании авиационной техники. Поскольку в 1908—1909 годах тактико-технические данные аэропланов – в частности, дальность полета – были очень невелики, подвижный аэродром позволял самолетам появляться над любой точкой Балтийского моря. Но уже через два-три года дальность полета увеличилась так сильно, что авианосец на Балтике утратил всякий смысл, достаточно было береговых аэродромов. Вот почему даже при благоприятном отношении морского ведомства проект авианосца через несколько лет попал в архив. И вот почему через 10– 15 лет страны, не планирующие боевых операций в океанах, тоже отказались от постройки авианосцев.
Все это нисколько не умаляет заслуг наших соотечественников, которые раньше всех правильно наметили и интересно решили ряд технических проблем, связанных с созданием авианосца.

«Взрыв, который вызвал войну»
И. Боечин, журналист
До недавнего времени американская пропаганда утверждала, что агрессию Соединенных Штатов против Демократической Республики Вьетнам вызвал так называемый Тонкинский инцидент 1963 года. Однажды ночью радиолокационные станции двух американских эсминцев, патрулировавших в Тонкинском заливе, недалеко от побережья ДРВ, заметили небольшие быстроходные военные корабли, национальную принадлежность которых установить не удалось. Тем на менее оба эсминца открыли огонь, хотя никто из них не нападал.
Утром командиры кораблей, как и положено, сообщили своему начальству о ночном происшествии. Они не знали, что правительству США этого оказалось вполне достаточно, чтобы, обвинив ДРВ в «агрессии», бросить на ее города и деревни десятки истребителей и бомбардировщиков.
Официальная американская версия начала необъявленной войны против ДРВ у многих вызывала сомнения; некоторые западные обозреватели резонно предполагали, что правительству нужен был только повод, чтобы начать «на законном основании» то, к чему оно давно готовилось. Недавние публикации секретных документов Пентагона только подтвердили это предположение. Выяснилось, что США, готовя нападение на ДРВ, тщательно готовили и подходящий для этого предлог. Так появился «инцидент в Тонкинском заливе».
В истории уже не раз случалось так, что агрессивные войны начинались с заранее подготовленной военной или политической провокации. Где-то в начале длинного перечня инцидентов, подобных Тонкинскому, значится загадочная гибель в кубинском порту американского броненосного крейсера «Мэн» 15 февраля 1898 года.
Трагическая случайность или диверсия?
Утром 15 февраля 1898 года над столицей Кубы Гаваной прокатился раскатистый гул взрыва. Те, кто в это время был на набережной, увидели, как над носовой частью двухтрубного военного корабля сверкнула яркая вспышка и тотчас он окутался густыми клубами черного дыма. Через несколько минут корабль исчез под водой. Так погиб американский броненосный крейсер «Мэн», который десять дней назад пришел в Гавану с визитом дружбы.
К месту катастрофы немедленно бросились шлюпки испанского крейсера «Альфонсо XII». Губернатор Кубы генерал Бланко, адмирал Монтероль и моряки постарались сделать все возможное, чтобы помочь немногим уцелевшим с «Мэна».
Вскоре стали известны и некоторые подробности катастрофы. По словам капитана Сигби, командира крейсера, катастрофа произошла совершенно неожиданно. В 9 часов 40 минут, когда часть команды еще спала, крейсер вздрогнул от необычайно сильного взрыва в носовой части, приподнялся, потом тяжело осел в воду и затонул. Сам Сигби при взрыве был ранен в голову, но до последних минут своего корабля пытался спасти если не его, то хотя бы команду. Однако усилия капитана оказались тщетны: «Мэн», обращенный в груду изуродованных развалин, увлек за собой на дно бухты 266 из 360 моряков – три четверти экипажа.
Каковы же были причины катастрофы?
По мнению испанцев, «Мэн» погиб от внутреннего взрыва в носовом погребе боезапаса. Причину взрыва можно было установить, обследовав обломки погибшего корабля. «Мэн» лежал на небольшой глубине и сделать это было сравнительно легко.
Иначе считали в Соединенных Штатах Америки.
Не запросив разрешения Испании, чьей колонией в то время была Куба, в Гавану отправили специальную следственную комиссию, состоявшую из четырех американских морских офицеров. 19 февраля комиссия приступила к работе.
Мадриду не понравилось столь бесцеремонное поведение северного соседа, и 25 февраля кубинский губернатор Бланко заявил консулу США в Гаване Ли официальный протест. Одновременно испанцы предложили Штатам разумный, по их мнению, компромисс: создать для расследования катастрофы смешанную испано-американскую комиссию. Однако предложение Бланко было отклонено, притом в довольно невежливой форме.
Пока четверо американцев обследовали обломки «Мэна», в США подозрительно быстро, если не сказать – организованно, вспыхнула ярая антииспанская кампания, недвусмысленно призывавшая американцев к войне с Испанией.
«Военный корабль „Мэн“ расколот секретной адской машиной врага», «„Мэн“ предательски разрушен», – надрывалась газета «Джорнэл», а «Уорлд» откровенно требовала от правительства новых шагов: «Разрушение „Мэна“ должно быть основанием для приказа нашему флоту отплыть в Гавану!»
Газетам вторил заместитель морского министра США Теодор Рузвельт – горячий сторонник войны с Испанией и будущий президент США, творец доктрины «большой дубинки»: «Я бы дал все, чтобы президент Мак-Кинли отдал бы флоту приказ идти завтра в Гавану».
Печать, государственные и политические деятели США неустанно призывали «среднего» американца к войне, упорно вдалбливая ему в голову зловещий призыв: «Помни о „Мэне“!»
Правительство США, торопя события, ассигновало 50 миллионов долларов на нужды «национальной обороны», у военной промышленности резко возросли заказы – Соединенные Штаты открыто готовились к войне.
Тем временем закончила работу американская следственная комиссия и 21 марта опубликовала свой отчет. Судя по материалам расследования, «Мэн» погиб от взрыва подводной мины или торпеды. Хотя комиссия и не называла виновников катастрофы, но пропагандистская машина уже успела сделать свое: каждому американцу было ясно, что во всем повинны испанцы. Версию США повторила пресса многих стран. Некоторые издания осторожно выражали сомнения в том, что «Мэн» погиб от диверсии. Вот что писал русский журнал «Вокруг света»: «Три недели назад на рейде Гаваны взлетел на воздух пришедший туда североамериканский броненосец „Мэн“. Причина взрыва – одна из торпед, опущенная испанцами в воду для защиты гавани». Концовка сообщения явно отрицает умышленный характер катастрофы.

Естественно, испанская сторона категорически не согласилась с выводами американских экспертов и создала свою комиссию, однако американцы даже не разрешили ей осмотреть обломки «Мэна». Испанцам пришлось ограничиться опросом свидетелей взрыва. Восстановив таким образом ход катастрофы, они сделали вывод, что вопреки версии США взрыв 15 февраля был внутренним. Результаты своей работы испанская комиссия опубликовала 28 марта.
Тем временем президент Мак-Кинли обратился к конгрессу с очередным посланием, в котором заявил: «Потеря „Мэна“ ни в коем отношении не была результатом небрежности со стороны офицеров или членов команды указанного корабля. Корабль был разрушен взрывом подводной мины, который вызвал взрыв двух... передних складов боеприпасов».
Мак-Кинли не назвал испанцев виновниками катастрофы, но всю ответственность за нее возложил на Мадрид, мотивируя это тем, что «Мэн» погиб в территориальных водах Испании.
Со столь скоропалительными выводами многие не согласились. В частности, авторитетный русский «Морской сборник» напомнил читателям некоторые факты, частично подтверждающие испанскую версию, – два года назад в угольных ямах американских крейсеров «Цинциннати» и «Нью-Йорк» самопроизвольно вспыхнул брикетный уголь. Пожар угрожал погребам боезапаса. Катастрофу удалось предотвратить буквально чудом, затопив в последний момент погреб забортной водой. По мнению «Морского сборника», такой же пожар на «Мэне» мог вызвать и роковой для него взрыв в носовом погребе.
Ультиматум
Но в Соединенных Штатах упорно не хотели слышать ничего, что помешало бы готовящейся агрессии. Правительство ответило своему президенту открытым призывом к войне, правда слегка прикрытым лицемерными рассуждениями нравственного и религиозного толка: «Невозможно дольше терпеть ужасающее положение вещей, в течение трех с половиной лет господствующее на Кубе. Оно возмущает нравственное чувство американского народа, является позором для христианской цивилизации и завершилось гибелью федерального военного судна „Мэн“ с 266 лицами его экипажа во время дружественного посещения гаванской бухты».
Убедившись в полной поддержке правительства, Мак-Кинли заявил 11 апреля: «Интервенция есть наш особый долг, поскольку все это совершается у наших границ». Президент оправдывал войну интересами безопасности Соединенных Штатов, которым, само собой разумеется, никто не угрожал...
20 апреля американский посол Вудфорд предъявил Мадриду ультиматум: Соединенные Штаты требовали, чтобы Испания отказалась от Кубы и вывела из ее района свою армию и флот.
Срок ультиматума истекал 23 апреля, но уже за день до этого американская эскадра адмирала Симпсона вышла из Ки-Уэста, чтобы блокировать кубинские воды, а на следующий день эскадра адмирала Дьюи отправилась к Филиппинам. Не раздумывая, президент США сделал еще один решительный шаг – объявил о призыве в армию 25 тысяч добровольцев. Не дожидаясь ответа Испании, США практически начали войну...
Испано-американская война – первая война эпохи империализма, война за передел мира, закончилась внушительной победой США. Отсталая, полуфеодальная Испания была вынуждена отказаться от Филиппин и своих владений в Вест-Индии.
Куба на долгие годы превратилась в полуколонию США, пока не стала свободной в результате национально-освободительного восстания, которым руководил Фидель Кастро.
Испания потеряла в этой войне почти все, чем владела, – и колонии, и военно-морской флот. Потери Соединенных Штатов были неизмеримо меньше. Победная война как-то быстро стерла из памяти американцев взрыв «Мэна», в результате которого погибли 266 моряков. Осталась нераскрытой и тайна гибели корабля.
Кому выгодно?
Этот традиционный вопрос юристов Древнего Рима поможет нам несколько приподнять завесу таинственного над взрывом 15 февраля 1898 года. В самом деле: кому?
Конечно, не морякам «Мэна». Кстати сказать, позже установили, что в котельном отделении и угольных ямах погибшего крейсера не было вообще никакого пожара и что тем не менее взрыв произошел внутри корабля.
Быть может, Испания жаждала вступить в военный конфликт с Соединенными Штатами Америки? Скорее всего нет. К концу XIX века она растеряла остатки былого могущества. В довершение ко всему ее армия вот уже несколько лет пыталась усмирить кубинских повстанцев, которые мужественно сражались за свою независимость. Методы борьбы карателей с повстанцами привели Испанию к политической изоляции. В заокеанских владениях Испании, разбросанных на островах Вест-Индии, находилась измотанная постоянными боями с кубинцами 90-тысячная армия, против которой Соединенные Штаты выставили 170 тысяч вооруженных до зубов вояк...
Содержание колоний, как правило, требует и содержания большого военно-морского флота для охраны океанских путей в метрополии. Испанский же флот в описываемые времена был настолько слаб, что не представлял для американских кораблей сколько-нибудь серьезной угрозы.
О боеспособности испанской армии и флота лучше всего говорит почти анекдотический эпизод «захвата» американцами Гуама. Едва только крейсер «Чарльстон» выпустил по фортам Гуама первые семь снарядов, как губернатор отправил на его борт своего офицера с извинениями за то, что он не может ответить «Чарльстону» салютом из-за отсутствия пороха на береговых батареях! Американцы, конечно, приняли его извинения, добавив, что в подобных почестях нет необходимости, поскольку губернатор и его подчиненные отныне могут считать себя военнопленными.
Естественно, что в таких условиях Испания не только не помышляла о войне с Соединенными Штатами, но, больше того, стремилась всеми силами уладить конфликт мирным путем. Но этого-то меньше всего хотели США.
Короткая американская война за «испанское наследство» имела долгую предысторию: Соединенные Штаты начали готовиться к ней за несколько лет до взрыва «Мэна».
Еще в феврале 1895 года, одновременно с началом восстания на Кубе, США начали мощную антииспанскую пропагандистскую кампанию. Формальным поводом для нее послужили жестокости карателей в борьбе с кубинскими повстанцами. На самом деле американские капиталисты и мысли не допускали о свободной и независимой Кубе. Им нужна была другая Куба – поставщик дешевого сахара и табака, удобная военно-морская база, контролирующая Карибское море и подходы к Панамскому каналу.
Еще президент Кливленд «прощупывал» испанское правительство на предмет купли-продажи Кубы, но получил категорический отказ. И тогда Штаты начали готовиться к войне. 6 декабря 1897 года, за два месяца до взрыва «Мэна», Мак-Кинли в послании к конгрессу заявил: «Если впоследствии окажется, что наши обязательства перед самими собой, перед цивилизацией и человечеством потребуют от нас применить силу, то это не будет поставлено нам в упрек, поскольку необходимость таких действий будет настолько очевидна, что вызовет поддержку и одобрение цивилизованного мира».
Ссылки на «обязательства» перед «цивилизованным» (а в наши дни – перед «свободным») миром использовались американской пропагандой восемьдесят лет назад так же, как они используются и теперь, причем появляются они, как правило, когда США не могут найти лучшего предлога для объяснения своей агрессивной политики.
Антииспанская кампания в США принимала самые разнообразные формы – от призывов к войне до сбора средств для бедствующего населения Кубы.
Тем временем на Кубе произошло событие, которое сразу же использовали в своих интересах США. 12 января 1898 года пять тысяч сторонников испанского колониализма устроили на острове демонстрацию. Она не оказала сколько-нибудь заметного воздействия на события на острове, но Соединенные Штаты среагировали на нее молниеносно – объявили демонстрацию «угрозой» в свой адрес и отправили к берегам Кубы отряд военных кораблей: «Нью-Йорк», «Индиану», «Массачусетс» и «Айову».
Америка была готова к войне. Оставалось только найти повод.
24 января морской министр США объявил о предстоящем визите на Кубу броненосного крейсера «Мэн». Американцы настолько торопили события, что не стали ждать официального согласия испанского правительства на этот «дружественный» визит. 25 января форт Морро в Гаване салютовал «Мэну», медленно входившему в бухту. Единственное, что оставалось испанскому правительству, – позаботиться, хотя бы внешне, о престиже. Через два дня Мадрид неохотно объявил об ответном визите, и испанский крейсер «Бискайя» отправился в Нью-Йорк.
Не прошло и двух недель, как «Мэн» погиб на рейде Гаваны от загадочного взрыва.