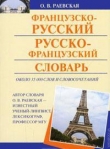Текст книги "Словарь культуры XX века"
Автор книги: Вадим Руднев
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
Приведем фрагмент одного из романов Роб-Грийе "Проект революции в Нью– Йорке":
"Первая сцена разыгрывается стремительно. Сразу видно, что ее повторяли несколько раз: каждый участник знает свою роль наизусть. Слова и жесты следуют друг за другом со слаженностью шестеренок в хорошо смазанном механизме. [...] В этой запутанной сети линий я уже давно обнаружил очертания человеческого тела: на левом боку, лицом ко мне лежит молодая женщина, по всей видимости обнаженная, ибо можно отчетливо видеть соски на груди и треугольник курчавых волос в паху; ноги у нее согнуты, особенно левая, с выставленным вперед коленом, которое почти касается пола; правая же положена сверху, щиколотки тесно соприкасаются и, судя по всему, связаны, равно как и запястья, заведенные, по обыкновению, за спину; ибо рук словно бы нет: левая исчезает за плечом, а правая кажется отрубленной по локоть".
С той же невозмутимостью далее описываются чудовищные пытки, которые проделываются над девушкой, потом эта же сцена повторяется, варьируясь, много раз, так что уже непонятно, та же это девушка или другая и кто ее мучители. Все это позволяет говорить о серийности (см. серийное мышление) повествовательных элементов у Роб-Грийе.
Вот что об этом пишет русский философ Михаил Рыклин:
"В рамках каждой из серий Роб-Грийе упорно повторяет одно и то же, но с минимальными вариациями, так что постепенно стирается разница между тождественным, равным, различным, отличным и противоположным. [...] В результате мы так и не знаем, сколько рассказчиков в "Проекте революции в Нью-Йорке". [...]
Роб-Грийе сам сформулировал основные правила своего метода так: хороший герой – тот, у которого есть двойник; хороший сюжет – максимально двусмысленный; в книге тем больше истинности, чем больше в ней противоречий".
Н. р. – последняя предпостмодернистская попытка жестко организованной технически прозы, и хотя бы этим он родственен традиционному модернизму. Постмодернизм отказался и от технической сложности.
Лит.:
Бланшо М. Роман о прозрачности // Роб-Грийе А. Проект революции в Нью-Йорке. – М., 1996.
Барт Р. Школы Роб-Грийе не существует // Там же.
Рыклин М. Революция на обоях // Там же.
НОРМА.
В 1970-е гг. Ю. М. Лотман в своей структурной культурологии высказал идею, что культура в принципе есть система Н. и запретов, ограничений и разрешений.
Что такое Н. в культуре ХХ в.? И есть ли вообще, может ли быть какая-либо Н. в такой "ненормальной" культуре, как наша?
Н. складывается из трех понятий – должно, запрещено и разрешено (см. также модальности). Плюс, минус и ноль.
Наиболее обязательными в культуре являются социальные Н.
Должно: соблюдать правила уличного движения, платить налоги, содержать свою семью, при пожаре звонить 01, соблюдать в квартире тишину после 23 часов.
Запрещено: переходить улицу на красный свет, убивать, красть, насиловать, распространять наркотики, ругаться неприличными словами на улице, курить и сорить в общественном транспорте.
Социальные Н. контролируются жестко: за их нарушение штрафуют, сажают в тюрьму, а иногда и расстреливают
Все, что не запрещено, – разрешено. Здесь человек волен выбирать – переходить ли ему вообще эту улицу или оставаться на той стороне, что он был; ходить ли в церковь или быть атеистом; худеть или полнеть; делать карьеру или прозябать и так далее.
Но то, что входит в область разрешенного в социальной нормативной сфере, может быть поощряемым или непоощряемым в этической сфере Н., которая гораздо гибче и регулируется нравственными законами. Вместо понятия "запрещено" здесь испольауется понятие "следует" или "не следует". Так, не следует изменять жене, но за это не посадят в тюрьму. Следует уступать женщинам преклонного возраста место в троллейбусе, но если не уступишь, – не оштрафуют.
Нравственные нормативные установки человек формирует у себя сам, или ему формируют их его воспитатели, родители. Но в любом случае они носят гораздо более индивидуальный характер, чем социальные установки. Человек сам решает, можно ему или нет изменять жене, уступать ли место старушке в троллейбусе, можно или нельзя врать, а если этот последний вопрос трудно решить в общем и целом, то его можно решить в каждом случае индивидуально. В большинстве каждый – нормальный в нравственном смысле – человек скажет, что врать нельзя, но в некоторых случаях можно, а, может быть, даже иногда следует соврать. Существует даже такое понятие – "ложь во спасение".
Как правило, к проблеме лжи – пробному камню нравственных Н. – люди относятся тем или иным образом в зависимости от их характера (см. характерология). Истерики не могут не врать. Сангвиник может соврать для собственного или чужого спокойствия. Психастеник может соврать, но потом будет целый год мучиться. Как правило, правдивы прямолинейные эпилептоиды, с одной стороны, и сложные углубленные шизоиды – с другой. Первые от прямолинейности, вторые от сложной углубленности. Последняя позиция довольно опасна. Так, один из самых великих шизоидов-аутистов (см. также аутистическое мышление) в мировой культуре, Иммануил Кант, считал, что врать нельзя ни в каком случае. Даже если у тебя в доме прячется от полиции твой друг, а за ним пришли, если ты скажешь что его у тебя нет, ты, может быть, спасешь друга, но все равно увеличишь количество лжи в мире. Примерно таким же был и великий философ ХХ в. Людвиг Витгенштейн. Такие люди весьма неудобны в обществе – они деформируют Н. вранья и невранья.
В любой нормативной сфере актуальными являются два вопроса. Первый состоит в следующем: запрещено ли то, что не разрешено? Ответ зависит от того общества, в котором задается этот вопрос. "Если нечто эхсплицитно не разрешено, это не значит, что оно запрещено" – это, ответ в демократическом духе. "Если нечто не разрешено, то оно тем самым запрещено" – ответ в тоталитарном духе.
Второй вопрос: можно ли одновременно делать запрещенное и должное?
Вот что пишет по этому поводу один из самых известных современных философов, создатель логики Н., Георг Хенрик фон Вригт: "Ни "в логике", ни "в реальной жизни" нет ничего, что препятствовало бы одному и тому же единичному действию (или воздержанию от действия) быть и обязательным и запрещенным. Если Иеффай принес в жертву свою дочь (Иеффай – ветхозаветный военачальник, давший клятву Богу, что в случае победы над врагом принесет Ему в жертву первого, кто встретит его на пороге своего дома; первой его встретила дочь. – В. Р.), то его действие должно было быть обязательным потому, что оно было выполнением клятвы Господу, и запрещенным потому, что оно было убийством".
Естественно, что системы Н. меняются в историческом развитии. Так, до указа о вольности дворянства Екатерины Великой каждый дворянин в Российской империи обязан был служить, потому что он был по определению "служилый" человек. Екатерина освободила дворян от обязанности служить и тем самым перевела эту Н. из разряда социальных в разряд этических. Дворянин мог не служить, но это в обществе не поощрялось ("А главное, поди-тко послужи", – говорит Фамусов в "Горе от ума" Чацкому в ответ на прелиминарное сватовство к дочери).
В нашем распавшемся государстве, Советском Союзе, было обязательной Н. работать. На этом был построен суд над Иосифом Бродским – его судили за тунеядство. Он нарушал социальную Н. тоталитарного государства.
Конечно, Н. обусловлена различными контекстами историческим, профессиональным, конфессиональным, этническим, возрастным, бытовым. "Голый человек в бане не равен голому человеку в общественном собрании", – писал когда-то Ю. М. Лотман.
Наряду с социальными и этическими Н. существуют Н. языковые и эстетические. Они тоже меняются, но по-разному, с разной скоростью в зависимости от эпохи, их породившей и их упраздняющей. Так, после Октябрьской революции была отменена старая орфография. В сущности, это было разумное мероприятие: из алфавита убрали букву "ъ" на конце слова, так называемый "ер", так как он уже ничему не соответствовал, и букву "ять", так как она по произносительным нормам совпадала с обыкновенным "е" (когда-то это были разные звуки, произвосившиеся по-разному и имевшие разное происхождение). Однако такая резкая смена орфографической Н. имела явный политический смысл. И интеллигентам "из бывших" новая орфография казалась дикой, как все затеи большевиков.
Существуют московская и ленинградская произносительные Н. Так, москвич произносит слово "дождь" или "дощ", а ленинградец – как "дошть". Но постепенно эти две Н. конвергируют, причем в сторону ленинградской, менее архаической Н. Теперь даже дикторы московского радио – оплота языковой Н. – редко говорят "московскый". Вероятно, только в Малом театре еще не перестали так говорить.
Самые жесткие эстетические Н. в культуре были во времена классицизма, наиболее нормативного из всех типов культуры Нового времени: знаменитые "три штиля", правило трех единств в драме – действие должно было проходить в одном месте (единство места), на протяжении не более одних суток (единство времени) и быть сосредоточено вокруг одной интриги (единство действия) (кстати, "Горе от ума", которое цензура долго не пропускала в печать и на сцену по политическим соображениям, соблюдало все три единства – Грибоедов был человеком достаточно консервативным в том, что касалось поэтики).
Ломка всех Н. наблюдалась в начале ХХ в. В литературе реализм – установка на среднюю Н. литературного языка сменился модернизмом с его установкой на деформацию семантических Н. и авангардным искусством с его установкой на деформацию художественной прагматики. В поэзии на смену 4-стопному ямбу пришел дольник и верлибр. В музыке венская гармония, которая казалась такой же вечной, как и реализм, сменилась на атональную додекафоиию. Классическая физика подверглась воздействию новых парадигм – теории относительности и квантовой механики. Старая психология стонала от ужаса, который наводил на нее психоанализ. Появилось и закрепилось совершенно новое искусство – кино.
Но полтора-два десятилетия спустя ко всем новшествам привыкли, все снова "вошло в Н.";
История искусства – это постоянный мятеж против Н. (Ян Мукаржовский), и каждое выдающееся произведение искусства всегда ее ломает.
В современной культуре, однако, господствует плюрализм Н., который мы, пользуясь, "высоким штилем", называем постмодернизм.
Лит.:
Кант И. Трактаты и письма. – М., 1980.
Лотман Ю.М. Избр. статьи. В 3 тт. – Таллин, 1992.
Вригт Г.Х. фон. Нормы, истина и логика // Вригт Г. Х. фон.
Логико-философские исследования. – М., 1986.
Мукаржовский Я. Эстетическая функция, норма и ценность
как социальные факты // Учен. зап. Тартуского ун-та. – Тар
ту, 1975. – Вып. 365.
"НОРМА" / "РОМАН"
– своеобразная дилогия современного русского прозаика Владимира Сорокина (1995), одного из крупнейших представителей концептуализма (см.). Оба романа появились одновременно и были одинаково полиграфически оформлены. Сами слова "норма" и "роман" являются полной анаграммой – все буквы повторяются. Все это позволяет рассматривать Н. и Р. как некий единый текст.
Оба романа – будучи образцами поэтики постмодеринзма – в сущности посвящены истории деградации русского романа, да, впрочем, не только русского.
В самой структуре своих текстов Сорокин показал, как два фундаментальных типа романа в европейской традиции можно довести до абсурда, предельно обнажив их структуру.
Первый тип романа возник как нанизывание цепи новелл. Ярчайший пример такого романа в европейской куль – это "Декамерон" Боккаччо. С развитием этой формы простое нанизывание сменяется утонченной иерархией (см. текст в тексте) – так построен "Мельмот-скиталец" Чарльза Метьюрина, "Рукопись, найденная в Сарагоссе" Яна Потоцкого. Это барочно-модернистский роман. Условно говоря, в нем форма побеждает содержание.
Второй тип романа в мировой культуре вырастает как одна разбухшая новелла и представляет собой единый сюжет. В античности один из ярчайших образцов этого жанра – "Золотой осел" Апулея, в ХIХ в. это классический "реалистический" (см. реализм) роман. В ХХ в. эта форма вырождается в анахронистские полуграфоманские творения типа "Американской трагедии" Теодора Драйзера или "Молодой гвардии" Александра Фадеева. Это антимодернистский роман. Условно говоря, содержание в нем побеждает форму и уничтожает ее.
Вырождение романа первого типа показано в Н., второго – в Р.
В своей дилогии Сорокин выявляет экстремальные возможности романов обоих типов, доводит их структуры до абсурда и в определенной степени закрывает тему.
Н. в первой ее части представляет собой простое нанизывание новелл, связанных между собой общей темой, в начале не совсем понятной, но потом раскрывающейся во всей беспредельно шокирующей сорокинской откровенности. Дело в том, что во всех этих маленьких рассказиках в центре повествования момент поедания гражданами СССР особого продукта, называемого нормой. Причем этот продукт поедается не всеми, а лишь избранными членами общества. Постепенно выясняется, что норма это детские эксперименты, поставляемые государству детскими садами и расфасованные на фабриках. Смысл поедания нормы – это ритуальное причащение чему-то, что можно условно назвать принадлежностью к КПСС. Поедающий норму гражданин тем самым как бы уплачивает членские взносы в партийную кассу.
Однако от рассказа к рассказу наблюдается определенная динамика. В начале норма поедается буднично, хоть и не без некоторой гордости, затем начинаются кулинарные ухищрения, направленные на то, чтобы отбить у нормы запах, наконец, появляются ростки "диссидентства", заключающиеся в тайном и карающемся законом выбрасывании нормы в реки и канавы.
Это первая, наиболее простая, чисто памфлетная часть Н. обрамляется прологом и эпилогом, содержание которых заключается в том, что в КГБ вызывают странного мальчика и заставляют его читать некую рукопись, по-видимому, сам роман Сорокина (это странная, хотя и явная аллюзия на эпизод в "Зеркале" Тарковского, когда подросток читает письмо Пушкина к Чаадаеву).
Части со второй по шестую предельно разнообразят жанровое и формальное богатство этого произведения, уснащая его вставными новеллами, романом в письмах, стихами и советскими песнями, создавая постмодернистский пастиш (см постмодернизм) – пародию на интертекст. В последней части речь героев переходит в абракадабру, чем символизируется конец русского романа и всякого художественного письма вообще.
В противоположность Н. роман Р. является постмодернистской пародией на классический русский роман ХIХ в.
Герой Р. по имени Роман – художник, приезжающий в деревню к дяде, где он охотится, обедает, встречает бывшую возлюбленную, влюбляется в дочь лесничего, жениться на ней, играется свадьба, – то есть разыгрывается своеобразный лубок, состоящий из общих мест "реалистического" повествования ХIХ в.
Финал Р. – чисто сорокинский (см. концептуализм). Гуляя по лесу, Роман встречает волка, борется с ним, душит его, но перед смертью волку удается укусить Романа, и Роман сходит с ума. Вместе со своей молодой женой он убивает всех жителей деревни, вынимает из них внутренности, складывает их в церкви, затем убивает и жену, разрезает ее на части и, наконец, умирает сам. В романе Р. также символически показан конец традиционного романного мышления ХIХ в.
Будучи замечательным мастером художественной прагматики (см.), Сорокин в Н. и Р. доводит до абсурда и свой абсурдистский талант, но делает это явно специально, зная вкусы своей читательской аудитории. Если читать Н. в традиционном смысле занимательно, то читать Р., по общему признанию, очень скучно (это обычное читательское восприятие Р. в среде поклонников Сорокина).
Между тем роман Р. устроен значительно более утонченно, чем Н. Почти каждый мотив в Р. является обыгрыванием какого-либо фрагмента из русской прозы, действительного или воображаемого (ср. семантика возможных миров).
Особенностью постмодернизма является то, что пародия перестает быть пародией в традиционном смысле: пародировать уже нечего, поскольку нет нормы (см.). Переклички в тексте Р. с такими произведениями русской литературы, как "Война и мир", "Обрыв", "Отцы и дети", "Гроза", "Преступление и наказание", не имеют ничего общего с утонченной техникой лейтмотивов, которая развивалась модернизмом на протяжении всего ХХ в. и была так ярко проиллюстрирована постструктурализмом и мотивным анализом. В противоположность классической технике завуалированных реминисценций в модернизме, здесь цитаты даются совершенно явно. Это пародия, пародирующая пародию.
Вторая часть Н. представляет собой примерно 20 страниц записанных в столбик сочетаний слова "нормальный" с любым другим словом, символизирующих "нормальную жизнь" советского человека от рождения до смерти:
нормальная жизнь
нормальный роды
нормальный ребенок
нормальная мама
нормальный стул
нормальная раковина
нормальная задница
нормальная телка
нормальная жена
нормальная язва
[И ]
нормальная смерть
Данная главка символизирует всеобщую усредненность, царящую в обыденном сознании советского и постсоветского человека. Ср.:
нормальный Ельцин
нормальный Черномырдин
нормальный Зюганов
нормальная Чечня
нормальный Басаев
нормальный Лебедь.
Эта тотальная усредненность, полнейшее отсутствие социальных и культурных приоритетов чрезвычайно точно характеризует современную постсоветскую ситуацию: кошмарное сновидение, которое кошмарно тем, что обыденное и из ряда вон выходящее настолько в нем переплетены, что люди перестали не только удивляться или возмущаться происходящему, но и вообще как бы то ни было на него реагировать.
Само понятие события (см.), как точно показывает Сорокин, претерпело кризис. Понятие событийности предполагает, что нечто именуемое событием должно резко менять внутреннюю или внешнюю жизнь человека. Но "событий" так много, что невозможно отличить событие от несобытия. Перемен так много, что их значимость теряется в общей информационной неразберихе. Информации так много, что она утрачивает свою ценность. Шопенгауэр и Витгенштейн продаются на одном лотке со Стивеном Кингом и Джеймсом Чейзом (нормальный Шопенгауэр, нормальный Витгеншейн). Как показал еще Клод Шеннон, для того чтобы информация могла потребляться, нужен достаточно узкий канал скорее проволока, чем мусорная свалка.
Идея виртуальных реальностей, символом которой в 1980-е гг. были новеллы Борхеса, в нынешней ситуации потеряла свою значимость, значимость событийности. Тотальная виртуализация культуры превращается в ее дереализацию (психиатрический термин, означающий полную потерю чувства реальности у тяжелых психотиков и шизофреников).
Так своеобразно роман, который принято считать образцом неоавангарда, самой своей структурой делает то, что привык делать своим содержанием традиционный классический роман: отражать окружающую реальность – еще один парадокс творчества Владимира Сорокина.
Лит.:
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1976.
Руднев В. Конец поствыживания // Художественный журнал.
– 1996.– No 9.
* Н *
ОБЭРИУ
(Объединение реального искусства) литературно-театральная группа, существовавшая в Ленинграде с 1927-го до начала 1930-х гг., куда входили Константин Вагинов, Александр Введенский, Даниил Хармс, Николай Заболоцкий, Игорь Бахтерев, Юрий Владимиров, Борис Левин. К О. примыкали поэт Николай Олейников, философы Яков Друскин и Леонид Липавский. Обэриуты называли себя еще "чинарями", переосмысляя выражение "духовный чин". Так, Даниил Хармс звался "чинарь-взиральник", а Введенский – "чинарь-авторитет бессмыслицы".
О. была последней оригинальной выдающейся русской поэтической школой "серебряного века" наряду с символизмом, футуризмом и акмеизмом. В работе над поэтическим словом обэриуты превзошли всех своих учителей, как драматурги они предвосхитили европейский театр абсурда за 40 лет до его возникновения во Франции. Однако судьба их была трагической. Поскольку их зрелость пришлась на годы большого террора, при жизни они оставались совершенно непризнанными и неизвестными (издавать их наследие всерьез начали в 1960-е гг. на Западе, а в России – в конце 1980-х гг., во время перестройки). Мы будем говорить в основном о Хармсе и Введенском – удивительных трагических русских поэтах.
Искусство и поэтика О. имеет два главных источника. Первый – это заумь их учителя Велимира Хлебникова. Основное отличие зауми Обэриутов в том, что они играли не с фонетической канвой слова, как это любил делать Хлебников, а со смыслами и прагматикой поэтического языка.
Вторым источником О. была русская домашняя поэзия второй половины ХIХ в. – Козьма Прутков и его создатели А. К. Толстой и братья Жемчужниковы. Для понимания истоков О. важны также нелепые стихи капитана Лебядкина из "Бесов" Достоевского, сочетающие надутость и дилетантизм с прорывающимися чертами новаторства.
Можно назвать еще два источника поэтики О.: детский инфантильный фольклор (недаром поэты О. сотрудничали в детских журналах, и если их знали современники, то только как детских поэтов) с его считалками, "нескладушками" и черным юмором; наконец, это русская религиозная духовная культура, без учета которой невозможно понимание поэтики обэриутов, так как их стихи наполнены философско-религиозными образами и установками. Можно сказать, что это была самая философская русская поэзия, которую по глубине можно сравнить разве только с Тютчевым.
Объединяло обэриутов главное – нетерпимость к обывательскому здравому смыслу и активная борьба с "реализмом". Реальность для них была в очищении подлинного таинственного смысла слова от шелухи его обыденных квазисмысловых наслоений. Вот что писала по этому поводу О. Г. Ревзина Я. С. Друскину: "...язык и то, что создается с помощью языка, не должен повторять информацию, поступающую к нам от любезно предоставленных нам природой органов чувств. [...] Искусство, воспроизводящее те же комплексы ощущений и представлений, которые мы получаем через другие каналы информации, не есть настоящее искусство. [...] в человеческом языке [...] скрыты новые формы, которых мы не знаем и не представляем их, и они-то, эти новые формы, и есть истинное искусство, дающее возможность полноценно использовать язык как средство познания, воздействия и общения".
Даниил Иванович Хармс (настоящая фамилия его была Ювачев; Хармс от агл. charm "чары" – самый стабильный его псевдоним, которых у него было порядка тридцати) был по типу личности настоящим авангардистом (см. авангардное искусство). Вот что пишет о нем А. А. Александров: "Чего только не умел делать Даниил Хармс! [...] показывал фокусы, искусно играл на биллиарде, умел ходить по перилам балкона на последнем этаже ленинградского Дома книги. Любил изобретать игры, умел изображать муху в тот момент, когда та размышляет, куда бы ей полететь, умел писать заумные стихи, философские трактаты и комедийные репризы для цирка, любил изображать своего несуществующего брата Ивана Ивановича Хармса, приват-доцента Санкт-Петербургского университета, брюзгу и сноба".
При жизни Хармс прославился пьесой "Елизавета Бам", которая была поставлена в 1928 г. в обзриутском театре "Радикс" (от лат. "корень"). Эта пьеса одновременно была предтечей абсурдистских комедий Ионеско и пророчеством о судьбе русского народа при Сталине (Хармс вообще обладал даром провидения). Сюжет пьесы заключается в том, что героиню приходят арестовать два человека, которые обвиняет ее в преступлении, которого она не совершала. На время ей удается отвлечь преследователей балаганными аттракционами, в которые они охотно включаются, но в финале стук в дверь повторяется и Елизавету Бам уводят.
Можно сказать, что Хармс был русским представителем сюрреализма. В его поэтике сочетание несочитаемого, мир шиворот-навыворот – одна из главных черт, а это сюрреалистическая черта. Так, строки
Наверху,
под самым потолком,
заснула нянька кувырком
весьма напоминают кадр из фильма "Золотой век", сделанного двумя гениальными испанскими сюрреалистами Луисом Бунюэлем и Сальвадором Дали, где человек прилипает к потолку, как муха.
Хармс был мастером разрушения обыденного синтаксиса, причем не только поверхностного, но и глубинного (термины генератнвиой лингвистики, см.). Например, строки
из медведя он стрелял,
коготочек нажимал
разрушают самое синтаксическое ядро предложения соотношение глагола и существительных-актантов. Ясно, что здесь имеется в виду, что охотник стрелял в медведя из ружья, нажимая курок, похожий на коготь медведя. Но в духе мифологического инкорпорирования (см. миф) объект, субъект и инструмент перемешиваются. Это тоже сюрреалистическая черта. Ср. кадр у тех же Дали и Бунюэля в их первом фильме "Андалузская собака", где подмышка героини оказывается на месте рта героя. Такие фокусы были характерны и для Введенского, у которого есть такая строка в стихотворении "Где": "Тогда он сложил оружие и, вынув из кармана висок, выстрелил себе в голову".
Хармс был великолепным прозаиком, выступая как авангардист в эпатирующих обывательское сознание знаменитых "Случаях" и как глубокий представитель модернизма в таких вещах, как повесть "Старуха", исполненная поэтики неомифологизма. Старуха, пришедшая к писателю и умершая в его комнате, – это и старухаграфиня из пушкинской "Пиковой дамы", и старуха-процентщица из "Преступления и наказания". Так же как творчество Достоевского, творчество Хармса пронизывает карнавализация.
Хармс был репрессирован в 1941 г. и умер в тюремной больнице в 1942-м.
Чтобы эскизно показать масштабы поэзии Александра Введенского, которого мы считаем одним из гениальнейших людей ХХ в., сравним два его стихотворения. Вот хрестоматийный финал мистерии "Кругом возможно Бог":
Горит бессмыслица звезда,
она одна без дна.
Вбегает мертвый господин
И молча удаляет время.
А вот финал из позднейшей "Элегии":
Не плещут лебеди крылами
над пиршественными столами,
совместно с медными орлами
в рог не трубят победный.
Исчезнувшее вдохновенье
теперь приходит на мгновенье,
на смерть, на смерть держи равненье
певец и всадник бедный.
Здесь важно то, что мы говорили о поверхностных и глубинных структурах. На поверхности эти стихи принадлежат как будто совершенно разным поэтам и даже эпохам. На глубине это три излюбленные темы Введенского: Бог, смерть и время. Многие литературоведы (М. Б. Мейлах в их числе), считают, что современная теоретическая поэтика не в состоянии адекватно проанализировать творчество обэриутов. Мы присоединяемся к этому утверждению, особенно в том, что касается Введенского.
Поэт был арестован и умер в 1941 г.
Из прежних обэриутов пережили Сталина только во многом изменившийся Н. А. Заболоцкий и Я. С. Друскин, доживший до наших дней (умер в 1980 г.) – философ и хранитель наследия, письменного и устного, своих друзей-вестников, как он их называл.
Лит.:
Друскин Я. С. Вблизи вестников. – Вашингтон, 1988.
Аленсандров А.А. Чудодей: Личность и творчество Даниила
Хармса // ХармсД. Полет в небеса: Стихи. Проза. Драмы. Письма. – Л., 1988.
Мейлах М Б Предисловие // Введенский А Полн. собр. соч. В 2 тт – М., 1993. – Т. 1.
Мейлах М Б. "Что такое есть потец?" // Там же. Т 2
"ОРФЕЙ" (1950) – фильм французского режиссера и поэта Жана Кокто, один из самых ярких и впечатляющих фильмов европейского модернизма и неомифологизма, сочетающий в себе жанры поэтического кино, психологической драмы, философского киноромана, триллера и приключенческого мистического фильма. О. поэтому занимает особое место в европейском киноискусстве.
Напомним миф об Орфее, ставший вторым планом сюжета фильма. В древнегреческой мифологии Орфей славился как певец и музыкант, наделенный магической силой искусства, которой покорялись не только люди, но и боги и даже природа. Эвридика, жена Орфея, внезапно умирает от укуса змеи, и он отправляется за ней в царство мертвых. Стерегущий царство мертвых пес Цербер, эринии, Персефона и сам Аид покорены игрой Орфея. Аид обещает отпустить Эвридику на землю, если Орфей выполнит условие – не взглянет на жену прежде, чем они войдут в свой дом. Счастливый Орфей возвращается с женой, но нарушает запрет, обернувшись к ней, и она тут же исчезает в царстве мертвых.
Орфей погибает, растерзанный менадами, которых на него наслал бог Дионис, так как Орфей почитал не его, а Гелиоса. Менады разорвали тело Орфея на части, но потом музы его собрали.
Теперь охарактеризуем сюжетное построение фильма Кокто. Орфей (молодой Жан Маре) – современный поэт-модернист, наживший себе много врагов и завистников. Первый эпизод начинается на улицах Парижа, в летнем кафе поэтов. Здесь Орфею показывают книгу, написанную в духе нового направления – нудизма (см. авангардное искусство). Орфей с изумлением видит, что книга состоит из пустых страниц. Автор книги – молодой поэт-авангардист Сажест. Он появляется тут же пьяный, но в этот момент неизвестно откуда выезжают два мотоциклиста, одетые в черное (впрочем, весь фильм черно-белый), сбивают Сажеста и увозят с собой. Среди участников сцены Орфей замечает прекрасную женщину в черном – это Смерть (Мария Казарес). Орфей пытается догнать прекрасную незнакомку, но не может за ней поспеть, он понимает, что она демон и как-то замешана в смерти Сажеста.
Посланцы смерти привозят тело Сажеста в пустой дом, где обитает Смерть; Смерть подходит к телу и движением руки поднимает его – это сделано обратной съемкой – инверсия вообще играет большую роль в этом фильме. Она сообщает Сажесту, что она его Смерть и отныне он принадлежит только ей.
Орфей не может забыть Смерть. Смерть тоже влюбляется в Орфея. Три раза она приходит к нему в дом и смотрит на него, спящего. Зрелище это довольно жуткое, так как на опущенных веках актрисы сверху нарисованы искусственные глаза Смерть на время похищает Орфея, но потом отпускает обратно Орфей обнаруживает себя на окраине Парижа в незнакомой машине в компании незнакомого молодого человека. Это Артебиз – ангел смерти, который по приказу Смерти – он ее слуга – отныне будет сопровождать Орфея и попытается отнять у него Эвридику.
Эвридика – в противоположность Смерти – хорошенькая блондинка, обыкновенная молодая француженка. Артебиз влюбляется в Эвридику. Однако Смерти и ее слугам-демонам запрещена любовь к людям. Чтобы оставить Орфея одного в распоряжении Смерти, Артебиз отравляет Эвридику газом из газовой плиты. Однако горе Орфея так велико, что Артебиз соглашается сопровождать Орфея в царство мертвых.
Надев специальные перчатки, они сквозь зеркало проникают в противоположное измерение и идут против времени. Это сделано двойной съемкой, наложением кадров – они как будто с трудом преодолевают некую упругую субстанцию времени.