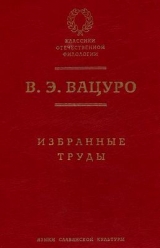
Текст книги "Статьи разных лет"
Автор книги: Вадим Вацуро
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
До сих пор мы имели дело с теми замыслами и опытами друзей, которые несли на себе черты высокой романтической традиции. Ею отмечены ранние стихи Данненберга и Некрасова; нужно думать, что она должна была сказаться и в либретто и музыке неосуществленной оперы. Однако Данненберг упоминает в своем письме еще об одном своем произведении, также неизвестном нам, – повести «Друг Мишель». В этом названии ощущается как будто фельетонная манера. За неимением образцов прозы Данненберга, нам стоит обратить внимание на стилистические особенности его дружеских писем. Одно из них особенно интересно, так как намеренно стилизовано под «повесть»; под вымышленными именами-кличками из студенческого жаргона («Твердыня», «Абдул Крепость») здесь описывается предполагаемая встреча и разговор адресата и корреспондента. Разговор пародиен; однако самая пародия заключается в том, что оба собеседника предстают в объективированном виде воображаемых литературных героев. В этой псевдоповести мы находим целый ряд черт, которые будут свойственны и повестям и фельетонам раннего Некрасова: именно, установку на речевую характеристику, с широким использованием бытового просторечия и поговорочных речений. «Виновааааааат! – завопил во все горло Абдул Федотыч, чертя указательным пальцем левой руки по своей шее. – Ага! Попался! – возразил Твердыня, – и не совестно тебе на всет божий смотреть, продолжал он, – как тебе не стыдно не писать ко мне так долго! скажешь: некогда». «Виноват – снова произнес Абдул, – не прикажите казнить, прикажите речь говорить! Ведь время на время не приходит; иногда лучше родится рожь, иногда пшеница, бывает в году и масленица, бывает и великий пост; понял – ладно, а не понял – не прогневайся, лучше сказать не умею, ведь я живу хоть и в Питере, а ем пряники-то не писаны». И далее: «кто в бурю на море не бывал, да кто в Питере в нужде не бывал, тот досыта богу не маливался» [144]144
ГПБ, ф. 37, № 674, л. 16–16 об.
[Закрыть]. Подобные же речения мы находим уже в «Повести о бедном Климе» (1842–1843): «ни брат, ни сват… кузнец двоюродный нашему слесарю», «грош заплочено да пять раз ворочено!.. Вынести на базар – четвертак дадут да полтинник сдачи попросят» [145]145
Некрасов Н. А.Полное собрание сочинений и писем, т. VI, Гослитиздат, М., 1950, стр. 28, 30 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).
[Закрыть]; позднее, в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» появится фигура дворового человека Егора Спиночки, сыплющего прибаутками (VI, 289 и след.). Еще более близкое совпадение обнаруживается в романе «Три страны света» Некрасова и Панаевой: вторая глава пятой части названа здесь: «Кто на море не бывал, тот богу не маливался» [146]146
За это указание искренне благодарю Б. Л. Бессонова, которому принадлежит и мысль сравнить сюжетные линии и отдельные эпизоды в «Трех странах света» с реальными фактами биографии Данненберга (см. далее).
[Закрыть]. Отметим пока самое тождество формул: нам придется еще к нему вернуться.
Одновременное обращение писателя к «высокому» и «низкому», к элегической медитации и пародии – явление хорошо известное в истории литературы и даже для романтика не представляющее собою ничего исключительного, скорее напротив. Однако в творчестве романтика 1830-х годов удельный вес пародии несколько иной, чем в предшествующее десятилетие, и она нередко тяготеет к превращению в автопародию. Разрушающаяся эстетическая система, эклектичная в самых своих основах, облегчала этот переход, и едва ли не эту тенденцию мы улавливаем, сопоставляя бытовое просторечие писем Данненберга с мелодраматической патетикой его же «Невесты». Если «Друг Мишель» действительно был повестью фельетонного типа, то в этом случае творческое сознание Данненберга оказывалось типологически близким некрасовскому. Вспомним, насколько быстрым оказался переход Некрасова от романтических стихов к журнальному фельетону, – и от «серьезной» трактовки романтических ситуаций к их прямому пародированию. В «Несчастливце в любви, или Чудных любовных похождениях русского Грациозо» (1841) травестированы сцены, пользовавшиеся еще в конце 1830-х годов необыкновенной популярностью: к ним принадлежит, например, сцена прыжка всадника на коне со скалы в бурную реку [147]147
Литературная генеалогия этой сцены интересна: она связана с романтической поэзией и прозой 1820–1830-х годов и, в частности, с творчеством А. А. Бестужева-Марлинского. По-видимому, впервые она появляется в «Палее» Рылеева (1825), затем переходит в поэму Бестужева «Андрей, князь Переяславский» (гл. 1, фрагм. 17 и 18) и варьируется в стихотворении «Сон»:
И конь, и всадник, прянув с края,Кусты и глыбы отрывая,В пучину ринулись кольцом и т. д. Другой вариант этой сцены – лирически смягченный, лишенный романтической эффектности – в «Прощании с Каспием» (1834); еще один – в «Мулла-Нуре». Все эти произведения читателям были хорошо известны по журнальным публикациям и «Полному собранию сочинений А. Марлинского», где были напечатаны и стихи популярного писателя (т. XI. СПб., 1838). Гибель Бестужева в 1837 году оживила биографические легенды о нем; на их основе возник апокрифический рассказ о встрече его с Пушкиным на Кавказе в 1829 году, где также нашел себе место эпизод с прыжком всадника в пропасть. См.: Алексеев М. П.1) Этюды о Марлинском. Иркутск, 1928, стр. 24–25; 2) Пушкин и Бестужев. (По поводу одной картины). В кн.: Пушкин и его современники, вып. 38–39. Л., 1930, стр. 248–250.
[Закрыть]. Более того: уже в 1841 году Некрасов начинает пародировать свои собственные стихи, вошедшие в «Мечты и звуки», включая их в иронический или снижающий контекст. В том же «Русском Грациозо» мы встречаем вплетенные в повествование традиционные формулы из этих стихов (ср., например, эпизод с куртизанкой Франциской, к которой герой был «прикован» «неразрывной цепью страсти», и строки в «Признании»: «Я навек к тебе прикован Цепью страсти роковой» – V, 218); в рассказе «Двадцать пять рублей» (1841) сниженно воспроизведены несколько строк из «Турчанки» (V, 123) и т. д. Если бы речь шла о зрелом Некрасове, в этом не было бы ничего удивительного, но ведь, например, повесть «В Сардинии», с ее ультраромантическим сюжетом, пишется всего годом позже. Речь идет, таким образом, не об отмене, а о внутреннем разрушении, коррозировании романтической эстетики раннего Некрасова.
3
Литературные планы и замыслы, о которых сообщал Данненберг в своем первом письме, оказались неудачны. Приятели продолжали жить вместе в доме Духанина на второй линии Васильевского острова, изыскивая средства поправить свои материальные дела. По-видимому, адрес этот, указанный Данненбергом, был первым из их петербургских адресов; впрочем, его нельзя считать совершенно несомненным. Данненберг, судя по письму, имел два адреса для писем и давал Второву один из них. Мы не знаем достоверно, был ли это реальный адрес или лишь наиболее надежный, – например, на случай смены квартиры.
К тому времени, как составлялись проекты альманаха и оперы и делались поденные переводы для Полевого, Некрасов уже предпринял все необходимые шаги для издания сборника своих стихов. Еще 26 июня, задолго до знакомства с Данненбергом, он отнес в петербургскую цензуру рукопись на 114 листах, под названием «Стихотворения Н. Некрасова». 25 июля рукопись была одобрена, и 8 августа автор получил ее обратно [148]148
ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 203, лл. 17 об. – 18.
[Закрыть]. Таким образом, к осени 1839 года процензурованная тетрадь – будущая книжка «Мечты и звуки» – лежала у Некрасова по неимению средств на ее издание; Г. Ф. Бенецкий, рекомендовавший поэту издать сборник, распространил среди кадетов Павловского корпуса по предварительной подписке «до сотни билетов», как вспоминал сам Некрасов (впрочем, цифра эта, как мы увидим, оказалась преувеличенной). Шансов добыть деньги для печатания было, по-видимому, столь мало, что Данненберг, перечисляя совместные замыслы, ни словом не упоминает о сборнике вплоть до 12 декабря 1839 года, когда он пишет Второву обширное письмо, отчасти разъясняющее нам обстоятельства выхода в свет первого некрасовского сборника.
«У меня есть до тебя просьба, – пишет Данненберг, – будь, пожалуйста, понахальнее и распехай по рукам (ежели можно) своим и моим знакомым прилагаемые билеты; но с тем, чтоб деньги отдавали тут же на руку, и первой же почтой пришли по возможности вырученное. Я пустился на аферы, – вместе с товарищем издаем его стихи. Здесь в Питере пущено 50 билет.<ов>; но все-таки мало, чтоб на эти деньги можно было напечатать. Впрочем, не думай, чтоб стихи были дурные; прочти обращики в „Б.<иб-лиотеке> для ч.<тения>“ или „С.<ыне> отеч.<ества>“, с подписью Некрасов.Напечатаны будут на хорошей бумаге, в цветно<й> обертке, величиною листов в 7 в 8-ю долю. Между прочим, вот тебе кому можно подсунуть: троим Огневым [149]149
Трое Огневых – Иван, Флор и Григорий Ивановичи, учившиеся в университете в 1835–1843 годах (Михайловский, стр. 196, 229, 246).
[Закрыть], Стобеусу, Демонси и еще кому знаешь, т. е. кому возможно. Сказать, что яиздаю, – можешь; но что я назначил имена под-пис<чи>ков – не смей». И далее: в приписке: «Стихи по напечатании с первой же почтой будут присланы. Не позже 1 хмесяц.<ев>. Постарайся, чтоб к 12 генваря вырученные деньги были здесь. Если будет барыш, то долг мой пришлю тебе в скорости. Нет сомнений, что удача будет, потому что Некрасов со всеми главными журналистами в ладах» [150]150
ГПБ, ф. 37, № 674, л. 4–4 об.
[Закрыть].
Хлопоты Второва, по-видимому, были успешны, и у нас есть основания думать, что поддержка казанских друзей Данненберга в немалой степени подвинула издание сборника. Печатание между тем задерживалось; может статься, что как раз в это время Некрасов начал испытывать сомнения в достоинстве стихов, о чем он вспоминал в своих автобиографических набросках; он собирался «изорвать» рукопись, но его убедили отправиться за советом к Жуковскому. Визит этот известен; его описал сам Некрасов (XII, 11–12, 22). Жуковский похвалил одно или два стихотворения [151]151
Известно (по указанию М. Н. Лонгинова, сделанному, несомненно, со слов самого Некрасова), что Жуковский одобрил стихотворение «Рукоять». У Жуковского были особые причины обратить внимание именно на это стихотворение. Еще в 1826–1827 годах он перевел стихотворение Л. Уланда «Der gute Kamerad», с близкой лирической ситуацией; перевод этот («Был у меня товарищ») при жизни им напечатан не был (см.: Жуковский В. А.Стихотворения, т. II. Ред. и прим. Ц. Вольпе. Л., 1940, стр. 263, 535).
[Закрыть], но советовал снять имя с титульного листа. Некрасов так и поступил, и сборник, получивший новое название «Мечты и звуки Н. Н.», появился в свет 6 февраля 1840 года [152]152
А. С. Бобович. Цензурные материалы о Некрасове из библиотеки Ленинградского гос. университета // «Научный бюллетень ЛГУ», 1947, № 16–17, стр. 67.
[Закрыть]. Теперь началось распространение самой книги, при помощи Н. Ф. Фермора; сам Некрасов безуспешно пытался продать ее через коммиссионеров [153]153
Об истории издания сборника см.: Евгеньев-Максимов В. Е.Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. I. М.; Л., 1947, стр. 191 и след.
[Закрыть]. Все это время у издателей книги не было возможности вести переписку, и лишь 19 февраля 1840 года Данненберг отправляет Второву письмо с благодарностью и объяснением вынужденного молчания.
<К. А. Данненберг – Н. И. Второву>
«Любезный дружище Ник.<олай> Иванович. Мне пишут, что ты уже начинаешь жаловаться на мое молчание; виноват! но ведь сам посуди, что мне совестно было бы писать, не отправляя книг, – проклятая типография замешкалась, – на прошлой неделе только вышли стихи из печати, и тебе вот они как снег на голову. Спасибо тебе за хлопоты; напрасно ты на свое имя взял экземпляр, мы бы тебе и так подарили, Некрасов тебя так уважает заочно, что хочет написать оду под заглавием: „Доброта и аккуратность Н. И. Второва“. Так вот тебе 16 экземпляров, один отдай Павлу Августовичу, а прочими распорядись как знаешь.
Скажу тебе весточку, что я скоро получу звание художника и место в Перми, скоро увижусь с тобой; но не говори этого никому; извини и то, что не остановлюсь у тебя, несмотря на давнишний уговор, – мне не хочется, чтобы многие знали об моем приезде или проезде. Ко мне не пиши. Папеньке мое почтение, знакомым поклон. Конец последнего письма твоего остался для меня какой-то неприятной и щекотливой загадкой. Об „Гете и Шиллере“ я узнаю, и можно будет без меня выписать через Ленивцева, на него можно положиться. Прощай – до свидания.
Твой К. Данненберг.
Написав это, Данненберг снова замолчал, почти на месяц. Только 15 марта он пишет следующее письмо – короткую записку, где извещает, что намерен отправиться в Пермь немедленно, как только закончит свой академический проект. Ему срочно нужны деньги; он просит Второва заложить или продать его перстень, хотя бы за 75 рублей вместо 90; он объясняет, что не пишет домой, так как не рассчитывает получить оттуда ответ ранее чем через месяц, а уехать хотел бы до весенней распутицы. Он сообщает свой адрес: Васильевский остров, 7 линия, между Большим и Средним проспектами, дом Герасимова, квартира Эйхгорна, – и просит писать по экстра-почте [155]155
Там же, л. 6.
[Закрыть].
Уехать, однако, ему в этот раз не удалось. Проект его, очевидно, не был принят; Каролина Гильтер 30 марта упрекала его: «зачем прежний ваш проект не работали прямо в академии, то теперь были бы уже в Казани». Казанские друзья и особенно невеста ждали его приезда со дня на день; он сообщил им, что вынужден задержаться еще на две недели. Павел Гильтер грозил шуточными карами «канальям профессоришкам». «… Однако позволь тебе заметить, что ты чудак преогромный, – как написать 2 проекта и не вздумать, что могут придраться и испортить!» Тем не менее дела поправить было нельзя; в утешение Гильтер сообщал, что Второв отвечает той же почтой «и, кажется, посылает pecuniam» [156]156
Там же, № 681, лл. 9, 10 об. Pecunia ( лат.) – деньги.
[Закрыть]. Две недели оказались тоже иллюзией; 28 марта Данненберг писал Второву с той же квартиры, что не надеется закончить дела ранее праздников, и вновь повторяет просьбу о деньгах: «… теперь у меня денежных источников нет, и потому порядочно нуждаюсь» [157]157
Там же, № 674, л. 7 об.
[Закрыть]. Но прошли и праздники, а Данненберг по-прежнему вынужден был жить в Петербурге. Задержка его раздражала друзей; их беспокоило и то, что Данненберг писал мало и редко. Второв послал «pecuniam» с обиженным письмом, на которое обеспокоенный Данненберг поспешил откликнуться 22 апреля: «Любезный друг Николай Иванович! Признаюсь, я не ждал получить от тебя такое письмо, или, лучше сказать, обидную записку. Ты полагаешь, что переписка с тобой мне тягостна; из чего ты это мог заключить – не знаю. Я начинаю думать, что ты не получил сочинения Некрасова; то если это в самом деле так, – следовало бы упомянуть об этом в письме; и теперь прошу тебя уведомить меня об этих книгах; я перед тобой, да и перед всяким, подлецом быть не хочу». Опасения Данненберга были напрасны: Второв получил книги. Во всяком случае, «Мечты и звуки» были в составе его библиотеки, которую он пожертвовал в пользу города в 1844 году, уезжая из Казани [158]158
Систематический каталог русских книг Казанской городской публичной библиотеки…, Казань, 1878, стр. 176 (№ 2667).
[Закрыть]. «Ты очень ошибаешься, – продолжал Данненберг, – если думаешь, что я не дорожу дружбой того, с кем я был почти все детство вместе и провел лучшие лета жизни, и следов. <ательно> кого я мог узнать хорошо. Если я в самом деле что дурно сделал, то ты еще хуже: ты послал ко мне деньги с таким обидным письмом, не сказавши о причине; ты думал, что деньги для меня дороже твоей дружбы, и ошибся, – здесь можно только нуждаться, а умереть с голоду нельзя, и ты лучше бы сделал, если бы не присылал ничего, а твое состраданиеядовито до nec plus ultra.У меня друзей так мало, что и троих не перечесть, и мне будет слишком ощутительна потеря тебя» [159]159
ГПБ, ф. 37, № 674, л. 9–9 об.
[Закрыть]. «Впрочем, кажется, этому случиться трудно», – оговаривается он, и на этом прекращает выяснение отношений, переходя на свой обычный спокойно-дружеский тон.
По-видимому, в это время он живет еще вместе с Некрасовым и тяготы, переносимые им, – это тяготы обоих. Визит к ним В. А. Панаева датируется обычно концом апреля – началом мая 1840 года [160]160
Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников, стр. 499.
[Закрыть]. Адрес, названный Панаевым, впрочем, разнится от того, который сообщал Данненберг в Казань: он вспоминал, что друзья жили «в четвертой линии, на втором этаже, окнами на улицу». Расхождения эти мы не можем сейчас объяснить достаточно убедительно; может быть, здесь ошибка памяти мемуариста, может быть – очередная смена квартиры. В мартовском номере «Пантеона русского и всех европейских театров» Некрасов печатает посвященные Данненбергу стихи; тема их – тоска по родине, по берегам Волги, с которыми «жизнь сердца связана», – равно близка и автору, и адресату. В мае, по-видимому, их совместная жизнь окончилась, вскоре после того, как в Петербург приехал казанский приятель Данненберга Владимир Александрович Деммерт. Он учился в университете в 1838–1839 годах и 5 сентября 1839 года уволился «по прошению» [161]161
Михайловский, стр. 235.
[Закрыть], чтобы повторить путь Данненберга. Еще в ноябре 1839 года последний пытался через Второва отговорить Деммерта от поездки в Петербург. «Скажи Гильтеру, чтоб он передал Деммерту, что он дурно сделал, что вышел из универ.<ситета> и хочет ехать сюда в живописцы. Это бесконечная работа; много их здесь, и надо быть выше Брюлло, чтоб иметь известность; надо проучиться лет 6 на своем содержании (1000 руб. в год) – немного невыгодно. Я лучше Деммерта рисую, и то не соглашусь быть здесь академистом живописи; здесь нынче поступают только для усовершенствования; все низшие классы уничтожены, и его, кажется, не примут; впрочем, как он хочет, а это мое мнение» [162]162
ГПБ, ф. 37, № 674, л. 3 об.
[Закрыть]. Эти увещания не возымели действия; да Деммерта, видимо, и не так легко было уговорить. В Казани он пользовался репутацией отъявленной богемы. «Я етого Демерта не очень люблю, – писала Данненбергу К. Гильтер, – он очень огорчил свою мать, что пошел в актеры, да когда он и здесь еще был, то был уже пьяница и все что вам угодно» [163]163
Там же, № 681, л. 14 об. Письмо от 27 мая 1840 года.
[Закрыть]. Данненберг защищал товарища, и Гильтер с удовлетворением приняла известие, что беспутный человек «переменил род своей жизни» и «раскаивается»; она даже готова была благословить его на новое поприще [164]164
Там же, лл. 15 об. – 16.
[Закрыть].
С этим Деммертом и поселился теперь Данненберг. «Так как ты живешь вместе с Демертом, – писал ему П. Гильтер, – то скажи ему, что я на него сердит за то, что об себе ни строчки не напишет, – я бы желал знать – что и как он» [165]165
Там же, № 683, л. 7 об. Дата: «30 мая». Год устанавливается по связи с письмами К. Гильтер.
[Закрыть]. Письмо написано 30 мая, нужно думать, что прежние друзья съехались не позднее середины месяца.
Что делал Данненберг далее – об этом мы можем судить только по письмам к нему семейства Гильтеров. К 27 мая они получают от него письмо с ошеломляющим известием, что его приезд откладывается еще на три с половиной месяца. Он не приехал ни тогда, ни позже: в октябре К. Гильтер советовала ему не ссориться с профессорами и терпеливо выносить наложенную «епитимию» [166]166
Там же, № 681, л. 19 об. Письмо от 12 октября 1840 года.
[Закрыть]. В ноябре выяснилось, что Данненбергу предстоит еще искать места; проект его, по-видимому, все еще не был принят [167]167
Там же, лл. 22, 24. Письма К. Гильтер от 23 ноября и Л. Гильтер от 28 декабря 1840 года.
[Закрыть]. Письма в Казань приходят от него все реже. 13 февраля 1841 года П. Гильтер пишет ему: «Недели две назад читал я у Вани Огнева копию с твоего письма, котор<ое> ты писал Туманову в Саратов (стихами) и между прочим прочел в нем, что в январе отправляешься в Пермь архитектором, но вот и январь проехал, да и февраль доезжает, скоро и ему карачун, а тебя все нет да нет. – Эх-ма! дурно! вот что значит одному-то жить…» [168]168
Там же, № 683, лл. 5 об. – 6. На письме ошибочная дата: 13 янв.<аря>.
[Закрыть]
Это были уже последние письма. След Данненберга потерялся в середине 1841 года – чтобы вновь открыться – неожиданно и драматически – на могильной плите казанского православного кладбища. В «казанском некрополе» Н. Агафонова мы находим его имя; он скончался двадцати пяти лет от роду 24 января 1842 года [169]169
Агафонов Н.Казань и казанцы, I. Казань, 1906, стр. 68.
[Закрыть]. Видимо, он добрался до Казани, куда так стремился, но как сложились последние полгода его жизни, успел ли он соединиться со своей невестой, от чего и при каких обстоятельствах умер – нам неизвестно.
В конце 1847 года Некрасов в обществе В. А. Панаева и нескольких других знакомых вспоминал свое еще не столь далекое прошлое, и Панаев напомнил ему о прежнем товарище; они вспомнили и о совместном житье Некрасова и Данненберга в квартире с оригинальными солнечными часами, и о щах, составлявших их дневную пищу, «и после того много, много Некрасов рассказал еще доброго о Данненберге» [170]170
Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников, стр. 43.
[Закрыть]. Ни рассказчик, ни слушатели не подозревали, конечно, что история уже дописала печальный конец этих мемуаров; они вызывали из незаслуженного небытия живой облик молодого, полного сил, веселого и одаренного человека.
В то время, когда происходил этот разговор, Некрасов и Панаева уже, по-видимому, начали писать или, во всяком случае, обдумывать новый роман «в 8 частей и 60 печатных листов», об окончании которого Некрасов сообщал Тургеневу в письме от 12 сентября 1848 года. Это был роман «Три страны света», о котором нам уже приходилось мельком упоминать: одна из его глав была названа поговоркой, употребленной в письме Данненберга.
Совпадение это могло быть случайным: ходовое речение не есть реминисценция; более того, самое авторство глав в «Трех странах света» устанавливается лишь предположительно. И вместе с тем впечатления от общения с Данненбергом, как кажется, отразились в нескольких эпизодах обширного романа. История Каютина, покидающего «на несколько лет» невесту, чтобы устроить свою и ее жизнь, находит параллель в биографии друга некрасовской молодости. «У меня нет ни гроша. Буду работать день и ночь, заработаю рублей триста – и марш» (VII, 34), – говорит Каютин Полиньке, как будто прямо повторяя фразу из другого письма Данненберга, цитированного нами выше. «…Вы лучше подумайте, в чем вы сегодня со двора выйдете», – возражает ему Полинька, – и здесь уже прямо слышатся отголоски автобиографических рассказов Некрасова о совместной жизни с Данненбергом. Мотив кольца, подаренного уехавшим женихом, и письма, подоспевшего в день рождения Полиньки (часть II, гл. II, «Рожденье Полиньки»), – не есть ли это также отзвук подлинной истории отношений Данненберга к Любови Гильтер, о которых мы узнаем из его переписки? Как и Данненберг и Панаевы, Каютин связан с Казанской губернией, где было поместье его отца и осталось имение дяди; сюда-то, в Казань, отправляется он в поисках средств для снаряжения экспедиции (часть II, гл. VIII, «Выстрел»). Наконец, подобно Данненбергу, он пишет стихи; они слегка иронически процитированы в главе «Свадьба» (часть III, гл. I), – и в той же главе мы находим его за фортепьяно: он владеет инструментом как подлинный музыкант, не только играя популярные мелодии, но и «фантазируя», импровизируя. Сходство этим, впрочем, ограничивается. Данненберг не был, конечно, прототипом Каютина; мы можем говорить лишь о близости отдельных черт личности, поведения, духовного облика. Наряду с Каютиным мы находим в «Трех странах света» и персонаж иного рода, который будет и позднее занимать воображение Некрасова: тип бедствующего художника, по-видимому приезжего в Петербурге, которому нужно зарабатывать деньги, чтобы учиться. Этот художник – Митя – живет на Васильевском острове «в шестнадцатой линии» – в непосредственной близости от временных квартир Некрасова и Данненберга; он ждет, пока ему удастся его шедевр, и связывает с ним свои надежды на будущее, как Данненберг со своим академическим проектом; тем временем он перебивается случайными заработками и умирает совсем молодым от чахотки (часть VI, гл. VIII, «Полинькины родные»). О смерти Данненберга Некрасов мог и не узнать; о какой-то болезни, быть может, чахотке, разрушающей его организм, знал отлично: в письмах казанских друзей Данненберга мы находим встревоженные вопросы о здоровье; до них дошли слухи, что молодой художник чувствует себя плохо. История Мити также могла опираться на реальные, еще не потускневшие впечатления.
Так это или нет – мы не можем сказать с полной уверенностью. Во всяком случае, такая гипотеза кажется нам не лишенной вероятия. Автобиографичность прозы Некрасова – установленный факт, и среди множества неизвестных нам по имени, но существовавших в действительности людей, давших писателю материал для художественного воплощения, естественно искать того, кто оставил в его жизни глубокий и светлый след.








