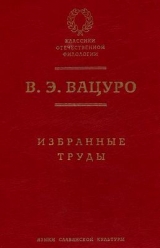
Текст книги "Статьи разных лет"
Автор книги: Вадим Вацуро
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Социальное сознание Давыдова получит в его стихах непосредственное отражение позднее, в 1828–1830 годах. Во второй половине 1810-х годов он выступает исключительно как лирический поэт. Это время – период его интенсивного творчества и продолжающихся литературных контактов. Его среда, как и прежде, – московский круг молодых последователей Карамзина, формирующий в 1815–1817 годах литературно-полемическое общество «Арзамас».
Сохранилось очень немного свидетельств об организационном участии Давыдова в «Арзамасе». Он был принят в члены 14 октября 1815 года и получил шуточное прозвище «Армянин» (из баллады Жуковского «Алина и Альсим»). На заседаниях он, по-видимому, ни разу не присутствовал.
Ф. Ф. Вигель вспоминал, что петербургские «арзамасцы» Давыдова «никогда меж себя не видали. Он находился в Москве: там вместе с Вяземским и <В. Л.> Пушкиным составили они отделение „Арзамаса“, и заседания их посещали Карамзин и Дмитриев» [330]330
Вигель Ф. Ф.Записки. Ч. V. СПб., 1892. С. 45.
[Закрыть]. Все это вряд ли достоверно и рассказано по слухам. Александр Тургенев, блюститель традиций «Арзамаса», даже не мог вспомнить арзамасского прозвища Давыдова. То, что прежними издателями Давыдова считалось его вступительной «арзамасской» речью и было в 1893 году напечатано в собрании его сочинений, является, как ныне установлено, слегка отредактированной речью Андрея Тургенева в «Дружеском литературном обществе», относящейся еще к 1801 году [331]331
Лотман Ю. М.Историко-литературные заметки. 2. О так называемой «Речи» Д. В. Давыдова при вступлении в «Арзамас» // Уч. зап. Тартуского унив. Вып. 98. Труды по русской и славянской филологии. III. Тарту, 1960. С. 311.
[Закрыть]. Однако нужно говорить не об участии Давыдова в кружке в собственном смысле слова, а о принадлежности его к неформализованной группе литераторов, которая в современной исследовательской литературе обозначается как «арзамасское братство» и которую объединял не устав и совместные заседания, а дружеские и профессиональные связи, ощущаемые как общность [332]332
См.: Гиллельсон М. И.Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974. С. 141 и след.
[Закрыть]. Эти связи и эта общность установились у Давыдова с Батюшковым, Жуковским, Вяземским еще в начале века; подобно им, он был «арзамасцем до Арзамаса». В «Арзамас» он пришел естественно и разделил с ним профессиональные интересы и даже профессиональные привычки. Он писал Жуковскому в декабре 1829 года, посылая свои стихи: «…все тебе отдаю на суд; ты архипастырь наш, président de la chambre du conseil (председатель суда. – Сост.); что определишь, то и будет…» Его письма Вяземскому пестрят настоятельными просьбами: «Прошу поправить, да непременно поправить, иначе я точно рассержусь» [333]333
Русская старина. 1903. № 8. С. 447; Письма… Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 5.
[Закрыть]. Позднее он изберет себе и других поэтических арбитров – Баратынского, Языкова. За всем этим стоит литературный быт и психология кружка, причем именно «арзамасского» кружка. И признание безусловного приоритета Жуковского в области поэтического «слога» – несмотря на любые расхождения как социального, так и общеэстетического свойства, и взаимная стилистическая критика, – все это входило в систему литературных взаимоотношений «арзамасского братства». «Критика слога» органически включалась в эстетическую программу «школы гармонической точности» с ее критериями «вкуса», «соразмерности и сообразности». И здесь возникало явление почти парадоксальное. Постоянно подчеркивая непрофессиональность, импульсивность, небрежность своего творчества и стиля, Давыдов настойчиво требует от друзей его «полировки» и в то же время сам с почти педантическим упорством работает над отдельными строками и словами. Не много найдется современников Давыдова, которые бы вносили лексические изменения почти в каждую новую публикацию и даже почти в каждую автокопию своих стихов. Давыдов делал это.
Варианты его стихов, расположенные в хронологической последовательности, дают нам очень выразительную картину типично «арзамасской» творческой лаборатории. За редким исключением, он не создает новых редакций: он отшлифовывает раз написанное на уровне строк и слов, ища логической и гармонической точности и адекватности смысловых и стилистических оттенков. Это именно критика «вкуса»; недаром же он постоянно упоминает в письмах о «нескольких пятнах грязи», которые просит вычистить, и жалуется на неточности, с которыми не может справиться сам.
Ему нужен общий поэтический фон, на котором стилистический оттенок дает семантический сдвиг, не контрастирующий, а гармонирующий с целым, и тем не менее ясно ощущаемый. Это был общий закон поэтики Батюшкова – Жуковского [334]334
См. подробнее: Лидия Гинзбург. О лирике. 2-е изд., доп. Л., 1974. С. 19–51. 2. Письма Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 9.
[Закрыть].
Давыдов оживляет, казалось бы, стертые поэтизмы, наполняя их конкретно-чувственным содержанием; он играет оттенками, обертонами, соотношениями тропа и общего контекста, – он владеет всеми теми специфическими средствами поэтического языка пушкинской поры, которые были материализацией основного эстетического требования – «вкуса» и «гармонии».
Но этого мало. Он сам принимает участие в коллективных стилистических разборах «арзамасских» стихов с позиций «гармонической точности» – и на это время сбрасывает с себя маску ученика и дилетанта, с профессиональной определенностью заявляя иной раз свое особое мнение. Блестящим примером такого разбора является письмо его Вяземскому о стихах Пушкина «Жуковскому» (июнь 1818 года), приведших в восторг Вяземского и Жуковского. Давыдов решительно противопоставляет их отзывам свое суждение. «Стихи Пушкина хороши, – пишет он, – но не так, как тебе кажутся, и не лучшие из его стихов. Первые четыре для меня непонятны. Но И быстрый холод вдохновенья Власы подъемлет на челепрекрасно! И меня подрал мороз по коже. От стиха сего до рифмы яснымне узнаю молодого Пушкина. В дыму столетийчудесно! но великаны сумракаКарамзина… что скажешь? А мысль одинакая. Замечание твое насчет злодействаи с сынамисправедливо. Теперь от рифмы окружендо рифмы земнойя слышу Василия Львовича, напев его. Но стих И в нем трепещет вдохновенье– прелестен! Вот мое мнение насчет этих стихов» 2. Это критика не только «слога» – неточностей поэтического словоупотребления. Давыдов идет дальше Вяземского; он касается вопросов лирической композиции, отмечая длинноты, ослабляющие поэтическую энергию. В «арзамасской» фразеологии имя В. Л. Пушкина, «напев» его означали вялость, «водяность» стиха. Во второй редакции Пушкин сократил послание почти наполовину, убрав и первые четыре строки, и всю вторую часть, где находились стихи, напомнившие Давыдову «Василия Львовича»; эта новая редакция создавалась уже тогда, когда Пушкину могли быть известны давыдовские замечания.
У нас есть все основания считать, что именно в «арзамасской» среде, в Москве, в конце 1817 – начале 1818 года созрела мысль об издании первого сборника стихов Давыдова. Он должен был открываться элегиями. Новый период творчества «поэта-партизана» проходил под знаком элегий, написанных им в 1814–1818 годах, посвященных разным адресатам, но ныне выстроенных в единый лирический цикл, – своего рода книга элегий, подобная IV книге «Po é sies é rotiques» Парни и, вероятно, прямо на нее ориентированная. Единство цикла обеспечивалось единством лирического героя и лирической эмоции; каждая ситуация составляла как бы главу лирического романа, обозначенную заглавием. Это собрание читал Жуковский, сделавший замечания по жанровому составу и вовсе не коснувшийся стиля.
Здесь возникает еще один ложный парадокс. Давыдов упорно требовал от Жуковского поправок, – Жуковский с таким же упорством отказывался их делать. «Ты шутишь, требуя, чтобы я поправил стихи твои. Все равно, когда бы ты сказал мне: поправь (по правилам малярного искусства) улыбку младенца, луч дня на волнах ручья, свет заходящего солнца на высоте утеса и пр. и пр. Нет, голубчик, не проведешь» [335]335
Жуковский В. А.Соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1980. С. 496 (письмо от 10 декабря 1829 года).
[Закрыть]. «Прелесть» «музы Давыдова» для Жуковского – именно в ее «небрежности», непосредственности, способности быть мгновенным отпечатком душевных движений, сохраняя ту эмоциональную энергию, которая исчезает при прикосновении «искусства». Именно ее, как мы видели, искал Давыдов в стихах «молодого Пушкина».
Это качество поэтической энергии, экспрессии сам Давыдов более всего ценил в своих стихах, употребляя для ее обозначения метафору-термин «огонь». «Огонь» в его элегиях принадлежал самому лирическому герою, решительно отличавшемуся от героя «унылой элегии», родоначальником которой был сам Жуковский и которая под пером его последователей уже начинала превращаться в канон. Элегический герой Давыдова страстен, а не уныл и не мечтателен, и роль его – действие, а не медитация. Поэтому на него не распространяются и те этические и эстетические запреты, которыми ограничена сфера чувств и поведение «унылого» элегического героя. Ему доступна ревность и желание мести; он не спиритуалистичен, а скорее чувствен. Когда Пушкин в стихотворении «Мечтателю» (1818) объявит войну концепции «унылого» элегического героя, он прежде всего поставит под сомнение подлинность его чувства и противопоставит ему давыдовского героя. Истинная любовь – не «тихое уныние», а «страшное безумие», «бешенство бесплодного желанья». Строка из VIII элегии Давыдова осмысляется здесь как формула романтической концепции любви.
Пушкин признавался, что уже в молодости под влиянием Давыдова стал писать «круче» и «приноравливаться» к его «оборотам» [336]336
Письма Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 43.
[Закрыть]. «Кручение стиха» – тоже своеобразная формула, которой Пушкин определял поэтику давыдовских элегий. При этом он имел в виду вовсе не гусарскую «грубость», которая в элегиях полностью отсутствует, а их экспрессивный рисунок. Упомянутая нами превосходная VIII элегия очень показательна в этом отношении. Поэтический синтаксис этой элегии не «элегичен» – в том смысле, в каком это слово употребляла формирующаяся теория жанра, – он принадлежит скорее ораторскому периоду. Для элегий Давыдова характерен зачин-обращение, личное или внеличное:
Возьмите меч – я недостоин брани!
Сорвите лавр с чела – он страстью помрачен!
(<Элегия I>)
О ты, смущенная присутствием моим,
Спокойся: я бегу в пределы отдаленны.
(<Элегия VI>)
Нет! полно пробегать с улыбкою любви
Перстами легкими цевницу золотую…
(<Элегия VII>)
О пощади! – Зачем волшебство ласк и слов…
(<Элегия VIII>)
Здесь не просто поэтический прием – здесь стилевой ключ. Элегия строится на вопросительной или восклицательной интонации. Это заметил Пушкин, – когда в «Андрее Шенье» он заставит заговорить элегического поэта:
Погибни, голос мой, и ты, о призрак ложный,
Ты, слово, звук пустой… —
он словно станет варьировать интонационно-синтаксический рисунок IX элегии Давыдова:
Погибните навек, мечты предрассуждений,
И ты, причина заблуждений,
Чад упоительный и славы, и побед!
Но вернемся к «Элегии VIII». Ораторская интонация нарастает; лирическая тема «возлюбленной» строится на анафорических повторах. Портрет ее возникает отраженно, в восхищенном созерцании. В нем нет никаких описаний, ни одной конкретно узнаваемой черты – как развевающиеся по ветру волосы героини батюшковской «Тавриды», – в нем говорит чистая эмоция.
…Зачем сей взгляд, зачем сей вздох глубокий,
Зачем скользит небережно покров
С плеч белых и груди высокой?
О пощади!..
Повтор, еще подчеркнутый паузой переноса, кольцеобразно замыкает тему «возлюбленной». Возникает вторая тема – «любовника»; она вступает в свои права в следующих строках, где, совершенно так же, как в первом четверостишии, лирическая эмоция нарастает, нагнетается уже средствами лексики – беспорядочно, на первый взгляд, нагромождаемыми однородными сказуемыми, словно поэт мучительно ищет единственного точного и всеохватывающего слова. Но это иллюзия: хаос здесь мнимый. Он точно выверен и рассчитан. Глаголы, призванные передать состояние героя, не тождественны по значению – они играют тончайшими смысловыми оттенками:
…я гибну без того,
Я замираю, я немею
При легком шорохе прихода твоего;
Я, звуку слов твоих внимая, цепенею…
Создается экспрессивное поле, в следующих строках еще повышающее свое напряжение:
Но ты вошла – и дрожь любви,
И смерть, и жизнь, и бешенство желанья
Бегут по вспыхнувшей крови,
И разрывается дыханье!
Этот эмоциональный гиперболизм станет затем особенностью любовной лирики 1830-х годов. Стихи Давыдова предвосхищали и поэтический «хмель» Языкова, и метафорическую экстатичность «байронистов» лермонтовского поколения, и эротику Бенедиктова. Но у Давыдова ценностные и эмоциональные ореолы слова не поглощают его логического значения, как это нередко будет случаться в поэзии 30-х годов: экспрессивность стиха умеряется требованием «гармонической точности» [337]337
О стилистических особенностях лирики Давыдова см. также: Семенко И. М.Поэты пушкинской поры. М., 1970. С. 106–20.
[Закрыть].
Элегии Давыдова ждала своеобразная судьба. Их поэтические открытия сказались не ко времени в эпоху господства «унылой элегии». Последняя в 1810-е годы была продуктивным жанром, из которого предстояло вырасти аналитической элегии Баратынского. В 30-е же годы Давыдов отказывается от этого жанра и смотрит на свои элегии как на стихи «старинной выделки». Он не сумел сам оценить своего новаторства, но очень ясно ощущал генеалогию своих стихов.
Дело в том, что корни давыдовской элегии уходили еще в доромантический период. Она создавалась не после «унылой элегии», а параллельно с ней, и ее «строительным материалом» была «легкая поэзия», анакреонтика, послание, промежуточные жанровые формы типа стансов и «песен». Поэтому-то жанровые каноны новой, преромантической элегии и не оказали воздействия на Давыдова: он прошел мимо них. В эпоху, когда русская поэзия культивировала героя шиллеровских «Идеалов» или «Падения листьев» Мильвуа, его героем продолжал оставаться элегический либертин, обрисованный в стихах Парни. Он сохранил в своей элегии и то, против чего боролись элегики новой формации: сложное переплетение стилистических и модальных планов – от гнева до лирической жалобы и иронии, от патетики до просторечия. Поэтому источники и аналоги его элегиям обнаруживаются иногда за пределами элегического жанра.
Как и ранее, он более всего близок к Батюшкову, многие стихи которого знает, вероятно, до печати. В элегии VII есть след воздействия батюшковского «отрывка» «Воспоминания»:
Я именем твоим летел под знамя брани
Искать иль славы, иль конца;
В минуты страшные чистейши сердца дани
Тебе я приносил на Марсовых полях…
Эти стихи еще не были напечатаны, когда Давыдов писал:
О Лиза! сколько раз на Марсовых полях,
Среди грозы боев, я, презирая страх,
С воспламененною душою
Тебя, как бога, призывал…
Он переводит девятую элегию Парни, как будто следуя по пятам за Батюшковым, и оказывается ближе к нему, чем к оригиналу:
Нет, нет! явлюсь опять, но как посланник мщенья,
Но как каратель преступленья…
У Батюшкова, в том же 1816 году:
Нет, в лютой ревности карая преступленье,
Явлюсь, как бледное в полуночь привиденье…
Или в «Элегии VII» Давыдова:
Никто не окропит холодный труп слезой,
И разбросает ветр мой прах с песком пустынным!
Это парафраза батюшковского «Веселого часа»:
…Ничьей слезой
Забвенный прах не окропится…
Еще более интересно, что в его элегиях оживают структурные принципы любовных стихов Карамзина, некогда прочитанных им в «Аонидах», – «К неверной», «К верной», «Послание к женщинам», «Отставка», – эти стихи, объединенные темой любви и измены, он хорошо помнил и иной раз сознательно перефразировал (см. примечание к стих. «Ответ на вызов написать стихи…»). Они уже вовсе не были «элегиями» в понимании первого десятилетия XIX века: они допускали рассуждение, сентенцию, прозаизм, иронию – все то, что исключила новая элегия и что сохранил Давыдов. В «Отставке» Карамзина мы находим уже знакомый нам случай метафорического использования профессиональной военной лексики, – такой же, как в давыдовском «Неужто думаете вы…» (кстати, в первой публикации названном «Отставка», а во второй – «Неверной»). В «Послании к женщинам» мы без труда обнаружим почти «давыдовские» патетические монологи, с вопросительными и восклицательными интонациями, с широким эмоциональным диапазоном:
Когда познаешь ты приятность вольной страсти?
Когда в тебе любовь сердца соединит,
Не тяжкая рука жестокой, лютой власти?
Когда не гнусный страж, не крепость мрачных стен,
Но верность красоте хранительницей будет?
Это все очень близко II элегии. А вот – в том же послании – темы и интонационный строй элегии VII:
О вы, для коих я хотел врагов разить,
Не сделавших мне зла! хотел воинской славой
Почтение людей, отличность заслужить…
Эту связь, видимо, и ощущал Давыдов, когда причислял свои элегии к галантной поэзии предшествующего столетия. Но он переоценивал значение их родословной, ибо сами стихи принадлежали уже новой эпохе.
Военная карьера Давыдова практически оканчивается в начале 1820-х годов. В 1819 году он женится на С. Н. Чирковой («выходит замуж», как острит Федор Толстой) и живет в Москве и под Москвой, числясь в длительных отпусках. Его неприязнь к военной бюрократии отлично известна в столице; к тому же с юных лет он пользуется репутацией неблагонадежного. В 1822–1824 годах Ермолов несколько раз просит о переводе его на Кавказскую пограничную линию, о чем хлопочут Закревский и Волконский, но на все ходатайства следует отказ. «Нет нам удачи с Денисом, – пишет Закревскому обиженный Ермолов, – и больно видеть, что неосторожность и некоторые шалости в молодости могут навсегда заграждать путь человеку способному» [338]338
Сборник Русского исторического общества (РИО). Т. 73. СПб., 1890. С. 409.
[Закрыть]. В 1823 году Давыдов окончательно выходит в отставку.
В эти годы расширяются его литературные связи. Имя его окружено ореолом легенды; реальный облик проецируется на его стихи. Молодой М. П. Погодин, встретивший его у А. В. Всеволожского, записывает в дневник: «Огонь! – с каким жаром говорил он о поэзии, о Пушкине, Жуковском.
В молодости только можно писать стихи, надобно гроза, буря, надобно, чтоб било нашу лодку отовсюду <…> Теперь я в пристани, на якоре. Теперь не до стихов! Как восхищался Байроном, рассказывал места из него <…> Негодует на Жуковского, зачем он только переводит. – Нет воображения. <…> Говорил о своем дневнике, биографии и пр. Огонь, огонь» [339]339
Пушкин и его современники. Вып. 19–20. Пг., 1914. С. 68.
[Закрыть]. Этот стилизованный портрет романтического поэта отчасти сознательно создавался самим Давыдовым.
Он легко и свободно сходится с литературной молодежью; А. А. Бестужев и Грибоедов попадают под его обаяние. В 1824 году он буквально засыпает Закревского просьбами об облегчении участи Баратынского и вместе с Жуковским и А. Тургеневым добивается наконец почти недостижимой цели; освободить опального поэта от солдатской лямки, выхлопотав ему офицерский чин и вожделенную отставку. С этого времени начинается постоянное литературное общение Давыдова и Баратынского.
Стихов в эти годы он, по-видимому, вообще не пишет и работает только над военными сочинениями: выпускает «Опыт теории партизанских действий» (1821, 1822) и публикует в «Московском телеграфе» «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона» (1825). Однако он пишет свою автобиографию – ту самую, о которой упоминал Погодин и которая была в ранней редакции готова уже в 1821 году.
Здесь, в Москве или в подмосковной, застает Давыдова известие о восстании 14 декабря. Как он принял это известие, мы не знаем. С отъездом в Москву прервались его личные контакты с членами южных обществ, и еще в 1822 году, получив стереотипное требование подписки о неучастии в масонских ложах, он с возмущением написал Закревскому, что эта «форма» для него «неприлична», так как он не был и не будет ни в масонах, ни в каких других тайных обществах [340]340
Сборник РИО. Т. 73. С. 535.
[Закрыть]. Следствие над декабристами обнаружило непричастность Давыдова к заговору, но, несмотря на это, у нового правительства он пользовался симпатиями, быть может, еще меньшими, нежели у прежнего. Неприязнь была взаимной. В «Анекдотах о разных лицах…», писанных Давыдовым для себя, рассеяно множество рассказов, рисующих Николая I в крайне невыгодном свете, – рассказов о давнем недоброжелательстве императора к кумиру Давыдова – Ермолову, о бессмысленной педантической жестокости к участникам восстания, о страхе, испытанном им 14 декабря… Хотя следствие не коснулось самого Давыдова, оно затронуло его ближайший дружеский и родственный круг – М. Ф. Орлова, В. Л. Давыдова, семью Раевских, Грибоедова, а Вяземский и Баратынский, с которыми он был тесно связан в Москве, находились в глухой оппозиции к новому режиму.
Тем не менее Давыдов рассчитывает на перемены и начинает хлопотать о возвращении на службу. Успех означал бы для него гражданскую реабилитацию. В первых числах августа 1826 года, в дни коронационных торжеств, он был принят императором и обласкан. Николай поступил с Давыдовым почти так же, как месяцем позже – с Пушкиным: он стремился нейтрализовать и привлечь на службу лучшие силы прежней оппозиции. Вместе с тем здесь был и более близкий, прагматический расчет: представление Давыдова роковым образом совпало с началом русско-персидской войны.
Николай I отправил Давыдова на Кавказскую линию, к Ермолову, сделав то, чего Ермолов и Давыдов тщетно добивались от Александра I в течение двух лет. Но устранение Ермолова было уже предрешено императором: несколькими днями ранее на линию был отправлен генерал И. Ф. Паскевич, формально в качестве помощника, подчиненного Ермолову, фактически – как его преемник, с особыми полномочиями.
15 августа Давыдов выехал на Кавказ, «со стесненным сердцем» и обливаясь слезами, как признавался он потом в «Воспоминаниях о 1826 годе» [341]341
Давыдов Д. В.Соч. Т. 2. С. 192.
[Закрыть]. Несмотря на его бодрые заявления в письмах к Закревскому, что он готов «грянуть» и что «надо по крайней мере еще лет пять и две или три войны, тогда только уломают бурку крутые горки» [342]342
Сборник РИО. Т. 73. С. 536–541.
[Закрыть], осуществление его мечты о «войнишке» оказалось для него полной неожиданностью. Он был не слишком молод, не вполне здоров, он отправлялся в места, охваченные эпидемией, оставляя детей и беременную жену. Его письма жене с дороги выдают его душевную депрессию [343]343
Орлов Вл.Судьба литературного наследства Дениса Давыдова // Лит. наследство. Т. 19–21. М., 1935. С. 330–331.
[Закрыть]. Часть пути он совершает вместе с Грибоедовым, только что освобожденным из-под ареста; их разговоры, несомненно, касаются событий 14 декабря и судьбы, ожидающей Ермолова с приездом Паскевича.
Все эти обстоятельства подготовили тот надлом, который пережил Давыдов в 1826–1827 годах и который прямо отразился в его поэтическом творчестве. Современные свидетельства очень выразительно рисуют нам начавшееся сразу после приезда Паскевича резкое обострение отношений между генералами и атмосферу доносов, наушничества и тайных интриг, которая окружила Давыдова в сентябре 1826 года. Ноты разочарования звучат в дневнике Н. Н. Муравьева: легендарный партизан не оправдывает своей славы – он слаб, нерешителен, не очень храбр, изнежен и капризен [344]344
Муравьев-Карский Н. Н.Записки // Русский архив. 1889. № 4. С. 590–592, 602; № 9. С. 67–68. Об участии Давыдова в военных действиях см.: Нерсисян М.Из истории русско-армянских отношений. Кн. 2. Ереван, 1961. С. 7–37.
[Закрыть]. В этих характеристиках сказывалась, конечно, и личность мемуариста – педантического службиста с гипертрофированным семейным самолюбием. Но они – свидетельство из «ермоловского лагеря», и Давыдов в них узнаваем. Он растерян, как растерян и сам Ермолов, подозревавший всех, временами даже Муравьева и Давыдова. От всесильного некогда проконсула Кавказа постепенно отворачиваются друзья и преданные подчиненные – и его охватывает страх: страх перед возможными неудачами, гневом императора, кознями Паскевича. Когда он говорит о неизвестности, его ожидающей, голос его дрожит, он плачет. Это не просто индивидуальные черты поведения Ермолова или Давыдова – это социально-психологическая атмосфера 1826 года с ее подавленностью и всеобщим страхом. Она прямо отражается в стихах Давыдова 1826–1827 годов: в «Полусолдате», в «Партизане», где ясно слышатся нотки психологического диссонанса. Здесь биографические мотивы вырастают до социального обобщения.
Сам Давыдов был одним из немногих, кто сохранил верность опальному генералу и кто провожал его, когда тот, подав прошение об отставке и получив ее, отправился «инвалидом» в свое имение, в апреле 1827 года. Сопровождавший их А. С. Гангеблов, поручик Измайловского полка, член Северного общества, служивший под надзором после десятимесячного заключения в Петропавловской крепости, сохранил в своих воспоминаниях выразительный эпизод: Давыдов обратил на него ласковое внимание лишь после того, как узнал его историю [345]345
См.: Гангеблов А. С.Воспоминания декабриста. М., 1888. С. 125–126.
[Закрыть].
Давыдов покинул Кавказ почти сразу же вслед за Ермоловым, отнюдь не улучшив, а, напротив, ухудшив свою репутацию в глазах властей. Паскевич поступил с ним по испытанному способу: он медленно, но неуклонно устранял его от дел, пока Давыдов не подал в отставку. «Я увидел, что меня хотят спровадить, – писал он Закревскому 10 августа 1827 года, – и просился прочь, это приняли с восхищением от неимения ко мне доверенности. <…> Я уехал, но несправедливость сия так потрясла всю нравственную систему мою, что я занемог, и серьезно…» [346]346
Сборник РИО. Т. 73. С. 549.
[Закрыть]
С этого времени в его стихи входит тема «гонителей» и «гонимых».
Он пишет «Бородинское поле» (1829) – одну из лучших русских исторических элегий 20-х годов, полную ностальгии по «гомерическому», героическому прошлому, эмблемой которого становятся имена Багратиона, Раевского и Ермолова, что звучало уже как прямой вызов. Вслед за тем он упоминает о себе, их соратнике, чью судьбу «попрали сильные…». Идея выражена в тексте прямо и недвусмысленно и не нуждается в специальном объяснении, – она почти та же, что в лермонтовском «Бородине». Менее очевидно для современного читателя художественное новаторство «Бородинского поля».
Чтобы оценить его по достоинству, следует иметь в виду, что «рустическая элегия», живописующая патриархальное сельское уединение, была в 1820-е годы живым жанром и что его поэтические темы и ценностные характеристики были предопределены в ней еще знаменитым вторым эподом Горация «Beatus ille…» – о счастливой судьбе земледельца, возделывающего наследственное поле. В 1807 году в бою при Прейсиш-Эйлау Давыдов вспоминал «Тибуллову элегию „О блаженстве домоседа“». Здесь определялись поэтические темы и образы с устойчивой системой коннотаций (сопутствующих значений): «покой» – мир, благоденствие, природа, семейные радости; «война» – убийство, смерть, жестокость. В IX элегии (1818) сам Давыдов находится в пределах этого круга понятий:
В уединении спокойный домосед
И мирный семьянин, не постыжусь порою
Поднять смиренный плуг солдатскою рукою…
Но уже в 1824–1825 годах, в период первой отставки, в его письмах кристаллизуется остро контрастная словесная тема «солдата-хлебопашца» (письмо А. А. Бестужеву, 18 февраля 1824 года). Она достигает своего апогея в двух письмах к А. И. Якубовичу: «тяжело было снести то равнодушие, с каким оттолкнули меня в толпу хлебопашцев» (14 марта 1825). В следующем письме он с восхищением пишет о «богатырских и великодушных» деяниях Якубовича, «несущих на себе отпечаток чего-то гомерического, веющих запахом времен поэтических, ныне столь плоских и прозаических» [347]347
Давыдов Д. В.Соч. Т. 3. С. 156–158.
[Закрыть]. Итак, определяется новая система коннотаций: «война» – подвиги, поэзия, деятельность; «покой» – бездействие, угасание, будничная проза. Именно эта система поэтических представлений объясняет, почему Давыдов в 1829 году нарушает свое поэтическое безмолвие посланием к Е. Зайцевскому, – не к Пушкину, не к Вяземскому, не к Баратынскому, но к поэту очень ограниченного таланта, к тому же лично ему вовсе неизвестному. Герой-воин и одновременно стихотворец для Давыдова – символическое воплощение поэзии в «плоские и прозаические» времена. «Земледелец-гусар» стихов 1829 года – жертва века, оксюморонное сочетание, аномалия. Эта поэтическая концепция, решительно противостоящая традиционной, и развита в «Бородинском поле»:
Счастливцы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы.
Крошечная эпитафия «На смерть N.N.», относящаяся к тому же 1829 году, довершает картину. Она считалась всегда посвященной Ермолову, но реалии ее, кажется, указывают на другое лицо. В 1829 году умер Н. Н. Раевский. С его смертью для Давыдова уходила в прошлое целая эпоха.
Смерть Раевского стала событием общественным – и почти символическим. М. Ф. Орлов, «государственный преступник», пощаженный Николаем по ходатайству брата и безвыездно заключенный в своем имении, откликнулся на нее «Некрологией», изданной анонимно (1829); Пушкин немедленно отрецензировал ее в «Литературной газете» (1830). «Желательно, – замечал он, – чтобы то же перо описало пространнее подвиги и приватную жизнь героя и добродетельного человека» [348]348
Пушкин.Полн. собр. соч. Т. 11. М.; Л.: АН СССР, 1949. С. 84.
[Закрыть]. Именно эта концепция, очень характерная для декабристских социально-этических представлений (подлинным героем может быть только добродетельный человек), легла в основу «Замечаний на некрологию Н. Н. Раевского», написанных Давыдовым в 1830-м и изданных отдельной брошюрой в 1832 году. Здесь содержалась апология гражданских добродетелей Раевского, приобретавшего под пером Давыдова черты «Агриколы, или Эпаминонда, или Сципиона», воина-философа, равнодушного к славе и почестям и со стоическим мужеством переносившего удары судьбы. О трагедии Раевского он говорит подробно и прозрачно; читатель 1830-х годов, воспитанный на аллюзионной литературе, мог безошибочно подставить конкретные факты: арест двух зятьев – М. Орлова и С. Волконского, отъезд в Сибирь любимой дочери, смерть маленького внука; подозрения и наговоры, окружившие его самого и сыновей. Этот-то человек вырастал под пером Давыдова в символическую фигуру древнего римлянина, противопоставленного «смрадной» современности, «коснеющей в тесной, себялюбивой расчетливости» [349]349
Давыдов Д. В.Соч. Т. 3. С. 114.
[Закрыть]. Когда Давыдов неосторожно показал рукопись Я. И. де Санглену, некогда главе тайной полиции, тот «откровенно заметил ему, что много либеральных, неуместных идей, печатание которых опасно». Так рассказывал де Санглен Николаю I и получил заверение императора, что и сам он не верит Давыдову, «которого выгнал Паскевич из армии» [350]350
Русская старина. 1883. № 3. С. 571–572.
[Закрыть]. Это происходило в 1830 году; Давыдов дал всей истории широкую огласку; он жаловался Закревскому, начальнику московской полиции А. А. Волкову, своему старинному знакомому, на добровольный шпионаж де Санглена; возникла официальная переписка, которая лишь вредила Давыдову в глазах высшей власти [351]351
См.: Русская старина. 1898. № 6. С. 561–563; Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина. Т. IX. М., 1910. С. 346.
[Закрыть]. Тем не менее он в 1832 году печатает свои «Замечания» и одновременно включает в свой сборник эпитафию «N. N.», прямо направленную против гонителей героя.
В 1831 году он делает еще одну – и последнюю – попытку напомнить о себе как боевом генерале: добивается командования отдельным отрядом в кампании 1830–1831 годов и участвует в нескольких упорных сражениях. На этот раз правительство считает нужным наградить его: он получает чин генерал-лейтенанта и орден святого Владимира 2-й степени. Из войны он выносит еще укрепившуюся неприязнь к российской военной бюрократии, к старому своему знакомцу И. И. Дибичу и старому врагу – великому князю Константину Павловичу, о чем он прямо написал в своих записках, дав почти гротескный портрет того и другого.
Начинался последний период его литературного творчества. В конце 1820-х годов Давыдов живет в своем именин Маза Симбирской губернии Сызранского уезда, по временам наезжая в Пензу, в Саратов. Деля свое время между хозяйственными делами, травлей волков по пороше и визитами к соседям-помещикам – Сабуровым, Бекетовым, Столыпиным, он обращается к поэзии как к жизненной необходимости. «Мне необходима поэзия, – пишет он Вяземскому, – хотя без рифм и без стоп, она величественна, роскошна на поле сражения, – изгнали меня оттуда, так пригнали к красоте женской, к воспоминаниям эпических наших войн, опасностей, славы, к злобе на гонителей или на сгонителей с поля битв на пашню. От всего этого сердце бьется сильнее, кровь быстрее течет, воображение воспаляется – и я опять поэт!» [352]352
Письма… Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 22.
[Закрыть]








