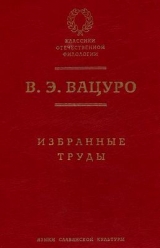
Текст книги "Статьи разных лет"
Автор книги: Вадим Вацуро
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Все эти стилистические тенденции нашли место и в поэтическом отклике Зайцевского на смерть Пушкина, где живые черточки реального облика поэта, памятные автору по личным впечатлениям, наложились на образ вдохновленного свыше романтического «певца». Судя по тону и содержанию стихотворения, оно было непосредственным откликом на известие о гибели Пушкина. На эту мысль наводит, в частности, концовка стихотворения с несколько наивной угрозой «разрядить» в Дантеса пистолет. Неосуществимая мечта о «мщении» Дантесу (естественная, впрочем, для «моряка-солдата») спорадически возникала в обществе под влиянием первого потрясения: напомним о намерении Л. С. Пушкина вызвать Дантеса на дуэль и о распространившемся слухе, что то же самое собирался сделать Мицкевич [280]280
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1974. С. 157; Русский архив. 1905. № 8. С. 607. Ср. совершенно такую же реакцию М. Орбелиани, о которой сообщал А. А. Бестужев-Марлинский брату 23 февраля 1837 г. ( Бестужев-Марлинский А. А.Соч. в 2-х т. Т. II. М.; Л., 1958. С. 673–674).
[Закрыть].
Зайцевский прожил в Италии до конца жизни – почти тридцать лет, лишь изредка заезжая в Россию (например, в 1840–1841 гг.); с 1846 г. он состоял при русской дипломатической миссии в Неаполе. По-видимому, он стремился, насколько возможно, сохранить свои прежние связи. В бумагах С. А. Соболевского осталось несколько его писем за 1840-е годы [281]281
ЦГАЛИ, ф. 450, оп. 1, № 3, л. 242–245; № 11, л. 145 об. – 153.
[Закрыть]. В 1853 г. его видел в Венеции Вяземский, отметивший в своем дневнике: «Вечером был у Кассини и видел там Зайцевского, переселившего себя в Италию, когда, казалось бы, России почва совершенно по нем. В русской судьбе много таких странностей. Бедный Пушкин не выезжал из России, а Зайцевский не выезжает из Италии» [282]282
Вяземский П. А.Полн. собр. соч. Т. X. СПб., 1886. С. 27–28.
[Закрыть]. С Кассини Зайцевского также связывало давнее знакомство: сохранилось письмо Зайцевского В. Ф. Одоевскому 1839 г. с просьбой взять под свое покровительство Кассини, русского консула в Триесте, отправляющегося в Петербург [283]283
ГПБ, ф. 539 (В. Ф. Одоевского), оп. 1, № 523 (письмо от 14 марта 1839 г.).
[Закрыть].
Эти связи, может быть, объясняют отчасти помету «Триест» под стихотворением Зайцевского. Когда Н. А. Маркович, некогда однокашник Соболевского, посетил во время своего заграничного путешествия Триест (это произошло в ноябре 1857 г.) [284]284
См. в собрании путевых реликвий Марковича афишу Большого театра в Триесте с датой 8 ноября 1857 г.: ИРЛИ, ф. 488, № 46, л. 65.
[Закрыть], он, по-видимому, встретил там Зайцевского, и «бывший поэт» записал для его альбома свои старые стихи, которым придавал особое значение. Имя Пушкина в них было символичным: оно возникало как своего рода знак связи их автора с Россией, ее культурной традицией и даже как знак принадлежности его к поэтическому цеху. Впрочем, это лишь гипотеза, хотя, на наш взгляд, и наиболее вероятная; если же «Триест» обозначает не место записи, а место создания стихотворения, тогда нужно предполагать какие-то встречи Зайцевского с Марковичем в России, о которых до нас не дошло никаких сведений.
4
Если два первых стихотворения нашей публикации принадлежат перу профессиональных поэтов, то автор остальных стихов, по– видимому, дилетант. Личность его нам неизвестна. От него сохранилась тетрадь стихов 1837–1839 гг., как правило, в беловых автографах, подвергшихся затем небольшой правке. Поэтические достоинства большинства из них невысоки, хотя встречаются и стихи вполне профессиональные, на уровне массовой журнальной поэзии 1830-х годов («К черным глазам», 1837; «К картине „Петр Великий на Ладожском озере“», 1839). В печати они неизвестны, – во всяком случае ни одного из них нам не удалось обнаружить ни в периодических изданиях, ни в регистрах рукописей цензурного комитета за ближайшие годы. Из помет в рукописи и скудных автобиографических признаний в самих стихах явствует, что автор их был военным и в летние месяцы 1837–1838 гг. нес службу в Красном Селе, куда выезжали на лето в лагеря гвардейские части; что в 1839 г. он был в Бородине, где праздновался юбилей знаменитого сражения. Последняя дата стоит под стихотворением «К памятнику Бородинской битвы». Сам он, по-видимому, был выходцем из Новгородской губернии, о чем нам придется говорить несколько ниже. Никаких других биографических указаний в стихах нет.
Несколько больше мы узнаем о литературной и идеологической ориентации автора. Гвардейский офицер был настроен официозно-монархически. В 1837–1839 гг. он создает обширную поэму о пожаре Зимнего дворца, преисполненную верноподданнических чувств; официальным пафосом насыщены и его стихи «К колонне Александра I» (1839). Во всем этом ощущается осознанная позиция. Автор внимательно следит за современной ему литературой и журналистикой: в его сборнике мы находим целый ряд откликов на культурные события времени. В этом-то сборнике он и помещает несколько стихотворений, посвященных памяти Пушкина.
Пушкин занимает исключительное место в сознании нашего поэта. На первой же странице он записывает четверостишие «К гению» (с пометой «1837 года Генваря 30-е. С. П.<етербург>»):
Четверостишие очень характерно. Оно пишется как эпитафия – на следующий день после смерти Пушкина – и резюмирует его творческий путь в духе широко распространенной в 1830-е годы концепции затухания его творчества. При всем том Пушкин остается для него «гением», и начинает он эпитафию с парафразы пушкинских стихов, впрочем, также становящейся уже общим местом: и А. И. Полежаев («Венок на гроб Пушкина», 1837), и С. И. Стромилов («Пушкин», 1837) включают ее в свои надгробные стихи [286]286
См.: Каллаш В. В.Русские поэты о Пушкине. М., 1899. С. 73, 78.
[Закрыть]. Через неделю – 7 февраля – из-под пера неизвестного автора выливается уже целый цикл стихов о Пушкине. И содержание их, и хронология представляют немалый интерес.
К этому времени в поле зрения нашего автора было уже некоторое количество изустных сведений о дуэли и смерти Пушкина, печатные извещения (в том числе знаменитый некролог в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» от 30 января: «Солнце нашей поэзии закатилось…») и иные источники, о которых сказано ниже. Слухами о подробностях дуэли был полон Петербург; не исключено, что неизвестный нам поэт побывал и на квартире Пушкина или на отпевании 1 февраля, куда собрался весь мыслящий Петербург. Во всяком случае и в «Думе на смерть П<уш-кин>а», и в дополняющем ее «Отдельном отрывке» мы находим следы петербургских толков. Иной раз источники прямо цитируются: «Так, наше солнце закатилось! Так, луч поэзии погас!». В других случаях сообщаются детали, восходящие к рассказам ближайших друзей Пушкина: о жестоких предсмертных страданиях поэта, заставлявших его желать скорейшей кончины, – об этом много позднее писали А. И. Тургенев и В. И. Даль [287]287
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1974. С. 230; Пушкин и его современники. Вып. VI. СПб., 1908. С. 55.
[Закрыть]. Неожиданной выглядит лишь осведомленность нашего автора в том, что касается места погребения Пушкина: оно совершилось 6 февраля, а уже на следующий день он подробно описывает местонахождение могилы – «в Святогорском монастыре, неподалеку от его (Пушкина – В. В.) деревни, там же погребена и родительница его, – и это место было им самим избрано». Он упоминает и «Святой Горы песок отрадный», и в этом замечании, сделанном вскользь, ощущается след непосредственных зрительных впечатлений. Нет сомнений, что могилу Н. О. Пушкиной он видел сам, посетив Святогорский монастырь в промежуток между апрелем 1836 и январем 1837 г., и, видимо, тогда же узнал, что Пушкин купил соседнее место для себя; может быть, он слышал и о том, что Пушкин хвалил сухую и песчаную землю [288]288
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 200, 196.
[Закрыть]. 1 марта 1838 г. датирована в рассматриваемой тетради «Элегия», где прямо описывается Святогорский монастырь:
Высокий курган – на нем храм со крестом,
Зовется Святой он Горою!
Такая осведомленность перестанет быть удивительной, если мы вспомним, что автор происходил из Новгородской губернии. Берега Волхова он называет своими родными местами («Мысли на берегах Волхова»); под одним из его стихотворений («Прости») стоит помета: «Званка 1837. Сент. 11».
Таковы реалии стихотворения, небезынтересные уже сами по себе. Но ими не исчерпывается историко-литературное значение стихотворения. «Дума на смерть П<ушкин>а» является одним из самых ранних (если не самым ранним) поэтических откликов на лермонтовскую «Смерть поэта». Сравним отдельные строки обоих произведений:
«ДУМА НА СМЕРТЬ П<УШКИН>А»
[Потерянный во мненьи света]
[Играя славою чужой]
Он поднял руку на поэта
Свершил удар…
Погас! и смолкли дивны звуки;
Не взвеселит он больше нас
Кто дивный светоч был для нас
«СМЕРТЬ ПОЭТА»
Восстал он против мнений света
Не мог щадить он нашей славы
На что он руку поднимал!
Навел удар…
Замолкли звуки чудных песен
Не раздаваться им опять
Угас, как светоч, дивный гений
Строки из «Смерти поэта» входят, таким образом, в число опорных заимствованных формул, на которых строится стихотворение неизвестного поэта. Принципиальный смысл их, однако, изменился, и самый образ Пушкина в восприятии этого автора не только не тождествен лермонтовскому, но противоположен ему. В «Думе на смерть П<ушкин>а» социальный смысл конфликта снят; он перенесен в плоскость национальную. И здесь нам приходится обратить внимание на другой ряд поэтических ассоциаций – уже со стихами Пушкина:
«ДУМА НА СМЕРТЬ П<УШКИН>А»
Он равным зрел неравный бой
Да будет тих величья сон
ПУШКИН
И равен был неравный бой
«Бородинская годовщина»
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон
«Перед гробницею святой»
«Отдельный отрывок» и «Врагам всего, что русским мило…», проясняющие окончательно концепцию «Думы на смерть П<ушкин>а», являются прямой парафразой стихов «Клеветникам России» и «Бородинской годовщины». Итак, в поэтическом сознании автора прежде всего «антифранцузские» стихи Пушкина, понятые прямолинейно и примитивно, в духе «официальной народности» и официального патриотизма. Пушкин рассматривается как жертва «клеветников, врагов России», «гнездо» которых есть средоточие мятежей против законной легитимной власти. Здесь монархические чувства неизвестного автора разыгрываются до такой степени, что он прямо начинает угрожать Франции разорением, которое должно совершиться под эгидой имени Пушкина. Чудовищность этой идеи, впрочем, кажется, заставляет его остановиться и дописать к своим стихам примирительный «постскриптум», где непосредственный виновник гибели Пушкина Дантес отделен от нации в целом.
Перед нами, таким образом, случай ярко официозного освещения социальной трагедии, и он весьма интересен, так как обращает наше внимание на некоторые особенности создавшейся в 1837 г. общественной ситуации. Известны донесения Либермана, сообщавшего прусскому двору об антифранцузских настроениях, проявившихся, в частности, во время похорон Пушкина, и анонимные письма этого же времени, обвинявшие в гибели поэта иностранцев [289]289
См.: Щеголев П. Е.Дуэль и смерть Пушкина. М.; Л., 1926. С. 384; Поляков А. С.О смерти Пушкина (по новым данным). Пб., 1922. С. 42.
[Закрыть]. Эти настроения встречали негласную поддержку при русском дворе, резко отрицательно настроенном к французской парламентской системе и к правительству Луи-Филиппа. Стихи гвардейского поэта были их подчеркнутым выражением; они не могли бы быть допущены к печати из дипломатических соображений, но ни в коей мере не могли стать предметом политического преследования. И здесь достойно внимания, что официозно настроенный поэт неожиданно берет себе в союзники Лермонтова. «Смерть поэта» – разумеется, без последних 16 строк, еще не существовавших к 7 февраля 1837 г., – он рассматривает как отражение той же, близкой ему, «антифранцузской» точки зрения. Это, конечно, аберрация, но легко объяснимая, и она проливает свет на парадоксальные на первый взгляд особенности цензурной истории стихотворения Лермонтова. А. Н. Муравьев вспоминал, что «бурю» против Лермонтова вызвала последняя строфа; в остальной же части стихотворения ни он, ни А. Н. Мордвинов, ни Бенкендорф не нашли «ничего предосудительного» [290]290
М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. [М.], 1972. С. 196.
[Закрыть]. Заключительные 16 строк проясняли адрес лермонтовской инвективы; без них стихотворение можно было при желании трактовать в почти официозном духе, как это сделал неизвестный нам поэт. Любопытно, что С. А. Раевский в своем «Объяснении» по поводу этих стихов прямо пытался навести власти на такое толкование, подчеркивая, что они направлены против «иностранцев», не подлежащих русскому суду; он обращал внимание на патриотические настроения Лермонтова и в доказательство приводил его стихи «Опять народные витии…» – подражание стихотворению Пушкина «Клеветникам России» [291]291
Висковатый П. А.М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891. Прилож. IV. С. 12–13.
[Закрыть].
Следы подобной трактовки мы улавливаем и позже; при этом важно отметить, что сам Лермонтов ее учитывает и недвусмысленно противодействует ее распространению. В декабре 1839 г. секретарь французского посольства барон д’Андрэ от имени посла де Баранта осведомляется у А. И. Тургенева: «…правда ли, что Лермонтов в известной строфе своей бранит французов вообще или только одного убийцу Пушкина?». Лермонтов спешит сообщить Тургеневу точный текст, из которого оказывается, что «он и не думал поносить французскую нацию». Этот эпизод разыгрывается в напряженный момент франко-русских отношений и накладывает отпечаток на всю историю дуэли Лермонтова с сыном Баранта. «Заключительной репликой» этого спора, по удачному выражению Э. Г. Герштейн [292]292
Герштейн Э.Дуэль Лермонтова с Барантом // Литературное наследство. Т. 45–46. М., 1947. С. 408 и след.
[Закрыть], было «Последнее новоселье» Лермонтова – по общему мнению, стихи «антифранцузские», в которых, однако, автор, как будто предупреждая подобное толкование, ставит один очень важный и симптоматичный «пушкинский» акцент:
Сказать мне хочется великому народу:
Ты жалкий и пустой народ.
Резкая характеристика относится к буржуазной «толпе», «растоптавшей в пыли» национальную славу, и она требует объяснений и обоснований («Ты жалок потому…» и т. д.). «Великий народ» – историческая характеристика, атрибутивно присущая нации в целом. Здесь совершенно тот же ход мысли, что и в пушкинской статье «Последний из свойственников Иоанны д’Арк»: «Жалкий век! Жалкий народ!» [293]293
См.: Герштейн Э.Послесловие // Ахматова Анна. О Пушкине. Статьи и заметки. Л., 1977. С. 312.
[Закрыть].
Таковы проблемы, которые ставит перед нами новонайденный текст [294]294
Непосредственное отношение к Пушкину в анализируемой тетради имеет также стихотворение «И. А. К<рылову> (по случаю праздника 2 февраля 1838 г.)», написанное 3 марта 1838 г., где Пушкин упоминается наряду с Крыловым как вершинное явление современной поэзии. Эти стихи также не были напечатаны и не учтены в библиографии немногочисленных поэтических откликов на крыловский юбилей. См.: Кеневич В.Библиографические и исторические примечания к басням Крылова. 2-е изд. СПб., 1878. С. 323 и след.
[Закрыть].
Б. М. Федоров
<3. И. Юсуповой>
Восторгом мысль моя согрета:
Вы были дивный идеал,
Когда любимого Поэта
Ваш голос славу защищал.
Ценя и мысль, и выраженье,
И чувства пламенной мечты,
Вы сами были вдохновенье
И чистый гений красоты.
Хоть мимолетно Вы касались
Струн лиры Пушкина златой,
Их звуки в сердце отзывались,
Чаруя, властвуя душой.
Вот лучший лавр его могилы.
О, если б он услышать мог,
Кто был его защитник милый,
Покров бы смертный он расторг…
Он возвратился б снова миру;
Душою Гений не угас;
Но Вам бы – посвятил он лиру,
И все звучал бы он – о Вас!..
Е. П. Зайцевский
Памяти Пушкина
Тебя с надгробным отпеваньем
Не проводил к усопшим я,
Последним смертным целованьем
Не целовал в уста тебя,
Твой гроб, омоченный слезами,
Не я в могилу опустил
И горстию земли с друзьями
Его с молитвой не прикрыл.
Под чуждым небом смерть Поэта
Оплакал одиноко я.
Носясь в сиянье славы света,
Да внемлет днесь мне тень твоя…
О Пушкин! Пушкин! Кто б пророком
Твоей кончины ранней был?
Тебя дух юности живил,
Во взоре голубом, глубоком
Играла жизнь избытком сил;
Как грива льва, власы кудрями
Струились темною волной,
Над величавой головой
Горел и вился гений твой,
Бессмертья окружен лучами.
И, сладкогласный лебедь, ты
В страны взносился неземные,
С своей воздушной высоты
Ты пел нам песни золотые.
Высоким, сладким пеньем сим
Россия в торжестве внимала
И с гордостью тебя своим
Любимым сыном называла.
Твой свежий лавр навек вплетен
В венец лавровый Николая,
Ты жил, нас славой покрывая,
Народом и царем почтен.
Ты вдохновенные искусства
Своею лирой освятил,
Нам выражал России чувства,
Поэтов русских князем был…
И вдруг, пришельцем безыменным,
Зашедшим к нам бродяг путем,
Принятым с лаской, накормленным
За радушным у нас столом,
Ты смертным поражен ударом…
И вот твои отрады, Русь!
Под черным гроба покрывалом
Схоронены навек…
О Русь!
Многих твоя уж правит тризна,
И каждый твой пришлец, как вран,
Питается от наших ран,
От ран и язв твоих, Отчизна!..
Я мысленно перед могилой
Твоей колени преклонил
И прах святой, России милый,
Слезами скорби оросил.
Моряк-солдат, я был поэтом,
Я лиру Пушкина любил,
И первый Пушкин перед светом
Меня от Муз благословил,
Нас всех увлек своим полетом…
Тебя уж нет для нас, поэт!
Мы в сиротстве остались грустном;
Но мой заряжен пистолет,
И на твоем убийце гнусном,
России мщением зажжен,
Он будет мною разряжен…
З-ий.Триест.
Неизвестный автор
Дума на смерть П<ушкин>а
Великий Рим! ты в скорби час
Постиг, что́ Гения утрата,
Ты слезы лил, когда погас
Твой лебедь сладостный Торквато.
Ты б и теперь, великий, дал
Народу грустному десницу
И нашей скорби колесницу
Ты б с нами вместе провожал!
Главу ты гордую склонял
Пред тем, кто истинно был славен;
Везде талант ты ободрял
И мнил, что гений всюду равен.
Так, благородный гражданин!
Тебе совместны эти чувства,
И чтит душою славянин
Тебя, как колыбель искусства.
Но вы, упадшие душой,
Челом поникшие – разврату!
Вас веселит преступный бой,
Вы нашей тешитесь слезой;
Вы рукоплещете собрату —
Преступнику, кто сокрушил
Своей рукою дерзновенной
Кумир, для русского священный,
И Русь в унынье погрузил.
Убийца Гения, он мнил,
Что, стоя смерти на пороге,
Он не убийство совершил,
Коль жизнь его была в залоге.
Враждою сильной [295]295
Было: Преступной страстью
[Закрыть]пламенея,
Преступник [296]296
Было: Пришлец, – он
[Закрыть]жертвовал собой
И в дикой ярости злодея
Он равным зрел – неравный бой!
Отринутый презреньем света [297]297
Было: а. Потерянный во мненьи света; 6. Одна ль ступень была их света!..
[Закрыть],
Пришлец бесславный, всем чужой [298]298
Было: Играя славою чужой,
[Закрыть],
Он поднял руку на поэта
И, став при двери гробовой,
Свершил удар, – но рок ужасный
Ему отсрочил казни час,
Он жив – а лебедь наш прекрасный
В начале дней своих – погас!
Погас! и смолкли дивны звуки;
Не взвеселит он больше нас,
В нем заглушили песни муки,
И страшен был последний час!
«Как пальма, смятая грозою»,
Сокрыв страданье от людей,
Он лишь к друзьям взывал с мольбою
Слова последние: «скорей!».
Так, наше солнце закатилось!
Так, луч поэзии погас!
Того уж нет, кем
Русь гордилась,
Кто дивный светоч был для нас!
Чья песнь, как проповедь святая,
Пленяла русские сердца, —
Тем жизнь окончена земная;
Он в лоне мира и Творца.
Ликует смерть, похитив славу,
Убийца в ужасе стоит!
Объяла горесть всю державу —
И песнь надгробная звучит!
Могила свежая разрыта;
Земля, гордясь, готовит сень,
И, белым саваном покрыта,
Нисходит к ней святая тень.
Свершилось все: певец угас!
Он спит под сенью благодатной!
Да будет Меккою для нас
Святой Горы песок отрадный!! [299]299
А. С. Пушкин погребен Псковской губернии <в> Святогорском монастыре, неподалеку от его деревни; там же погребена и родительница его, – и его место было им самим избрано. ( Примеч. автора).
[Закрыть]
Да будет тих величья сон, —
Как в час явления денницы
Заря осветит небосклон, —
Так светит луч его гробницы.
Туда зовет родная тень!
Туда душа моя несется!
И, мнится, там светлее день,
И сердце славою упьется!
Туда, туда!.. но не дерзнет
Стопа убийцы вслед за мною
Переступить святых ворот
И прах его омыть слезою!
Злодейству места с славой нет!!
Тобой там воздух заразится;
И под пятой завянет цвет,
И кровь святая задымится!!
Твой жребий – Каина удел!
Бежать тех мест, где злодеяньем
Ты положил себе предел
И осудил себя изгнаньем!
Беги, злодей! Терзай себя!
Здесь не взведут тебя на плаху!
Земля чуждается тебя —
И твоего не примет праха!
Да будет казнь тебе одно:
Багрить над грешным изголовьем
Твое кровавое пятно,
И всех проклятие – надгробьем!
1837 года февраля 7.С. Петербург.
Врагам того, что русским мило…
Враги того, что русским мило!
Разгульный пир теперь у вас.
Вы мните: вот того могила,
Кто восставал грозой на нас,
Чей стих, как хартия завета,
Напомнил вечный наш позор;
Кто пел величье полусвета,
Тот, наконец, закрыл свой взор!
Пируй, мятежная семья!
Пей чашу дикого веселья!
Ликуй на грани бытия!..
Но жди кровавого похмелья:
Терпенью близится конец,
Блестит меч грозной Немезиды,
И скоро кровью мы обиды
Омоем в ярости сердец!
Тогда Его святая тень
Под небом Ф<ранции> явится,
Вас озарит кровавый день,
И месть ужасная свершится;
Полки славян вам пир дадут,
Родною тенью в бой ведомы,
Как вихрь, размечут ваши домы
И имя Ф<ранции> сотрут!
Тогда не мните договором
Отсрочить свой последний час!
Нет! договор мы чтем позором,
И нет пощады уж для вас!
Пощады злобе не даруем;
Мы будем мстить вам до конца
И пеплом градов отпируем
Мы тризну падшего Певца!..
1837. Апрель 15.С. Петер<бург>.
P. S.
Омойте, буйные, с смиреньем
Пятно кровавое с себя
И смерть поэта с сожаленьем
Оплачьте, славу возлюбя,
А имя вашего собрата,
С негодованьем на устах,
Вы напишите в тех рядах,
Где пишут имя Герострата!
Тогда же.
Отдельный отрывок
Беги заслуженных оков:
Их яд костей твоих не сгложет,
Тебе гнездо бунтовщиков
Еще убежищем быть может!
Не унывай: злодейству есть
Приют в стране той отдаленной,
Где в каждом сердце – злая месть,
А чести огнь погас священный!
Сыны порока не устали
Там друг на друга восставать;
Отцы их детям завещали
Мятеж всегдашний возжигать;
Как предрассудок, видеть веру,
Пренебрегать закон святой;
И кто чуждался их примера,
Тех поносить злой клеветой.
Но клеветы мы презрим жало,
Над нами светит та ж заря,
При коей Русь на вас восстала
По манью сильного царя!..
Все та же Русь!.. Европа знает, —
И вас уверить в том пора,
Что днесь Владыку осеняет
Величье дивного Петра.
1837. Февра<ля> 7-го.С. Петербург.
Денис Давыдов – поэт [300]300
Печатается по изданию: Денис Давыдов. Стихотворения / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. В. Э. Вацуро. Л.: Сов. писатель, 1984. С. 5–48.
[Закрыть]
«Давыдов, как поэт, решительно принадлежит к самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии», – писал в 1840 году Белинский, заключая свой обширный очерк литературной деятельности «поэта-партизана», – лучший памятник, который поставила ему русская критическая и эстетическая мысль XIX века. «…Давыдов примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как вообще литератор, и как воин – не только по примерной храбрости и какому-то рыцарскому одушевлению, но и по таланту военачальничества, – и, наконец, он примечателен как человек, как характер. Он во всем этом знаменит, ибо во всем этом возвышается над уровнем посредственности и обыкновенности. Говоря о Давыдове, мы преимущественно имеем в виду поэта; но чтоб понять Давыдова как поэта, надо сперва понять его как Давыдова, т. е. как оригинальную личность, как чудный характер, словом, как всего человека…»
Слова Белинского были не просто данью уважения и художнического удовлетворения, – они заключали в себе концепцию творчества, причем ту самую, какую хотел бы услышать сам Давыдов из уст своих современников. «Он был поэт в душе; для него жизнь была поэзиею, а поэзия жизнью» [301]301
Белинский В. Г.Полн. собр. соч.: В 13 тт. Т. 4. М., 1954. С. 369, 345–346, 353.
[Закрыть], – этой именно характеристики ждал и добивался Давыдов, когда писал свою автобиографию, когда убеждал Н. М. Языкова, что имеет право на внимание как «один из самых поэтических лиц русской армии» [302]302
Давыдов Д. В.Соч. Т. 3. СПб., 1893. С. 203.
[Закрыть]. Заметим: не как храбрый воин, не как выдающийся военачальник и даже не как талантливый поэт, – но как то, и другое, и третье, взятое в нераздельной целостности и органичности.
Денис Васильевич Давыдов родился 16 июля 1784 года в Москве, в старинной дворянской семье, связанной узами родства с Раевскими, Каховскими, Ермоловыми, Самойловыми и др [303]303
Биографию Давыдова см.: Советов Н. Н.Д. В. Давыдов. В кн.: Сборник биографий кавалергардов. Т. 3. СПб., 1906. С. 28–45; Жерве В. В.Партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов. Очерк его жизни и деятельности. 1784–1839. СПб., 1913; Попов М. Я.Денис Давыдов. М., 1971.
[Закрыть]. Военная профессия была для Давыдовых традиционна, и семи лет мальчик был уже знаком с бытом военного лагеря, а девяти – видел «великого Суворова» в доме отца; об этой встрече, как о самом своем сильном детском впечатлении, он рассказал в особом очерке [304]304
Встреча с великим Суворовым (1793). В кн.: Давыдов Д.Военные записки. М., 1940. С. 41–61.
[Закрыть]. В свою автобиографию он включил, однако, и другое воспоминание: тринадцати лет или около того от роду, умея только «лепетать по-французски, танцевать, рисовать» и зная начатки музыки, он познакомился в Москве с питомцами Университетского благородного пансиона, – они доставили ему случай прочитать «Аониды», альманах Н. М. Карамзина. Пример новых знакомых, печатавшихся в «Аонидах», воспламенил «честолюбие» будущего поэта, – но из-под пера его вышли лишь довольно нелепые сентиментальные стихи о пастушке и «изменившей» ей овечке. Этот эпизод в своем существе важнее и серьезнее, чем он предстает в пародийном рассказе Давыдова: он указывает на пробуждение литературных интересов будущего поэта и на его первоначальную литературную среду – кружок литераторов, собиравшихся вокруг Карамзина; с «университетским питомцем» Жуковским у него потом установятся прочные литературные связи, а стихи самого Карамзина в «Аонидах» отразятся в его собственном творчестве.
Формирование личности Давыдова падает на годы павловского террора, затронувшего и его семью, и родных: А. М. Каховский, А. П. Ермолов были сосланы как участники так называемого «смоленского заговора»; в 1798 году отец Давыдова попал под суд по делу о беспорядках в полку. Имение Давыдовых было конфисковано, и семья бедствовала многие годы; Давыдов вспоминал, что, живя в Петербурге, он по неделям вынужден был питаться одним картофелем. Переворот 11 марта 1801 года открыл перед «дворянским недорослем» возможность службы в столице: в том же году Давыдова отвозят в Петербург и с большими трудностями определяют эс-тандарт-юнкером в Кавалергардский полк. Социальное воспитание юноши завершается в атмосфере первых лет александровского царствования, с их либеральными веяниями, оживлением политической жизни, свободным обсуждением общественных проблем во вновь возникающих журналах. Он сближается с кружком офицеров Преображенского полка, куда входили в числе других С. Н. Марин и А. В. Аргамаков, непосредственные участники заговора 11 марта; это была среда светская, военная и литературно-театральная. К кружку примыкали Д. В. Арсеньев, Ф. И. Толстой («Американец»), Г. В. Гераков, А. А. Шаховской; родственные и дружеские узы связывали их с домом знаменитого мецената А. Л. Нарышкина, директора императорских театров, и, с другой стороны, – с приютинским литературным гнездом А. Н. Оленина, откуда в ближайшие же годы выйдут деятели двух противостоящих литературных партий. Марин и Шаховской станут членами «Беседы любителей русского слова», Давыдов, Батюшков – «Арзамаса», но это произойдет позже: в 1801–1803 годах эстетическое размежевание еще не осуществилось до конца.
В кругу преображенцев Давыдов воспринимает стихию сатиры и пародии – характерную принадлежность домашних литературных кружков и домашней поэзии. Здесь она сочеталась с оппозиционным духом; так, Марину принадлежали две очень известные в свое время сатиры на «гатчинцев»: «1796-го году, ноября 7-го» и «Пародия на Оду 9-ю Ломоносова, выбранную из Иова» (1801). В царствование Павла оживилась рукописная сатира, – репрессии не могли остановить ее потока. С ослаблением цензурного пресса социальные и политические проблемы, вызванные к жизни только что минувшим царствованием, начинают обсуждаться уже печатно.
В этих условиях появляются ставшие знаменитыми басни молодого Давыдова – «Голова н Ноги» и «Быль или басня, как кто хочет назови», известная также под названием «Река и зеркало». Он воспользовался сюжетами, распространенными и актуальными как раз в начале века: они ставили проблему гражданской ответственности монарха – одну из центральных для просветительской социологической мысли. В «Были или басне…» Давыдов конкретизировал сюжет: упоминание о «Сибири», куда «деспот» ссылает правдолюбивого вельможу, проясняло социальный адрес – речь шла о русском царе (царствующем или историческом). Вторая же басня – «Голова и Ноги» – оказывалась бесцензурной уже по самой своей проблематике. Согласно доктрине, широко распространенной в XVIII веке, социальная гармония обеспечивается незыблемой иерархией состояний; нарушение ее ведет к анархии и гибели социального организма. У Давыдова изменена сама исходная точка рассуждения: реально существующей является не гармония, а дисгармония в общественных отношениях, и вина за нее лежит на «голове», которая превысила предоставленную ей обществом власть. «Монархия» переросла в «деспотию». Теперь общество может применить к «деспоту» санкции в силу естественного права. Такой вариант решения проблемы выбирало радикальное крыло Просвещения (в частности, Радищев в «Вольности»); нет сомнения, что Давыдов осмыслял здесь и социальный опыт цареубийства 11 марта.
Эти басни сразу же получили распространение. В. Д. Давыдов, конечно со слов отца, рассказывал, что его ранние сатиры стали известны «по милости услужливых друзей» [305]305
Давыдов В. Д.Денис Васильевич Давыдов, партизан и поэт (1784–1839) // Русская старина. 1872. № 4. С. 628.
[Закрыть]. По-видимому, все же отношение к ним «друзей» было двойственным: не чуждаясь свободоязычия, они в новых условиях вряд ли сочувствовали политической фронде; во всяком случае, в стихах самого Марина мы неоднократно находим восторженные упоминания Александра I.
Переписывая басни Давыдова, они досадовали на его юношескую дерзость; в печатной отповеди Аргамакова «мальчишке пустомеле» была упомянута и басня «Голова и Ноги»: «И Ногизаставляешь болтать нам вздор и ложь». Впрочем, это была не война идей, а скорее предостережение.
Сатирические стихи Давыдова не остались без последствий: автор их получил «головомойку» от петербургского генерал-губернатора, а 13 сентября 1804 года был выписан из поручиков Кавалергардского полка в армию, в Белорусский гусарский полк, стоявший в окрестностях Звенигородки в Киевской губернии. Обстоятельства этой фактической высылки нам неизвестны, хотя современники их знали: Давыдов не раз рассказывал о них (в частности, фельдмаршалу Каменскому) и описал в не дошедшей до нас части своих записок [306]306
См.: Давыдов Д.Военные записки. С. 62.
[Закрыть].
Репутация сочинителя антиправительственных стихов, якобы наказанного за них ссылкой в Сибирь, еще более укрепилась за Давыдовым, когда в начале 1805 года стала распространяться басня «Орлица, Турухтан и Тетерев», которую устойчивая традиция приписала его перу. Эта басня – один из наиболее резких памфлетов на Александра I и его ближайшее окружение: новый царь, пришедший на смену убитому «тирану», – «скупяга из скупых», берегущий «крохи» и отдавший царство «любимцам», которые разоряют его, насаждая коварство и бесчестность. Именно об этом – о строгой экономии, установленной Александром в личных расходах и пожалованиях, и неоправданной расточительности средств в бюрократических учреждениях – будет писать Карамзин в записке 1811 года «О древней и новой России…» [307]307
Карамзин Н. М.Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 86.
[Закрыть]. Критика, справедливая и проницательная, шла, однако, со стороны консервативной оппозиции либеральным реформам Александра. «Орлица, Турухтан и Тетерев» пишется в 1804 году, когда в Сенате и только что учрежденных министерствах шла борьба между сторонниками «старой» и «новой» партий; первая, консервативная, обвиняла Александра в отказе от государственных форм екатерининского времени. Давыдов говорит буквально то же самое, и осведомленные современники вряд ли случайно связывали басню с выступлениями таких «недовольных», как А. С. Шишков или А. С. Хвостов – столпы консервативной оппозиции, – а в «любимцах» «Тетерева» видели либеральное окружение Александра I. Резчайший антиправительственный памфлет оказывался порождением не революционной, а фрондерской идеологии, причем с чертами консерватизма.
Служба в Белорусском гусарском полку не была для Давыдова обременительной. Его начальник, Б. А. Четвертинский, брат известной красавицы, фаворитки императора М. А. Нарышкиной, вскоре стал ближайшим приятелем Давыдова. Бывший кавалергард, ныне гусар, входит в атмосферу гусарского быта. Плодом новых впечатлений явились знаменитые послания Бурцову (1804), получившие широчайшую популярность и во многом определившие литературную репутацию их автора.
Успех их был симптомом времени. «Молодечество», «удальство» становилось характерной чертой эпохи. «Попировать, подраться на саблях, побушевать где бы не следовало, это входило в состав нашей военной жизни в мирное время. <…>…Военно-кавалерийская молодежь не хотела покоряться власти, кроме своей полковой, и беспрерывно противодействовала земской и городской полиции, фланкируя противу их чиновников. Буянство хотя и подвергалось наказанию, но не почиталось пороком и не помрачало чести офицера, если не выходило из известных, условных границ» [308]308
Булгарин Ф.Воспоминания. Ч. II. СПб., 1846. С. 135–136, 134.
[Закрыть]. Ф. Булгарин, которому принадлежат приведенные строки, цитировал при этом «Песню» Давыдова («Я люблю кровавый бой…»), удостоверяя, что «так, в самом деле, думали девять десятых офицеров легкой кавалерии» в начале столетия. Это время создает легенды об удальцах – силаче Лукине, героических авантюристах Н. А. Хвостове и Г. И. Давыдове; его порождением был и Федор Толстой – «Американец», близкий приятель Д. Давыдова, яркая, талантливая и «преступная» личность, реальные похождения которого обрастали устными анекдотами, формировавшими легенду. Люди начала века, ровесники и младшие современники Давыдова, составили и тот «гусарский» круг, в котором вращался юный Пушкин; к нему принадлежали П. П. Каверин, члены «Зеленой лампы» и театральных собраний Н. В. Всеволожского. К нему, наконец, принадлежал и сам Денис Давыдов. Стихи, обращенные к Бурцову, «гусару гусаров», уходили своими корнями в реальный социальный быт и социальную психологию [309]309
См. ее анализ: Лотман Ю. М.Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 25–74.
[Закрыть]. В них отражалась новая система этических ценностей, где «буянство» перестало почитаться пороком.








