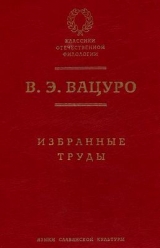
Текст книги "Статьи разных лет"
Автор книги: Вадим Вацуро
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Мне кажется, если создать специальную газету, которая собирала бы культурные ценности бывшего Союза, она будет с сочувствием принята в любом из этих регионов. Газета просветительского толка, восстанавливающая органически сложившееся культурное пространство; не только для узкого круга ценителей, а для всех, живущих в ближнем зарубежье, практически неотделимом от нас.
– Но которое может быть отделено волевым усилием?
– Волевым усилием можно отделить даже русскую провинцию. Но от этого связи все равно не разорвутся. Кстати, если откуда-то и придет культурное восстановление, то не в последнюю очередь из нашей провинции. Здесь еще осталось уважительное отношение к своим святыням. Это не маргинальная психология. Будучи недавно в Тарханах, я имел случай в этом убедиться. Лермонтовский музей – предмет гордости. Это – свое. И уж тут не будут ломать деревья, как в Подмосковье.
– Вадим Эразмович, когда полгода назад я позвонила вам и просила ответить на вопросы нашего «Филологического корпуса»: над чем вы работаете и что читаете? – вы сказали, что работаете исключительно над академическим собранием Пушкина. Как бы вы ответили сегодня?
– И сегодня продолжаю эту работу. Выпускаем первый пробный типовой том – лицейская лирика с заново проверенными текстами, переработанным комментарием, с приложением старой, но не утратившей своего значения работы Цявловского. Книга должна выйти в будущем году, потому что на нее получены специальные субсидии. Что будет дальше – трудно сказать. Вообще этот год «знаменательный»: не вышло ни одной книги Пушкина. Хотя нет – «Тень Баркова»! Ну, а что будет в подлинно знаменательном 1999 году – можно только гадать. Но Пушкинский Дом работает.
Лично у меня в издательствах лежит более 50 печатных листов подготовленных и написанных текстов, но никакой надежды на их выход нет.
Продолжается работа с «Российской энциклопедией» над Словарем русских писателей XIX века. Это грандиозное издание. Первый том уже вышел, второй набран, а третий ушел в типографию. Первый том, увидевший свет несколько лет, назад готовился еще во времена Брежнева, но без малейшей конъюнктуры. Поэтому у него практически не было шансов на издание – том включил статьи обо всех писателях-эмигрантах первого поколения. Тем не менее авторы (и известные уже ученые, и совсем юные тогда филологи, едва со студенческой скамьи, и подлинные подвижники – коллектив редакции литературы и языка, и редколлегия, куда вхожу и я) работали так, словно дело шло об обычном издании. Нужно сказать, что нас тогда очень поддержал назначенный главным редактором словаря П. А. Николаев. И когда цензурные барьеры пали, нам не пришлось переделывать книгу. Этим мы вправе гордиться.
А что я читаю? В основном то, что необходимо для моей работы. И только уехав на 10 дней в Тарханы, имел редкую возможность читать для собственного удовольствия. Наслаждался ранее мне не известным Гайто Газдановым. Пожалуй, такой прозы я не читал уже много лет.
– И все-таки как работать, когда книги не выходят?
– Не знаю… Книга имеет духовную ипостась и ипостась материальную. Что касается духовной, интеллектуальной, то она не пропадет. Литература сделалась рукописной, как говорил Пушкин, в период цензурного террора. Ну, может быть, мы дождемся того уровня цивилизации, при котором это будет востребовано. Сейчас же, видимо, нужно продолжать работать в меру наших способностей.
– Работа в стол?
– Конечно. Продолжать работать в стол, как это привычно было российскому обществу. Благо, тут не занимать опыта. Ну, а там видно будет.
М. Горбачев как феномен культуры [493]493
Печатается по изданию: Культурологические записки. Вып. 1: Конец столетия. Предварительные итоги. М., 1993. С. 207–225.
[Закрыть]
«…Мне кажется, что пора снять ореол какой-то святости, мученичества и величия с фигуры Горбачева. Это заурядный партийный работник, в силу обстоятельств попавший в историю и содействовавший развалу огромного советского государства. Никакого отношения к развитию демократии и преобразованиям он не имеет. Если бы не было Горбачева – был бы другой. Общество должно было пройти через реформы. Если бы не было Горбачева, может быть, эти реформы пошли бы более удачно, более эффективно» [494]494
Санкт-Петербургские ведомости, 1992, 19 августа. С. 4.
[Закрыть].
Это – цитата из выступления председателя Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатова на пресс-конференции в Дели, которую мы приводим по газетному отчету. Ее подчеркнуто полемическая форма, может быть, рассчитанная на эпатирование собравшихся журналистов, обнажает те содержательные элементы, которые постепенно становятся общим местом в статьях о бывшем президенте Союза: представитель правящей партийной верхушки начал реформы, побуждаемый необходимостью сохранить основы «системы», мощные социальные силы, приведенные им в движение, вырвались из-под контроля и оттеснили, а затем и вытолкнули нерешительных, колеблющихся сторонников косметических полуреформ. Так начался новый этап уже демократической революции, приведшей к падению «системы», закономерному распаду коммунистической «империи» и появлению новых, подлинно демократических лидеров.
С теми или иными вариациями эта схема прослеживается и в специальных социологических (в том числе и зарубежных) статьях, и в массовой пропаганде в периодической печати. В нее очень удобно вписываются фигура Михаила Горбачева и конкретные имена политиков, занимающих сейчас верхушку социальной пирамиды.
Концептуальная основа этой схемы совершенно прозрачна: это официально утверждавшаяся в 1930–1970 годы философия общественного развития, заимствованная новыми идеологами почти без изменений. Когда-то Энгельс упрекал Гегеля в том, что его система ограничила его диалектику: завершением саморазвития абсолютного духа оказалось современное Гегелю немецкое государство и его, Гегеля, философия. Между тем именно это противоречие определило характер идеологизированных исторических концепций, о которых идет речь, в том числе, кстати, и концепцию «Краткого курса истории ВКП(б)». Эволюция общества рассматривалась как линейный прогресс, доминирующим началом которого является революционное движение, также идущее по восходящей линии. Отсюда и своеобразный исторический фатализм, очень удобный для пропагандистских целей: вся предшествующая социальная и культурная история имела значение лишь как предыстория и обоснование исторической легитимности правящих социальных групп; в прошлом искали то, что с неизбежностью подготавливало их приход к власти. Отсюда требование «классового подхода» как основного критерия оценки прошлого: в нем актуализируются лишь те идеи или события, которые соответствуют идеологии правящей группы; остальное отбрасывается или переинтерпретируется в желаемом направлении. Примеры общеизвестны; в официальной русской культурной истории долгое время обходились без Карамзина, Достоевского, религиозной и консервативной философии XIX–XX столетий, «серебряного века»… Что же касается «неканонических» исторических личностей, то их культурное и социальное поведение представало как история ошибок, то преодолеваемых, то усугубляемых, а эволюция – как постепенное отставание от прогрессивных идей времени. Такова концепция эволюции Плеханова в «Кратком курсе…»: на II съезде РСДРП он «шел вместе с Лениным»; затем «дал меньшевикам запугать себя угрозой раскола. Он решил во что бы то ни стало „помириться“ с меньшевиками. К меньшевикам Плеханова тянул груз его прежних оппортунистических ошибок. Из примиренца к оппортунистам-меньшевикам Плеханов вскоре сам стал меньшевиком» [495]495
История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. Госполитиздат, 1950. С. 44.
[Закрыть]. Здесь лишь нужно заменить «меньшевиков» на «партократов» и «Плеханова» на «Горбачева», чтобы получить широко пропагандируемую концепцию деятельности последнего.
Между тем здесь неверна самая модель.
* * *
Попытаемся наметить иную систему взаимоотношений, – также неизбежно грубую и ограниченную, но небесполезную в методическом отношении. Исходной точкой отсчета здесь будет не личность, а общество. В оценке деятельности личности принято почему-то исходить из презумпции правоты общественного суда как выражения «мнения народного» (в ранней русской историографии, например, у Карамзина, «народным мнением» иногда даже верифицировались исторические источники). Между тем «народное мнение» устанавливается не сразу и отнюдь не всегда тождественно мнению конкретного, исторически локального общества. В оценке крупных деятелей это последнее почти всегда ошибается, ибо не может сразу принять экстраординарное явление, порывающее с обыденным сознанием. В этом смысле степень популярности очень часто обратно пропорциональна исторической и культурной значительности; популизм же всегда апеллирует именно к массовому сознанию. В истории культуры, в том числе и русской культуры, примеры тому весьма многочисленны; достаточно вспомнить резкое падение популярности позднего Пушкина. Пушкин же дал поэтическое (и вместе социально-психологическое) осмысление разительного факта этого рода: трагической судьбы Барклая де Толли, чей спасительный военный план был осужден обществом как «измена»:
«Непроницаемый для взгляда черни дикой, В молчанье шел один ты с мыслию великой, И, в имени твоем звук чуждый не взлюбя, Своими криками преследуя тебя, Народ, таинственно спасаемый тобою, Ругался над твоей священной сединою» [496]496
Пушкин А. С.Полн. собр. соч. Т. III. (M.; Л.), 1948. С. 379.
[Закрыть].
Для Пушкина этот факт был показателем низкого уровня культурного самосознания современного общества, о чем он писал неоднократно, – подробнее всего в письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 года. «…Наша общественная жизнь – грустная вещь»; в ней царит «равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине», «циничное презрение к человеческой мысли и достоинству» [497]497
Пушкин А. С.Письма последних лет (1834–1837). Л., 1969. С. 156. (Подлинник по-французски).
[Закрыть]. Именно этот взгляд на общество в целом приводил его к убеждению, что в России «правительство всегда… впереди на поприще образованности и просвещения» и что «народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно» [498]498
Пушкин А. С.Полн. собр. соч. T. XI. 1949. С. 223.
[Закрыть].
Он сделал попытку описать феномен «полупросвещения», которым, по его мысли, страдает и значительная часть образованного общества. «Невежественное презрение ко всему прошедшему; слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне; частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему…» [499]499
Там же. T. XII. С. 36.
[Закрыть].
Тридцатью годами позднее, в середине шестидесятых годов, в эпоху значительно большей демократизации общества, с бесконечно возросшей ролью общественного мнения, Некрасов с беспощадностью обрушивался на массовое, уже политизированное, сознание. «У нас неуважение к уму Сильней неуважения к закону» – записывает он в черновых набросках «Медвежьей охоты», – а в тексте вкладывает в уста представителю культурной генерации «сороковых годов» целую инвективу против «русского общественного мненья», отмечая в нем прежде всего коллективную агрессивность («на нем предательства печать И непонятного злорадства»). С «преданиями рабства» связывал он практику единодушных апофеозов победителей и столь же единодушных осуждений «неудач», которые в его изображении предстают почти как проявления стадного инстинкта:
«Сперва – сторонников полки, Восторг почти России целой, Потом – усталость; наконец Все настороже, все в тревоге, И покидается боец Почти один на полдороге…»
Его изображение «постыдных оргий» преследования играет памфлетными красками: общество «сторожит неудачу» с каким-то «зловещим тактом» и находит удовольствие самоутверждения в коллективных «облавах»:
«Как мы вертим хвостом лукаво, Как мы уходим величаво В скорлупку пошлости своей! Как негодуем, как клевещем, Как ретроградам рукоплещем, Как выдаем своих друзей! Какие слышатся аккорды в постыдной оргии тогда» и т. д. [500]500
Hекрасов Н. А.Полн. собр. соч. и писем в 15 т. Т. З. Л., 1982. С. 11.
[Закрыть]
Эти примеры выбраны почти наудачу, из разных эпох эволюции общественной психологии русского девятнадцатого века. Свидетельства подобного рода можно умножить во много раз, пока не создастся целостная картина русского общества глазами лучших его представителей. При этом было бы непростительной наивностью полагать, что все эти негативные стороны свойственны только русскому массовому сознанию. Знаменитая книга Ортеги-и-Гассета «Восстание масс», вышедшая в 1929 году и глубоко поразившая европейскую мысль, описывала сущностные черты европейца XX столетия почти в тех же категориях. Дон Ортега писал о «человеке-массе», вкладывая в это понятие не столько социальный, сколько культурологический смысл; он анализировал самый феномен «массового сознания» – не производящего, а воспроизводящего заимствованные мыслительные стереотипы, нетерпимого к чужому мнению, агрессивного и претендующего на абсолютную истину и на всеобщее господство. Продукт цивилизации, «человек-масса» был, согласно Ортеге, носителем современного варварства. Философа обвиняли в аристократическом высокомерии, – но здесь было или лукавство, или непонимание, ибо он имел в виду не сельского или городского труженика, а политика и идеолога, навязывающего всему обществу нормы своего мышления и поведения. В большевизме и фашизме он видел крайние полюсы активности «человека-массы», подчинившего себе весь европейский мир.
Мы можем теперь вернуться к исходному пункту наших рассуждений и произвести мыслительный эксперимент, представив себе историческое лицо в этой среде, в ее системе ценностей, с ее критериями нравственных, исторических, культурологических оценок. Чем значительнее это лицо, тем естественнее ждать его отторжения в силу своего рода социальной ксенофобии, присущей описанному сознанию. Отторжение будет проходить, по-видимому, в весьма агрессивных формах, предполагающих как вариант полное отрицание за критикуемым каких-либо заслуг. Исторические обоснования критики будут скорее всего опираться на концепции линейного прогресса, ибо основной точкой отсчета для «человека-массы» является он сам, – и потому он непоколебимо убежден в «прогрессивности» именно тех сил, которые вывели его на социальный верх.
Иными словами, он почти неизбежно продуцирует ту самую концепцию, которая сейчас является наиболее распространенным объяснением политической судьбы Горбачева.
* * *
«Массовое сознание», как его определяли Ортега-и-Гассет и русские наблюдатели от Чаадаева до Чернышевского и далее, есть, конечно, абстракция, пользоваться которой можно только в ограниченных пределах. Тем не менее без учета его нельзя понять социальных репутаций культурных и общественных деятелей; репутации же эти далеко не всегда тождественны их объективной исторической роли. Здесь возникает неизбежно и проблема культурных генераций, каждая из которых вырабатывает и свои варианты индивидуального поведения, и свои типы их общественного осмысления. Феномен взаимного непонимания поколений был с позиций просветительского сознания описан еще Грибоедовым в «Горе от ума»; в шестидесятые годы XIX века он предстал социальным наблюдателям как взаимоотношения «отцов и детей». Историческое сознание, утверждая свои принципы, все более подвергало ревизии просветительскую метафизическую оценочность и дидактизм, заставляя признать, что мировоззрение «отцов» не есть отклонение от естественных норм существования общества, как иной раз склонны считать «дети», – но некоторая внутренне целостная система, способная вызвать у потомков нечто вроде ностальгического чувства. Так, М. О. Гершензон, историк и философ, полностью принадлежавший эпохе «философского Ренессанса» начала XX века, заканчивал свой блестящий этюд о «грибоедовской Москве» сравнением «века нынешнего и века минувшего», находя неожиданно в последнем и некие утраченные потом позитивные черты.
Это рефлектирующее культурное сознание всегда таило в себе источник скрытой, а иногда и явной оппозиции тоталитарным и абсолютистским формам правления, и потому при абсолютных монархиях и диктатурах власть предпочитала опираться именно на массовое сознание, поощряя и пропагандируя официозные сочинения «для народа». Осознанной государственной культурной политикой воспитание массового сознания стало у нас в эпоху Сталина.
Апогея этот процесс достиг после войны, в конце сороковых – начале пятидесятых годов. Смысл идеологических кампаний против писателей, ученых, деятелей искусства заключался в уничтожении культурной элиты – потенциального источника инакомыслия – и замене ее «человеком-массой». Власти нужно было культурно-гомогенное общество, мыслящее заданными стереотипами. Искусство, наука должны были утратить свою герметичность и стать «понятными народу». Создалась целая генерация писателей, ученых и художников, производивших суррогаты для массового потребления. «Лысенковщина» была лишь одним, хотя, может быть, самым ярким эпизодом этого процесса, носившего тотальный характер.
Последствия его были для культуры не менее губительны, чем прямое физическое уничтожение ее деятелей. Суррогаты по цепной реакции в свою очередь порождали суррогаты же, ибо ничего иного они произвести не могли. Самая шкала интеллектуальных ценностей менялась, и менялся способ, механизм художественного и научного мышления.
Характерной чертой нового механизма было мышление полярными противоположностями, в том числе и проверенными стереотипами, слегка подновленными: «свои» – «чужие». «Кто не с нами, тот против нас». Вся культура, наука, политика разделяется на два «лагеря», «фронта»; демаркационная линия режет надвое все многообразие явлений между полюсами. Возникают формулы «сакральные» и «профанные». Сакральные – «народ», «прогресс», «демократия», «социализм», «партийность». Эти формулы не анализируются: они нерасчленимы. За ними закреплен эмоционально-ценностный ореол, почти поглощающий их реальный смысл. Профанные формулы – «буржуазный», «реакционный», «безыдейный» (формула совершенно бессмысленна, если не учитывать, что под «идеей» понимается только идея, официально признанная, – и отсутствие таковой есть основание к общественному осуждению: отсюда не только охранительный, но и «рекомендательный», побудительный характер «руководства искусством»). Сакральная формула высшего порядка – «политика». Слова «политическая ошибка» – преддверие идеологических репрессий. «Политика» доминирует в сознании и не имеет себе альтернатив. «Социология» – вредная ересь, предполагающая, что общество живет по своим законам, отличным от тех, что предписаны политикой.
Естественно, что такое сознание – изначала метафизично. Законы диалектики изучаются («диалектика» входит в число сакральных формул), но применение их в мыслительной практике явно нежелательно. «Догматика», напротив, – профанная формула, но она-то и определяет тип мышления, которое очень сродни религиозному сознанию. Так, студента пятидесятых годов могли исключить из учебного заведения, если он не изучил Маркса, но его и могли уволить с работы, если бы он вздумал в своей деятельности руководствоваться марксовой теорией стоимости.
Мы отнюдь не пишем памфлета, – мы пытаемся лишь обозначить, очень грубо и схематично, те черты мифологического сознания советского времени, которые были лишь вариантом «массовидного сознания», присущего и всему европейскому миру, о чем писал Ортега-и-Гассет.
В конкретном своем воплощении они принимали бесконечно более сложные формы, накладываясь на те черты общественного сознания, которые сложились органически на протяжении веков. Так, идея социального равенства, выразившаяся в многочисленных социалистических учениях (религиозных, утопических и т. д.), является реальностью общественного сознания; такой же реальностью являются исторически присущие определенным слоям русского общества (хотя бы в реликтовой форме) патриар-халистические и даже патерналистские черты, религиозное мироощущение – и с другой стороны, религиозный индифферентизм; традиционное уважение к армии как институту, персонификация власти, с которой иногда (например, в Отечественную войну) сложно связывалось чувство патриотизма и национального достоинства. «За Родину, за Сталина!» генетически связано со старым «За веру, царя и Отечество!» и очень часто становилось символической формулой вовсе не официозного содержания. Иными словами, официальное «воспитание масс» оказывалось в ряде случаев эффективным и устойчивым именно потому, что оно не отторгалось исторически сложившейся традицией, подобно тому как праздники языческого земледельческого календаря обеспечивали многовековую жизнь возникшим на их основе христианским праздникам.
И попытки его рационалистической критики, принимающей нередко предельно элементарные формы («хомо советикус»), потому очень напоминают бесплодные усилия «антирелигиозников» 1920-х годов уничтожить религию с позиций «здравого смысла». Общим для обоих подходов является и понятийный аппарат, и оценочно-дидактический подход к истории, в высшей степени характерный именно для массового сознания.
Это сознание стало претерпевать глубокие внутренние изменения уже в пятидесятые годы, когда началась сознательная деятельность М. С. Горбачева.
* * *
Михаил Сергеевич Горбачев принадлежит к поколению «шестидесятников». Официальная справка в словаре дает нам даты: родился в 1931 году, в 1955 окончил юридический факультет Московского университета, в 1952 году, двадцати одного года, вступил в партию. Пережившие это время помнят, какой удар нанесло оно по казалось бы устоявшимся официально утвержденным догматам: вначале истерически нагнетаемая кампания против «врагов народа», «сионистов», «убийц в белых халатах»; через несколько месяцев неожиданная смерть Сталина и падение Берии. Вчерашние убийцы оказались невинными жертвами; вчерашний незыблемый оплот государства – «врагом народа». Выступление Хрущева на XX съезде КПСС, реабилитация уцелевших узников ГУЛАГа, начало знаменитой «оттепели» бросало ретроспективный свет на целый исторический период, подводя общественное мнение к переоценке самых его идеологических, политических, правовых основ; как сказалось это на мировоззрении студента-юриста, которому предстояло стать политическим деятелем мирового масштаба, – об этом может знать только он сам, но мы вряд ли ошибемся, предполагая, что именно в начале пятидесятых годов нужно искать истоки его ментальности. «Шестидесятники» – люди потрясенного культурного сознания – открывали для себя диалектику исторических явлений и лиц, – ту диалектику, которую не вмещает массовая психология. Уже для оценки деятельности Хрущева оказывалось недостаточно оппозиции «черного» и «белого». Исторические противоречия представали наглядно как органический закон, распространявшийся на все явления без исключений; они откладывались в индивидуальном сознании как закон анализа и самоанализа. Во время беседы в редакции «Литературной газеты» в июле 1992 года М. С. Горбачев вспоминал, что его плану реформ предшествовало осмысление вместе с интеллигенцией «того мира, в котором мы оказались». «Это было общее познание и самопознание, хотя болезненное, трудное. Моя позиция была такая: попытаться в стране с многовековой историей провести реформы, не прибегая к насилию, не объявляя ни одной из сторон вражеской. Оппонирующей – да. Конкурирующей – на здоровье. Но не враждебной» [501]501
Литературная газета. 1992. 8 июля. С. 11.
[Закрыть].
Эта цитата – своего рода символ веры демократического сознания, органически управляющего поведением. Для него не существует полярных противоположностей, – и этим определяется, между прочим, его отношение к своему прошлому. «Человек-масса» (не говорим сейчас о демагогах, умело им манипулирующих) либо не поступается ничем, либо отрекается от прошлого легко и безоглядно, ссылаясь на то, что был кем-то обманут. Он оперирует противопоставлениями; «Ленин – Николай II»: левая часть плюс, правая – минус, или напротив, левая минус, правая плюс. «Сакральные» и «профанные» формулы остаются, они просто меняются местами. Аналитическое мышление отрицает сам принцип формульности. Для Горбачева понятия «партия», «социализм» – не символические обобщения негативных сторон исторической жизни, а некие ее реалии, взятые в движении и исторической перспективе, в которой могло меняться самое содержание этих категорий. Для него невозможен поэтому примитивно оценочный подход к прошлому, – подход периода 1949–1950-х годов, который движет мышлением многих его оппонентов. Это и есть психологическая и интеллектуальная основа «центризма» – идеологии современного культурного сознания – и вовсе не случайно окружение Горбачева собрало самые значительные интеллектуальные силы страны, причем преимущественно гуманитарной ориентации.
Но такое сознание, изначала предполагающее неизбежную ограниченность любого общественного акта, неизбежно должно критически оценивать и самого себя, – и именно это мы видим в деятельности Горбачева. Никто мужественнее его не «признавал свои ошибки»; по некоторым его выступлениям можно предполагать, что он скептически относится к самой возможности безусловно правильных решений в политике. В разговоре с Г. Киссинджером в 1989 году он заметил: «Знать, что неправильно, относительно легко. Знать, что правильно, как оказалось, исключительно сложно» [502]502
Цит. по: Плутник А.Он приходил – это значительнее того, что он уходит // Известия. 1991. 24 декабря. С. 3.
[Закрыть]. «Правильное решение» – это оптимальный из нескольких возможных вариантов, наиболее вероятное решение задачи с несколькими неизвестными. Нет сомнения, что многое из того, что принято сейчас считать «ошибками», «непоследовательностью» Горбачева – это фантомы, попытки описать одно сознание в категориях другого, – именно в категориях традиционного «полярного» мышления. «Ошибки», конечно, у него были, – но скорее всего не там, где их обычно ищут; найти же их суждено, видимо, лишь будущему историку, если Бог пошлет нам таких.
Одна из особенностей этих мнимых ошибок – перенесение центра тяжести с политики на социологию и с непосредственного акта на его дальние последствия. Эта особенность присуща историческому мышлению, которое было рождено ревизией метафизической догматики. Так происходило в начале XIX века, когда Французская революция потрясла стройную систему просветительской философии, и «из равновесья диких сил» родилась диалектика и историзм романтического движения. Историческая концепция Карамзина учитывала закон движения и его результат, и уже ретроспективно оценивала самый акт. Современникам это казалось парадоксами: они не могли понять, почему историк не требует немедленного уничтожения крепостного права, которое сам же считает абсолютным злом, и доказывает органичность русской монархии, которую не считает абсолютным благом.
Учетом дальних последствий исторического события была продиктована позиция Горбачева в сложнейшем вопросе о единстве Союза. Но здесь важно восстановить канву событий, ибо последующие колебания политической атмосферы вызвали к жизни миф о Горбачеве как о виновнике распада Союза, – миф, созданный в расчете именно на массовое сознание и по его моделям и поддерживаемый политиками иной раз прямо противоположных ориентаций. «Я думаю, что выдающаяся роль Горбачева как раз и проявилась в развале Советского Союза» (Р. Хасбулатов) [503]503
Санкт-Петербургские ведомости. 1992. 19 августа. С. 4.
[Закрыть]. «Горбачев попадет в историю так же, как Герострат. Человек, способствовавший развалу великого государства, способствовавший дестабилизации обстановки в мире…» (В. Алкснис) [504]504
Литературная газета. 1991. 8 декабря. С. 1.
[Закрыть]. Между тем как раз позиция Горбачева в ситуации, где мощные дезинтеграционные процессы почти уже не сдерживались слабыми тенденциями к интеграции, очень ярко высвечивает тот культурный тип поведения, который управлял его деятельностью и включал в себя нечто гораздо большее, чем политический прагматизм: в частности, как мы уже сказали, осознание дальних последствий политического акта.
* * *
«С самого начала перестройки, – писал М. С. Горбачев в послании участникам встречи в Алма-Ате по созданию Содружества Независимых Государств 18 декабря 1991 года, то есть уже тогда, когда „ново-огаревский процесс“ был разрушен – мы шаг за шагом шли к тому, чтобы все республики обрели полную независимость. Но я все время настаивал на том, что нельзя допустить распада страны. Таково было и есть мое понимание воли народов, выраженной на референдуме, – как их стремление к независимости при сохранении целостности исторического союза. Эта мысль и это беспокойство лежали к основе моей формулы о „Союзе Суверенных Государств“, которая первоначально встретила вашу поддержку». «Уверен, – писал он далее, – что у всех, кто не заражен национализмом и сепаратизмом, а это сотни миллионов, неизбежно возникнет чувство утраты „большой Родины“. А когда практически начнется процесс государственного, административного и прочего размежевания, определение условий гражданства, это затронет очень многих самым непосредственным образом – в быту, на производстве, в человеческих связях» [505]505
Известия. 1991. 20 декабря. С. 1.
[Закрыть].
По газетам и журналам ближайших последующих месяцев можно было бы проследить, как этим прогнозам «массовое сознание» пыталось противопоставить представление о коммунистической империи – средоточии абсолютного зла. «Плач по империи» рассматривался как реликт «имперского мышления» или, в лучшем случае, как инертность сознания, не желающего считаться с историческими peaлиями, и приблизительно в том же освещении представала позиция Горбачева. Эволюция его образа от «носителя имперского сознания» до «разрушителя великого государства» – одна из поразительных метаморфоз социальной репутации, ставшая возможной именно потому, что его прогнозы стали подтверждаться очень скоро. Напомним, справедливости ради, что против распада Союза как экономической и культурной общности возражали многие политики и деятели культуры (такова с самого начала была, например, позиция А. А. Собчака), – те же из них, кто видел в нем историческую или политическую неизбежность, лично переживали его как драму. Об этом писал, в частности, А. Бовин [506]506
Бовин А.От перестройки к революции. – Известия, 1991, 10 сентября. С. I.
[Закрыть]. Очень показательно в этом отношении признание Г. Померанца, предрекавшего «распад империи» еще в 1970–1980-е годы: «…все же, когда империя развалилась, мне стало больно. Я спрашивал многих знакомых, что они чувствуют. Им тоже было больно, но они стеснялись об этом говорить. Как-то нелиберально. Я не стесняюсь… И не только за живых людей тревога. Больно за некоторое историческое существо, которого больше не будет, за империю как культуру» [507]507
Померанец Г.Надгробное слово империи. – Литературная газета, 1991, 18 декабря. С. З.
[Закрыть].
Это отнюдь не «великороссийская» и не «великодержавная» точка зрения. В превосходном интервью Гранта Матевосяна («Всегда и вечно») она выражена почти с парадоксальной бескомпромиссностью: «Самая большая потеря – это потеря гражданином Армении статуса человека Империи. Потеря имперской, в лучшем смысле этого слова, поддержки и имперского начала, носителем коего всегда была Россия. Имперского человека мы потеряли. Высокого человека, великого человека, укрепленного человека… И я берусь утверждать, что армяне, начиная с 70-х годов прошлого века и до наших дней, – это более высокие, более мужественные и, как это ни парадоксально, более свободные армяне, чем те, которых освободили ныне от „имперского ига“. Ведь это в 70-е годы прошлого века под крылом России вызрела и вновь состоялась армянская государственность. В армянской культуре появилась целая плеяда выдающихся людей. В прозе, в поэзии, в историографии, – всюду и везде, даже в политических партиях эти люди были. И так могло быть „всегда и вечно“… Поэтому повторю: самая большая потеря – это потеря нами гражданства Великой державы» [508]508
Литературная газета. 1992. 8 августа. С. 3.
[Закрыть].








