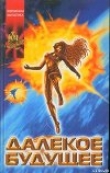Текст книги "Фабула и сюжет"
Автор книги: В. Букатов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
В.Букатов
Фабула и сюжет
Основы понимания художественного текста, изложенные в двенадцати экзерсисах с приложением и заданиями для самопроверки
«Тут есть необходимость спора.
Мы идем, отрицая вчерашний путь, мы идем, как бы падая вперед, и задерживаем падение тем, что ставим ногу вперед и снова ступаем другой ногой для нового задержанного падения.»
В. Шкловский. О теории прозы. 1982 г.
Экзерсис первый
Вступление
Иногда мы сталкиваемся с ситуациями, которые «так и просятся в книгу». Они могут быть смешными, грустными, трагичными, трогательными, невероятными и занимательными. Но те, кто наивно предлагают писателям свои «услуги» и снабжают их потрясающими событиями чьей-то (или своей) жизни, скорее всего могут не совсем понимать специфику литературного труда: для того, чтобы потрясение от письменно излагаемой истории произошло, читателя нужно каким-то образом ввести в курс дела и ввести так, чтобы он не отсеялся по пути.
Любая захватывающая история при изложении проходит сквозь сито экспозиции.
Чем длиннее экспозиция, тем объемистее произведение. Тем (в случае неудачи) больше отсев читателей.
Уже в античные времена бытовал совет начинать изложение с середины. И позже этот совет передавали или открывали заново писатели многих поколений.
Но любой ценный совет может не сработать, если самому не обнаружить в нем некую хитрость. «Начинать с середины» – не значит начинать действительно с середины, то есть обходиться без экспозиции. «Все смешалось в доме Облонских»,– встречаем мы на первой странице романа «Анна Каренина». Что это – середина повествования? Нет, ведь героиней романа будет Каренина. Это один из приемов, удерживающих внимание читателя на экспозиции, один из приемов усложнения и увеличения ее до размеров, позволяющих осуществиться всем восьми частям романа.
Русскому драматургу А. Н. Островскому мастерство позволяло писать пьесы с долгими экспозициями. Для того, чтобы удержать интерес зрителей (или читателей), он вводил в экспозицию разные забавные побочные ситуации. Например, в первое действие «Бесприданницы» он вводит эпизод с чайником, в который наливают шампанское. Эффект эпизода особенно заметен в театре. Зрители в это время сразу оживляются. Драматург помогает продержаться читателям и зрителям до того момента, когда они начнут понимать ход развивающихся событий. Подобный симпатичный и, казалось бы, наивный прием имеет секрет. Потом окажется, что существует прямая связь между этой забавной ситуацией и ситуацией, в которой находится Лариса. Жизнь Ларисы, так же как и чайник, трактирные посетители пытаются наполнить другим содержанием. Являясь вехами идущей трагедии, такие детали, забавляя публику, поддерживают экспозицию, помогая зрителям благополучно преодолеть ее объективную необходимость.
Читатели этой работы тоже должны будут войти в курс дела. Возможно, что экспозиция, которая не будет исчерпана вступлением, получится слишком затянутой. Поэтому автору придется, по примеру Островского, также позаботиться о развлечении-забавах читателей. Для начала это будет квадрига цитат:
«Темна моя теория, читатели, не правда ли? Что же делать. Она соответствует предмету.» ( Аполлон Григорьев . Офелия.)
«Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая – от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения.» ( А. С. Пушкин . Отрывки из писем, мысли, замечания.)
«Нелепость весьма часто сидит не в книге, а в уме читающего.» ( Ф. М. Достоевский . Из записной тетради.)
«§ 2. Одни будут порицать настоящий труд мой [ прошу учесть, что речь идет не об экзерсисах – В.Б.] потому, что не поймут хорошо преподанных мною правил. Другие, понявши их, захотят воспользоваться и на основании сих правил станут делать опыты изъяснения Писания, но не успев открыть и изъяснить то, чего желали, тотчас заключат, что я трудился напрасно и что труд мой никому не принесет пользы потому только, что они не умели им пользоваться. «…»
§ 3. Всем моим критикам в немногих словах ответствую следующее: непонимающие настоящего моего сочинения, конечно, не меня должны порицать за то, что не понимают его, так же точно, как не вправе были бы они сердиться на меня в таком случае, когда бы им хотелось, например, увидеть новую луну или какую-нибудь неясную звезду, и я со своей стороны пальцем указал бы им на оные, а у них между тем не доставало бы остроты зрения не только для луны и звезды, но даже для того, чтобы хоть перст мой увидеть.» ( Августин Блаженный . Христианская наука или основания св. герменевтики и церковного красноречия.)
Всякий экзерсис предполагает овладение определенными навыками, на которое уходит какое-то количество времени, отделяющее один урок от другого. Поэтому, если «Войну и мир» можно прочитать за один или два месяца, то учебники, учебные пособия и экзерсисы даже меньшего объема изучаются гораздо дольше. Во время работы автору пришло в голову сохранить эту традицию и некоторые экзерсисы отделять временн ы ми паузами, заполненными заданиями по самопроверке.
Автор не призывает своих читателей к серьезному выполнению этих заданий. Хорошо не только то, что делается серьезно. Автор просто надеется, что читателю, может быть, будет приятно лишний раз поразмыслить по поводу теории литературы и лишний раз проверить себя.
Обсуждение экзерсисов с первыми читателями-добровольцами показало, что если одни задания не представляют труда, то другие ставят в некоторое недоумение. Поэтому автору неоднократно высказывались пожелания включить раздел правильных ответов. Но автор, руководствуясь своими соображениями, эти пожелания выполнять не стал, и в этой публикации такого раздела вы не найдете.
Задания для самопроверки
А. П. Чехов одному из литераторов как-то дал такой совет: прежде чем отдавать написанные рассказы в печать, вырвать несколько первых страниц и уже в таком виде публиковать. Попробуйте прочитать незнакомый художественный текст с середины. А потом, как положено, с начала и определить для себя смысл чеховского совета. Почему, несмотря на древнюю рекомендацию, начинать повествование с середины, те литературные памятники, которые дошли до нас с отсутствующим началом, считаются ущербными? По ходу рассуждения об экспозиции у ряда читателей могли возникнуть мысленные возражения, заключающиеся в том, что все сказанное относится к драматургии, да еще XIX века, а вот, дескать, в прозе XX века зачастую дело обстоит совсем по-другому. В ней не то что короткой – вообще может не быть никакой экспозиции. На примере, допустим, рассказа Э. Хемингуэя «Кошка под дождем» попробуйте мысленно опровергнуть это возражение.
экзерсис второй
В капитальном труде, именуемом «Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении» и изданном Институтом мировой литературы Академии наук СССР в 1964 году, в статье «Сюжет, фабула, композиция» В. В. Кожинов пишет: «…» слова «сюжет», «действие», «фабула» настолько многозначны и взаимозаменяемы, что едва ли можно рассматривать их как научные термины. Каждое рассуждение о сюжетике вынуждено уделять немалое внимание собственно терминологическим вопросам».
Книгу эту мне привелось читать в библиотеке. Статья Кожинова, в отличие от других в сборнике, оказалась испещрена галочками, скобками, вертикальными (на полях) и горизонтальными (в тексте между строчек) линиями подчеркивания. Все они отличались по цвету, интенсивности (кто боязливо и скромно, а кто очень уверенно «следил» в книге) и сохранности – одни еле проступали сквозь следы ластика, другие полустерлись сами по себе за те 20 лет, которые прошли до моего чтения, третьи ярко сияли, привлекая внимание.
В статье было что подчеркивать. Оказывается, Сумароков и Карамзин пользовались словом «сюжет» для обозначения действия. Потом до последней трети XIX века «сюжет» был синонимом слова «тема», что, как замечает Кожинов, в теории живописи и скульптуры сохраняется и по сей день. В словаре Даля впервые фиксируется двусмысленность употребления интересующего нас слова. А Веселовский в своей теории пользовался термином «фабула» для обозначения того, что тогда уже традиционно именовалось сюжетом, и термином «сюжет» для обозначения фабулы.
Сам Кожинов под фабулой предлагает понимать основной событийный костяк произведения, «который может передаваться устно», под сюжетом же – «действие произведения во всей красе».
В статье автор приводит много интересных цитат из классиков. Из них особо интересным мне показалось мнение Островского, который фабулой считал то, что можно кратко пересказать.
Формулировка выдающегося драматурга перекликается с научным выводом Кожинова. Но одно дело художник-практик и другое – когда нечто схожее утверждает ученый-литературовед в теоретической статье. Возникает некоторое недоумение. Ведь если буквально подходить к такой формулировке (а наука ждет от читателя буквальной точности в понимании своих формулировок), то устным пересказом, пусть неказисто, но все же передать можно все: и фабулу, и сюжет, и идею, и образы. Чтобы услышать это, достаточно прийти на любую лекцию по литературе. Причем каждое из перечисленных понятий вполне можно назвать костяком литературного произведения.
Через страниц двадцать пометки читателей из текста статьи исчезают. К этому времени улетучился и мой первоначальный восторг. Любопытство удовлетворилось сполна. Стало понятным, что исследователь скрепляет свои рассуждения линейной логичностью, а законный читательский вопрос – что же дают эти рассуждения для понимания художественного текста? – остается без ответа. По образному выражению Августина Блаженного, читатель видит указующий на звезду перст, но не видит самой звезды. То ли у читателя не хватает остроты зрения, то ли перст не на звезду указует.
Маститый литературовед старшего поколения А. И. Ревякин, в отличие от В. В. Кожинова, вообще отрицал необходимость различения сюжета и фабулы. Разнобой в употреблении этих терминов он объяснил тем, что самих противоположных полюсов, которые могли бы обозначаться этими терминами, просто не существует. Отсюда путаница, вкусовщина, заумь. Свою точку зрения он изложил в пособии для преподавателей и студентов педагогических институтов «Словарь литературоведческих терминов» (изданном в 1972 и 1974 годах).
«В смысловом значении фабула и сюжет по сути дела синонимичны. Для определения событийного аспекта произведения нет необходимости в пользовании двумя терминами. Из них нужно избрать один – «сюжет» «…» Что дает практически при конкретном анализе художественного произведения различение на фабулу и сюжет – ничего! «…» Термин «фабула» не нашел рабочего действительно насущного применения в литературоведческой практике, искусственно усложняя анализ произведения, он вносит лишь путаницу».
Ревякин считал нужным в содержании различать: сюжет, тему и идею. Фабулу он исключил потому, что «в смысловом значении фабула (лат. fabula – басня, повествование, история) и сюжет (франц. sujet – предмет, содержание) по сути дела синонимичны». Справедливости ради укажем, что «тема» в переводе с греческого – основа, предмет, содержание. Поэтому по «смысловому значению» ее также следовало бы Ревякину признать синонимичной сюжету и исключить из категорий содержания художественного произведения.
Выдающийся психолог Л. С. Выготский (1896-1934) в книге «Психология искусства», впервые изданной в 1965 году, останавливаясь на разнобое в употреблении этих терминов, делал заключение несколько иное: «Так или иначе понимать эти слова – во всяком случае, необходимо разграничивать эти два понятия, и в этом согласны решительно все».
По концепции Выготского основная роль в возникновении эстетической реакции принадлежит несовпадению фабулы с сюжетом. «Если мы хотим узнать,– писал он,– в каком направлении протекало творчество поэта, выразившееся в создании рассказа, мы должны исследовать, какими приемами и с какими заданиями данная в рассказе фабула переработана поэтом и оформлена в данный поэтический сюжет».
Книга «Психология искусства» была написана в 1925 году и фраза о том, что с необходимостью разграничивать эти понятия «согласны решительно все»,– давно не соответствует действительности. Сегодня подобную необходимость видят далеко не все.
Было бы нелепо ставить психологу в вину, что он не предвидел ситуацию, которая сложится в литературоведении через пятьдесят лет. Впрочем, опровержение основному доводу Ревякина – что, якобы, разделение на фабулу и сюжет ничего не дает конкретному анализу художественного произведения – мы найти в «Психологии искусства» можем. Выготский уже в 1925 году убедительно развеял подобные доводы примерами сюжетно-фабульного анализа басен Крылова, новеллы Бунина «Легкое дыхание», трагедии Шекспира «Гамлет», романа Пушкина «Евгений Онегин». Как после этого соглашаться с утверждением Ревякина в 1972 году, что термин «фабула» не нашел «рабочего действительно насущного применения в литературной практике» (впрочем, если в виду имеется практика, в которой, по меткому каламбуру Ф. М. Достоевского, «из литературного дела делают дела, а не дело»,– тогда с этим утверждением нужно согласиться).
Экзерсис третий
Особенность литературо-ведения как науки
Исходный пункт исследования Выготского заключался в том, что художественность произведения определяется непосредственно особым эмоциональным ощущением. Из всех плодов литературной деятельности каждый из нас то или иное сочинение определяет как истинное произведение искусства не по наличию в нем определенных идей, характеров, образов, типов, конфликтов и т.п., а по своей реакции не прочитанное. Правда, не всем достает смелости признаться в своей реакции: «К истинному моему огорчению, я должен признаться, что роман этот, мне кажется, – положительно – плох, скучен и неудачен. Толстой зашел не в свой монастырь, и все его недостатки так и выпятились наружу. Все эти маленькие штучки, хитро подмеченные и вычурно высказанные, мелкие психологические замечания, которые он под предлогом «правды» выковыривает из-под мышек и других темных мест своих героев, – все это мизерно на широком полотне исторического романа. И он ставит этот несчастный продукт выше «Казаков». Тем хуже для него, если он говорит искренно. И как все это холодно, сухо – как чувствуется недостаток воображения и наивности в авторе, – как утомительно работает перед читателем одна память мелкого, случайного, ненужного»,– писал И. С. Тургенев в письме И. П. Борисову после прочтения в «Русском вестнике» первых 28 глав романа «Война и мир».
Не будем касаться вопроса о том, были или нет у Тургенева личные причины для того, чтобы позволить себе такую откровенность. Нам важно подчеркнуть, что гораздо легче по прочтении заслуженного, известного, но лично вас не впечатлившего литературного произведения утаить это свое впечатление, спрятавшись за общераспространенным мнением, утаить даже от самого себя, нежели искренно признаться в нем.
Когда чужое мнение подменяет собственное впечатление – искусство при восприятии произведения исчезает. Его место занимает искусная поделка, возможно модная в текущем сезоне. Формально в ней будет и актуальная тема, и типичные характеры, и образные описания и т.п. атрибуты, необходимые для того, чтобы претендовать на художественность. Разоблачить претензию может только собственное впечатление каждого читателя. Но если он привык и натренирован это впечатление прятать, скрывать, выверять или заменять его мнением других, то разоблачение не состоится. Наибольшие потери от этого несет сам читатель.
Тургенев свою оценку романа «Война и мир» позже решительно изменил и признал поспешность прежних выводов. Признал с той же бесстрашной искренностью. «“Война и мир”– смело можно сказать – одна из самых замечательных книг нашего времени», – писал он по прочтении всего романа. Механизм психологического воздействия сработал и «эти маленькие штучки, хитро подмеченные и вычурно высказанные» – сложились в одну из самых замечательных книг. «Психология искусства» была посвящена исследованию этого механизма.
Выготский был одним из пионеров строительства «новой психологии». Понимая, что «старая популярная психология» питала и в эстетике «всяческий субъективизм», ученый предложил пути перестраивания субъективистского искусствоведения в объективную науку. Теоретики искусства, считал Выготский, должны понять – для того, чтобы их заключения стали объективными, им нужно исходить из объективных предпосылок.
Рассмотрение реакции человека на произведение искусства Выготский строил на поиске соответствия этих реакций структуре «раздражителей» художественного текста. Поэтому и при рассмотрении структуры художественного текста он настоятельно советовал теоретикам-искусствоведам опираться на вызываемую этой структурой психологическую реакцию, для того чтобы предотвратить уклонение теоретических заключений в субъективизм и абстракцию. Выготский настаивал на том, что всякое произведение искусства естественно рассматривать как систему раздражителей, «сознательно и преднамеренно организованных» с таким расчетом, чтобы вызвать ту или иную эстетическую реакцию.
В аннотации ко второму изданию «Психологии искусства» (1968 г.) сказано, что эта работа Выготского завоевала всеобщее признание и является «одной из фундаментальнейших работ, характеризующих развитие отечественной теории искусства», и это действительно так. Вспоминается, как в годы советского застойного благополучия, в надежде приобрести книгу, «Психологию искусства» постоянно спрашивали начинающие психологи, литераторы и литературоведы в букинистических магазинах. В библиотеках она не задерживалась на полках.
И тем не менее с момента выхода первого издания заметных изменений в сторону объективности литературоведения не произошло. Теоретики иногда по-прежнему толкуют об идеях, темах, характерах, образах, сюжетах, так, как будто эти категории объективно содержатся в авторском тексте, а не возникают как нечто субъективное в сознании у каждого читателя, обрастая в «индивидуальном порядке» результатами «случайных процессов». Поэтому возникает необходимость возвращаться к разговору, начатому предшествующими поколениями исследователей.
Задания для самопроверки
Исходя из содержания второго экзерсиса, озаглавьте его. Как вы понимаете следующие высказывания:
«…» наше право и наша обязанность – прочитать Пушкина собственными глазами и в свете нашего опыта определить смысл и ценность его поэзии» ( Гершензон М.О. Мудрость Пушкина).
«Что на свете всего труднее?
Видеть своими глазами
То, что лежит перед нами» ( Гете И.-В .).
«Наши критики до сих пор силятся не понимать Пушкина» ( Достоевский Ф.М .).
Экзерсис четвертый
Современные литературоведческие категории и их соотношение со словами, составляющими текст
«Принц Гамлет читает книгу, – писал В. Б. Шкловский в своей последней книге «О теории прозы». – Когда его спрашивают, что он видит перед собой, он отвечает: “…слова, слова, слова!…”»
У Шекспира об этом написано не так. Но именно поэтому мы – читатели – понимаем ту мысль, которую Шкловский хочет высказать и которую он развивает дальше: «Это не анализ [ Гамлетом прочитанного – В.Б.] – это указание на ограниченность, предварительность восприятия слов и временный отказ, по крайней мере в присутствии предполагаемых врагов, пойти дальше, до понимания».
Если же «пойти дальше», то слова растворятся в понимании. Теория литературы раскладывает это понимание на категории – типы, идеи, образы, характеры и т.п. Предполагается, что результат такого членения полезен и для писателей и для их читателей.
Ревякин, как и ряд других специалистов, справедливо считал, что такое членение на составные части является условным и относительным. Поэтому возникает вопрос о принципе, который положен в основу этого членения. Почему в используемый современным литературоведением набор входят те, а не иные категории?
Даже при беглом знакомстве с учебниками, справочниками и статьями литературной энциклопедии становится очевидным, что устоявшиеся и притертые друг к другу категории есть не что иное, как эклектический конгломерат. Следы многих школ, направлений, учений, иногда взаимоисключающих друг друга, можно различить в нем. Принято считать, что следы эти есть запечатление этапов исторического развития теории литературы, этапов все большего уточнения представлений и приближения к объективно существующему положению дел.
Например, об «образе» говорили Гегель, Белинский, Потебня. Каждый из них пользовался этим термином для обозначения разного. «Образ» Гегеля лежал в логике понимания искусства как этапа самодвижения Абсолютного духа. У Белинского он вытекал из материалистической концепции критического реализма. Потебня пользовался «образом» в понятийных рамках психолого-лингвистической концепции. Поэтому, если по Гегелю своеобразие художественного образа есть своеобразие самого предмета, то у Белинского своеобразие образа заключается в отражении позиций определенного общественного идеала. В теории же Потебни образ – знак мыслей, возникавших у писателя при создании произведения и, одновременно, – знак читателю для возникновения собственных мыслей.
Если Белинский говорил, что искусство есть мышление в образах, то у Потебни «образ» является знаком мыслей, присущим любому типу мышления вообще. Белинский говорил о передаче зрителю образа художника, – Потебня подчеркивал, что образ рождается в сознании и художника и воспринимающего (для последнего художественный текст есть лишь материал, возбуждающий собственную фантазию). В результате объединения понятий «образ» разных концепций мы получаем, что (далее – цитата из Словаря литературоведческих терминов ) «художественный образ – понятие сложное, многогранное и многомерное, связанное с представлением об отношении искусства к действительности, о роли художника, о внутренних законах искусства, с проблемой художественного восприятия».
То же можно сказать и о других литературоведческих категориях. Получается, что сложность и многомерность каждой из таких категорий даже в отдельности становится равной сложности и многомерности самой художественной литературы.
Гамлет, по мысли Шкловского, отказавшись в присутствии Полония дойти до понимания «читаемого», видел перед собой «слова, слова, слова…». Слова составляют текст.
Термины «художественное произведение» и «художественный текст», случается, употребляются как синонимы. Художественный образ и подобные категории могут содержаться только в произведении, но никак не в тексте. В последнем мы можем найти только определенным образом отобранные и выстроенные в цепочку слова, слова, слова, которые, растворяясь в сознании читателя порождают то, что теоретики исследуют с помощью разложения на идею, образ, характер. К тексту же если и можно применить какие-то категории, то исключительно не эстетические, а, например, лексические, грамматические, идеологические и т.п., которые непосредственно феномен художественности не фиксируют.
Художественное произведение отличается от текста тем, что оно есть произведение одного сомножителя – коим является текст – на другой – с ознание читателя. Замена второго сомножителя при постоянном первом меняет все произведение. Ведь не секрет, что при чтении одной и той же книги (текста) у разных людей складывается разное представление о сущности прочитанного. То есть мы, имея один и тот же текст как первый сомножитель и разных читателей в качестве второго сомножителя, каждый раз получаем разные произведения.
Когда литературовед рассуждает о закономерностях построения в каком-нибудь художественном произведении характеров, воплощения идей и т.д., то по существу он оперирует единичными фактами своего субъективного понимания. В голове же другого этот текст складывается в другое произведение, в котором будут несколько иные характеры, образы, идеи. То же происходит и с рассмотрением фабулы и сюжета, также являющихся категориями художественного произведения. Поэтому то, что пишется в учебниках монографиях, словарях и энциклопедиях о литературоведческих категориях и о самих художественных произведениях, читателю зачастую трудно связать как с собственной практикой освоения художественной литературы, так и с самими словами, составляющими художественные тексты.