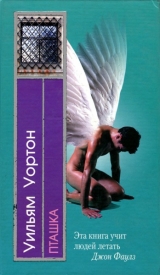
Текст книги "Пташка"
Автор книги: Уильям Уортон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
…

Следующим утром я решаю рискнуть и открываю дверь в Пташкину клетку. Потом я выхожу из вольера и сажусь наблюдать за происходящим в бинокль. Я всегда могу войти и спасти ее, если дела пойдут слишком плохо.
Пташка живехонько выпрыгивает наружу. Альфонсо сидит на верхнем насесте. Пташка видит, что я налил свежей воды для купания, так что после нескольких вопросительных «квипов» она слетает вниз, чтобы принять ванну. Его она совершенно игнорирует. Он приподнимается на своей жердочке и встает в боевую позу. Я каждую минуту жду, что он ринется вниз.
Пташка не торопясь выполняет всю свою обычную банную процедуру, но он не трогается с места и при этом не сводит с нее глаз. Этого я ожидал меньше всего. Пташка вспархивает на самый верх своей клетки и начинает чистить перышки.
После нескольких минут пристального наблюдения мой пикирующий бомбардировщик выполняет глубокое пике, склевывает зернышко-другое и делает несколько глотков. Не то скачет, не то порхает вокруг небольших лужиц, оставшихся после купания Пташки. Вспрыгивает на край ее «ванны», поводит туда-сюда головкой, словно собирается сам искупаться, но затем передумывает. Возвращается к блюдцу и склевывает еще несколько семян. В кормушке для лакомств у меня кое-что уже лежит, он наведывается и туда.
Потом делает свой невероятный прыжок вертикально вверх и, взмахнув несколько раз крылышками, вновь оказывается на самом верхнем насесте вольера. Там он разок-другой расправляет крылья, пытаясь делать вид, будто скучает. Он раз десять вытирает клюв о насест, показывая, как хорошо он напился, и издает характерный для канареек булькающий звук, точно полощет горло. Как водится у них, он при этом широко раскрывает клюв и шевелит языком. Сдвинув на сторону хвостик, он пару раз быстро клюет себя в попку. Мне становится скучно, ведь я ожидал увидеть по меньшей мере покушение на убийство.
Затем без всякой видимой причины он принимается петь. Начинает довольно тихо, затем выводит несколько рулад чуть громче, но постепенно поет все мощней, порывистей. При этом он начинает раскачиваться взад и вперед на своих тонких лапках и оживленно переступать ими по всей длине насеста. Он поет, наклоняясь вперед, полностью выпрямляя шею, как бы вытягивая ее. Его крылья слегка приподняты, грудка напряжена. Он смотрится чертовски «выразительным». То есть, я хочу сказать, он производит сильное впечатление на меня, но никак не на Пташку. Она как раз заканчивает приводить в порядок пушистые перышки на спинке.
Тогда Альфонсо начинает издавать протяжные звуки. Он задерживается на одной ноте так долго, что я начинаю бояться, как бы он не упал с насеста. Похоже, он не дышит вообще. Он точно свихнулся. Внезапно он падает камнем туда, где наслаждается покоем Пташка. Он приземляется в каком-то футе от нее, продолжая петь и во время броска, и уже на полу. Пташка пристально смотрит на него. Не прекращая петь, он тут же на нее наскакивает. Пташка подпрыгивает и взлетает на тот насест, который он только что покинул. Он гонится за ней, распевая вовсю. Все его тельце трепещет.
Это начинает походить на воздушный бой Первой мировой, притом Пташке никак не найти места, где она бы могла сесть, чтобы Альфонсо тут же не принялся на нее наскакивать. Ему даже удается каким-то образом доставать ее во время полета. Совершенно очевидно, что он хочет спариваться, но ясно и то, что Пташка абсолютно не готова к его грубой, примитивной тактике. Наконец, залетев в свою клетку, она совершает ошибку. Он следует за ней неотступно, и там начинается такой кавардак, что я спешу войти поскорее в вольер и засовываю руку в клетку, чтобы спасти Пташку. Он загнал ее в угол, и ей никак от него не ускользнуть. Она не сопротивляется, но наш забияка несколько раз сильно клюет меня в руку. Я собираюсь закрыть дверцу и запереть его внутри, но, прежде чем успеваю это сделать, он вылетает и моментально вспархивает на верхний насест и оттуда угрожает мне, приподняв крылья и раскрыв клюв.
Я выхожу из вольера и поскорее закрываю дверь, чтоб он не вылетел и оттуда. Затем отпускаю Пташку. Она топорщит перья, посылает мне «квип», потом «КВР-и-ип» и еще пару «пипов», после чего подлетает к сетке вольера. Ах, вот оно что: она флиртует. Она знает, что в безопасности, и решает его подразнить.
Делает она это так: подлетает к какому-то месту, а когда Альфонсо, заливаясь трелями как сумасшедший, кидается к ней, отлетает в сторону примерно на фут и садится там. Он опять подлетает к ней поближе. Так продолжается минут пять. После этого он опять взлетает на свой насест. Я полагаю, он выдохся или просто устал оттого, что она его дурачит. Пташка цепляется коготками за сетку и шлет ему «квипы», очень жалобные, очень призывные.
Через несколько минут он начинает петь, как ни в чем не бывало. Мы слушаем. Вот уж кто действительно умеет петь. Затем постепенно он опять возбуждается; такое впечатление, что он заводится от собственного пения. На этот раз он слетает с насеста на пол. Стоит на полу и поет, повернувшись к тому месту, где Пташка висит на стальной сетке. Он похож на оперного певца: стоит в лучах света на белом песке, поворачиваясь то влево, то вправо, и поет, делая короткие шажки вперед и назад. Я впервые вижу, чтобы движения канарейки напоминали ходьбу.
Пташка приземляется на пол у вольера и смотрит на Альфонсо через сетку. Он продолжает петь и, медленно переступая лапками, подбирается ближе, исторгая теноровые трели. Она не двигается. Вот он у самой сетки, расстояние между ними не превышает дюйма. Он заливается неистово. Пташка глядит на него, слушает, а затем начинает издавать знакомый мне тихий, хныкающий щебет, означающий: «Покормите меня». Она приседает, и крылышки ее быстро трепещут, она раскрывает клюв и просовывает его через сетку.
Альфонсо перестает петь и смотрит на нее. Похоже, не может взять в толк, что это значит, к чему бы это. Он наклоняет головку набок, заглядывает ей в клюв, прислушивается и начинает петь снова. Бедная Пташка. Он опять раскачивается взад и вперед, наклоняется все ниже, пока горло не касается пола. Его голова поднимается и опускается, вторя порывам его страсти. Когда наконец он больше не в силах выносить это, он с размаху кидается на сетку вольера.
Это пугает Пташку, и она отлетает. Он карабкается вверх по сетке, стараясь увидеть, разглядеть ее. Она подлетает к зеркалу на стене и смотрится в него. Какое-то время он висит и смотрит, потом слетает вниз, на пол, и начинает пить. Все эти страсти, должно быть, вызвали у него жажду.
Тот же ритуал повторяется снова и снова, чуть ли не весь день. В самый критический момент Пташка просит, чтобы ее покормили, но Альфонсо то ли об этом не догадывается, то ли не может заставить себя это сделать, то ли просто не знает как. В растерянности я сажаю Пташку обратно в ее клетку и выхожу из комнаты.
В тот вечер я опять выпускаю Пташку полетать, пока делаю новый чертеж крыльев. Я сижу за письменным столом, горит лишь настольная лампа, так что в вольере совсем темно. Но света все же достаточно, чтобы я видел, как Альфонсо висит на боковой стенке Пташкиной клетки. Он опять начинает петь. Когда он останавливается, Пташка снова начинает щебетать, словно хнычет, и расправлять перышки. И наконец он это делает. Кормит ее через прутья клетки.
После этого он взлетает на самый верх ее клетки и поет. Поет так, словно пытается что-то сказать. В его пении слышится мольба, а вовсе не звуки типа: «Приди ко мне, бэби!», как до сих пор. Пташка сидит совершенно неподвижно и слушает. Я – тоже. В его пении я различаю бесконечное разнообразие пассажей. Некоторые колена он исполняет особенно хорошо; их он повторяет, модулируя по громкости или по тону, сочетая и варьируя на множество ладов.
В его песне – открытое небо, сила крыльев и мягкая нежность перьев. Он рассказывает, как это будет, когда она позволит ему опустить его маленькую пипку в ее маленькую щелку. Все понятно, как во всякой любовной песне. Он поет о вещах, которые никак не мог увидеть или узнать в вольере у мистера Линкольна. В его песне, должно быть, ожили воспоминания, перешедшие к нему вместе с кровью предков. В ней пение рек, журчание воды, а также песни зеленого поля и семени, причем не только в колосьях, но и вообще везде, где ему самой природой определено быть. Эту песню я никогда не забуду. Именно слушая ее, я начал кое-что понимать в языке канареек. Этот язык не такой, как наш, в нем нет отдельных слов, соединенных в предложения. В своем пении кенар выражает самого себя, а не мысль, и тем, кто его слышит, оно понятней любых слов. Получается так, будто вы сами все это продумываете. Язык канареек гораздо больше похож на чувства, на абстракцию, чем любой другой. Слушая Альфонсо той ночью, я узнал вещи, о которых догадывался, что они должны быть, но которых никогда не понимал. Это была песнь существа, знающего, как летать.
Следующий день приходится на воскресенье, и, возвратившись с мессы, я запускаю Пташку в вольер. Она делает глиссаду, опускается на пол и скачет к кормушке. Едва завидев ее, Альфонсо камнем летит вниз. Я уже было решил, что все начинается по новой, но он вспрыгивает на противоположный край блюдца с кормом и склевывает несколько семечек. Пташка забирается в чашку с водой и начинает свое утреннее омовение. Альфонсо стоит рядом и смотрит, и когда она отряхивается, капли воды летят на него, словно из душа. Он вспархивает на самый нижний насест, затем вновь слетает на пол. Теперь в чашку с водой залезает он. Просто поразительно, он по-настоящему плещется в ней, разбрызгивая воду по всему вольеру, подбрасывая клювом капли, так что они взлетают вверх и перелетают через его спину, Пташка так никогда не делала. Затем они оказываются в воде вместе, разом погружаясь и одновременно выныривая, до тех пор, пока вода в чашке не кончается. Потом они вдвоем кружат по всему вольеру, как сумасшедшие, – чтобы обсохнуть. Пташка явно переняла его яростный стиль купания и вошла во вкус. Перья вокруг клюва Альфонсо топорщатся так, что едва ли не заслоняют глаза. Он совершенно промок, его перья тяжелые, так и свисают. Он выглядит каким-то замарашкой. И долго еще продолжает летать взад и вперед после того, как Пташка садится на жердочку и принимается чистить перья. Он трется мокрым клювом о насест и прутья решетки. Затем слетает вниз и трется головой о стенку, обо что попало. Да уж, купается он явно нечасто, а если купается, то без удовольствия.
Наконец он сухой и чистый. Они снова едят вместе, и она опять начинает жалобно пищать, подавая прежний сигнал: «Покорми меня». Он ее кормит, но при этом так возбуждается, что начинает снова петь, а потом даже и пританцовывать. Держит одну длинную ноту – и танцует, выделывая круги вокруг Пташки. Он то втягивает, то вытягивает голову, выбивает лапками какой-то ему одному ведомый ритм. Все ясно, думаю я, опять началось.
Пока он все это проделывает, Пташка начинает пританцовывать тоже, но по-своему. Она приседает, попискивает, поворачивается на месте так, чтобы, пока он танцует, все время оказываться с ним более или менее бок о бок. В одно мгновение Альфонсо взлетает над ней и зависает, опуская при этом свою пипку под ее приподнятый хвостик, прямо в ее щелочку. Это длится всего несколько секунд, и все это время он парит в воздухе. Единственной точкой, где они действительно соприкасаются, оказывается место, где он в нее вошел.
Закончив, он приземляется рядом с ней, приседает и начинает сам подавать сигнал: «Покорми меня». С минуту они суетятся, крутятся друг около дружки, попеременно кормя и принимая корм. Потом он делает это снова. На сей раз он не поет, и слышится лишь довольное щебетание Пташки да шелест его крыльев, когда он опять повисает над ней. Она взмахивает своими крыльями в противофазе, и вокруг них создаются воздушные вихри. Просто удивительно, что птица может бешено махать крыльями и при этом не двигаться с места ни на дюйм, а когда нужно лететь, едва уловимое, очень простое движение крыла посылает птицу вперед, вверх – на расстояние в двадцать, в тридцать раз превышающее ее собственную длину; тут есть о чем подумать. Полет – это нечто гораздо большее, чем взмахи крыльев.
Теперь Пташка становится прямо-таки сама не своя от возбуждения. Она слетает на пол клетки, щебечет, издавая негромкие короткие «пипы», и яростно машет крыльями, словно не в силах остановиться. Она так взволнована, что даже не может как следует есть. Слетит вниз, склюет зернышко, а затем вскинет голову, будто забыла о чем-то, и снова кружит как сумасшедшая. Чуть не каждые пять минут она ныряет в свою старую клетку, проверяя, как там дела, – просто чтобы удостовериться. Потом начинает рвать бумагу на полу клетки и таскать ее кусочки в клюве. Сперва она не знает, что с ними делать, затем начинает складывать их в углах вольера и в своей клетке. Примерно каждые полчаса Альфонсо приходит в себя настолько, чтобы погоняться за Пташкой, покормить ее, и они опять делают это. Каким-то суетливым выдалось это воскресенье.
На следующий день, в понедельник, я покупаю проволочное ситечко без ручки, дюйма четыре в диаметре. Прикручиваю его куском провода к прутьям в малой клетке. Во всех книжках сказано, что именно из ситечка получается самое лучшее гнездо, потому что в нем не заводятся блошки. Затем я отстригаю ножницами горловину дерюжного мешка и нарезаю грубую ткань квадратами примерно два на два дюйма, чтобы надергать нитки той же длины. Я раскладываю их пучками по разным углам вольера. Пташка с воодушевлением принимается за работу. Начинает с того, что разбрасывает их по всему вольеру, затем берет в клюв по одной ниточке и летает туда-сюда, пока не забудет, что у нее в клюве, и не выронит. Похоже, она думает, это какая-то новая игра. Ей интересно, однако она никак не может решить, что со всем этим делать.
Проходит два дня, и я начинаю тревожиться. Обычно яйцо должно быть отложено в течение четырех дней после оплодотворения. Мне приходилось читать о птицах, которые могут снести яйцо прямо на пол, – просто ерунда какая-то. Выходит, птицы тоже бывают по-своему чокнутые, – они, как и люди, забывают о многих вещах, которые им должна бы подсказать сама природа, но они так давно живут в клетках.
На третий день на помощь приходит Альфонсо. Прежде он прикидывался, что его дело сторона. Теперь же он берет в клюв дерюжную нитку, летит прямо к гнезду и бросает ее туда. Пташка наблюдаem за этим с явным недоумением. Тогда Альфонсо прыгает в ситечко, превращенное в гнездо, и начинает топтаться в нем, словно купается, затем выпрыгивает. Пташка следует за ним в клетку. У нее в клюве тоже кусочек дерюги. Альфонсо запрыгивает в гнездо и снова показывает, что нужно делать. Тогда и Пташка прыгает в гнездо, держа ниточку в клюве. Выпрыгивает оттуда. Альфонсо берет ниточку из ее клюва и бросает в гнездо. Пташка смотрит на него как на полоумного, вылетает из клетки и опять затевает прежнюю игру с нитками. Альфонсо забирается в гнездо и ждет ее. Пташка возвращается с двумя нитками в клювике. Альфонсо покидает гнездо, и туда прыгает Пташка. Альфонсо запрыгивает на Пташку и принимается петь и клевать ее в шейку. Пташка то жалобно щебечет, то пытается выскользнуть. Альфонсо слезает с нее, приседает и кормит сидящую в гнезде Пташку. Потом снова поет ей. Пташка пытается вскочить на край гнезда, но Альфонсо силой заставляет ее вернуться обратно и опять поет, клюет ее – словом, все повторяется снова. Затем он летит вниз, чтобы принести еще немного дерюжки.
Наконец Пташка улавливает, что от нее требуется. Она вспрыгивает на край гнезда, затем возвращается обратно и устраивается поуютнее. Потом опять выпрыгивает и опять возвращается. К этому времени Альфонсо тоже успевает вернуться. Она берет у него из клюва кусочки дерюги и кладет их в гнездо. Вспрыгивает на образовавшуюся из них кучку и топчется на месте. Я начинаю надеяться, что теперь дело пойдет на лад.
…

Вскоре после жратвы я встречаю пацифиста, который этим вечером опять оказывается дежурным санитаром на Пташкином этаже. Завязывается беседа. Он говорит, что его зовут Фил Ринальди; он итальянец, но его семья родом не из Сицилии. Его дед с бабкой приехали откуда-то из окрестностей Неаполя. Он приглашает меня угоститься фруктовым пирогом, который ему только что прислали из дома. Я все еще сомневаюсь, не педик ли он, однако соглашаюсь пойти. Ну и что же, что я в нем не уверен, какое мне дело: в конце концов, я не уверен даже в самом себе. Может, у меня будет возможность расспросить его, каково быть не таким, как все.
У него тут потрясное гнездышко. Маленькая дежурка, совершенно отдельная выгородка. Похоже на комнату сержанта нашего взвода в Джексоне. Ринальди в ней полный хозяин. Она закреплена за ним, так что в ней он почти дома. На столике у изголовья кровати стоит проигрыватель, а посреди комнатки есть еще один стол. Над этим столом он повесил абажур. У него даже имеются чайник и маленькая электроплитка. К чему я так и не смог привыкнуть в армии, так это к голым лампочкам. Дома мать всегда вешала на них разноцветные абажурчики. Это делает наш дом по-итальянски уютным; попавший туда сразу понимает, что здесь едят феттучини и зепполи. В казармах лампочки вешают как можно выше, под самый потолок. В их свете все становится каким-то мертвенным, особенно давящим.
Свой абажур мой новый приятель Ринальди соорудил из куска оранжевой бумаги. Он придает комнате приятный, «гражданский» вид. Ринальди достает пирог, и тут выясняется, что посылку прислала не мать, а его девушка. Родом он из городка под названием Стьюбенвилл, это в штате Огайо. Его девушка сейчас живет там и пишет ему каждый день. Он показывает мне пачки писем, их хватило бы, чтобы наполнить доверху целую почтальонскую сумку. Они у него хранятся в большой коробке под кроватью. Он показывает мне ее фотографии – обычная итальяночка, которую разнесет после первого же ребенка.
Я все не могу придумать, как спросить у него о том, что именно делает кого-то чокнутым. Пока я хожу вокруг да около, речь каким-то образом заходит обо всем, связанном с альтернативной службой. Я приготавливаюсь выслушать его историю. А пока говорю о том, как сначала поступил в национальную гвардию штата, а затем сам пошел в регулярную армию. Сейчас мне в это даже трудно поверить. Он любопытствует почему. Не то чтобы он язвил или что-нибудь в этом роде – ему честно хочется это узнать. Говорю вам, я собирался послушать, что он расскажет, но этот парень просто какой-то чемпион среди слушателей. Ты чувствуешь, что ему действительно интересно.
Очень немногих людей по-настоящему интересует, что думают другие или что они хотят сказать. Самое большее, на что обычно можно надеяться, это на то, что вас будут слушать настолько же внимательно, насколько вы слушаете сами. Обычно же люди всего-навсего грузят других собственным дерьмом. Иногда кто-нибудь делает вид, что слушает, однако на самом деле каждый только и ждет, когда вы скажете что-нибудь такое, с чего ему можно будет перескочить на свое, заранее прокручивая в уме, что скажет, когда настанет его очередь говорить. Для меня, например, такие разговоры всегда скучны.
Ринальди слушает по-настоящему. Хочет вас услышать. У вас возникает чувство, что вы доставляете ему удовольствие, когда что-то рассказываете. Он слушает так, будто то, что вы говорите, ему важно, и задает вопросы, которые вам самому захотелось бы услышать, причем как раз тогда, когда для этого наступает самое подходящее время. В этом отношении Ринальди в качестве слушателя напоминает медицинскую клизму. Я уже близок к тому, чтобы вывалить ему все начистоту, и только в последнюю минуту мне удается сдержаться. Может, он мне таким кажется лишь потому, что мне чертовски хочется перед кем-то выговориться.
Ринальди начинает с того, что рассказывает, как тяжело переживают его родители. У них он единственный сын, и, кстати, единственный на всю округу, кто пошел на альтернативную службу. Мать расстраивается, что ей не довелось повесить на окно синюю звезду. Соседки прислали ей синий флаг с желтой звездой. Именно желтой, а не золотой. Обычно если вашего сына, мужа или брата убивают на войне, то вы можете вывесить на окне золотую звезду, и тогда вас называют «золотозвездной матерью» – или, соответственно, сестрой, или женой. А соседки теперь называют его мать «желтозвездной матерью». И она пишет Ринальди о подобных вещах, а также о том, что ей регулярно гадят на крыльцо или обмазывают дерьмом дверную ручку. Ринальди говорит, что пару раз чуть было не сдался. Его девушка переписывается с ним тайно. А он пишет ей до востребования.
Мы оба согласны с тем, что единственное безумие – это войны. В этом месте мне следовало бы вовлечь его в разговор о психах, ну и так далее, но я упускаю этот шанс. Ринальди включает плитку и ставит чайник, налив в него воду из канистры. Потом мы опять разговариваем.
Ринальди исполнилось двадцать пять, и он уже собирался получить степень магистра философии в Колумбийском университете, когда его попытались загрести. Он высказывается в том духе, что, мол, такие вещи, как войны, можно прекратить только тогда, когда за это возьмутся все вместе и каждый по очереди. Тогда никто не сможет объявить таких людей вне закона. Он спрашивает меня, действительно ли большинство парней в моей части хотели воевать. Я так и не смог вспомнить ни одного, кому нравилась бы эта чертова война после первого же артобстрела. Тогда он интересуется, как обстояли дела в Штатах, еще до отправки. По правде сказать, единственным человеком, о котором я мог вспомнить, что ему хотелось побывать в бою, оказался я сам.
Затем мы переходим на атомную бомбу, которую опять недавно испытывали. Вот уж на что Ринальди накинулся так накинулся. А по мне, разве не она положила конец войне с японцами? По-моему, это самое лучшее, что когда-либо случалось в нашей истории. И я заявляю, что мне наплевать, сколько там за один раз укокошили япошек – одну тысячу или две. Если б меня спросили, я так и сказал бы, что это самый лучший и самый простой способ.
– Ну да, только подумай вот о чем, Эл: от атомной бомбы погибли женщины и дети, которые вообще не участвовали в войне!
– А какая разница, все равно япошки. Раз воюем с японцами, то и убиваем японцев.
– Да, Эл, но солдаты пошли на войну сознательно, а это были невинные жертвы.
Я отвечаю, что на подобное не куплюсь. Пожалуйста, убивайте таких придурков, как я, врагов, которые сами ищут приключений для своей задницы, но большинство парней вовсе не хотят никакой войны, так что они такие же невинные жертвы, как и другие. Они бегают там с автоматами наперевес только из-за того, что отличаются от остальных людей своим возрастом и тем, что гадят в других сортирах. От женщин, от стариков и даже от детей тоже зависит, случится война или нет, причем не меньше, чем от других, а может, и больше. Они совсем не такие, как Ринальди и Пташка, они даже Пташку достали. Нельзя, чтобы мир основывался на таких, как эти двое, слишком редкая порода.
Ринальди продолжает пялиться на меня не мигая, так что я решаю ему рассказать про Пташку и моего старика. Мне приходит в голову, что эта история может пояснить, что я имею в виду. Вообще-то кто знает: может, если мне вздумается прочесть по памяти таблицу умножения, Ринальди проглотит и это.
Тот отрезает еще по куску пирога и наливает еще по кружке чая. Вы можете в это поверить? Чай! Просто с ума сойти. Еще полгода назад никто не сумел бы меня убедить, что этот парень не педик.
Если ехать с Лонг-лейн по направлению к Шестнадцатой улице, то где-то на полпути находилась площадка, где стояли бэушные автомобили. Каждую пятницу, когда подходило время сдавать книги в библиотеку, мы с Пташкой отправлялись туда ближе к вечеру и по дороге обязательно останавливались поглазеть на машины. Мы с Пташкой просто сходили с ума по моторам. Сами по себе авто нас не слишком-то волновали – Птаха, представьте себе, даже клялся, что не сидел за рулем ни разу, – нас жутко интересовало, как у них работает двигатель. Нам уже довелось покопаться кое в каких двигателях – например, в моторчиках для авиамоделей, в моторе от раскуроченного мотороллера и, наконец, мы как-то раз чинили мистеру Хардингу его газонокосилку.
Мой старик покупал каждый год новый автомобиль и всегда ставил его перед домом – смотрите, мол, каков я. Мне приходилось его мыть и вообще наводить на него марафет по крайней мере раз в неделю. Обычно Птаха мне помогал. Мы с ним перечитали все прилагавшиеся инструкции и руководства. Отец всегда покупал «де-сото», потому что у этой шайки было представительство в Филадельфии – так что, поторговавшись, можно было получить машину почти даром. Брат моей матери – один из самых больших пройдох во всей Филадельфии, так вот он ему это и устраивал. Мы были единственной семьей на весь квартал, которая могла похвастать чем-то, напоминающим новый автомобиль. А Пташкины родители даже и водить-то не умели. Его отец приезжал в школу на школьном автобусе.
Как бы то ни было, но мы с ним чистили свечи и отлаживали зажигание, регулировали карбюратор и зачищали контакты гораздо чаще, чем это требовалось. Мы содержали двигатель в такой чистоте, какую увидишь разве что на выставке в автосалоне.
Мы с Пташкой частенько туда наведывались. Мы помнили, сколько у какой автомашины лошадиных сил, какое у каждой передаточное число, какой ход поршня и какой объем цилиндров. Что он, что я могли узнать почти любую модель по одному только звуку работающего мотора, даже не видя саму машину.
Однажды в пятницу вечером мы, как всегда, ошивались возле этих подержанных автомобилей и увидели там прямо-таки фантастическую машину. Это был «штуц беркет» пятнадцатого года выпуска. Ума не приложу, как он туда попал. Он был не на ходу, и шины спущены. Шварц – так звали парня, который крутил там свой бизнес, – рассказал, что притащил эту машину на буксире после того, как заплатил за нее двадцать пять баксов кому-то, кто купил у него «додж» тридцать восьмого года. Мы с Пташкой все не могли ни оторваться от этого авто, ни выкинуть его из головы. Постоянно хотелось его погладить. У него был восьмицилиндровый двигатель, а к тому же и кузов был в отличном состоянии. Мы торговались недели две и сошлись на тридцати долларах; еще в три доллара нам встала буксировка до нашего гаража. Старик разрешил нам пользоваться гаражом до зимы, пока не станет слишком холодно и уже нельзя будет оставлять его машину перед домом.
Мы вкалывали как проклятые, приводя наше авто в порядок. Разобрали двигатель до винтика. Поршни так засели в цилиндрах, что мы их еле оттуда вытащили. Цилиндры мы расточили. Поставили новые кольца и шатуны. Те детали, которые мы не смогли купить, Пташка изготовил сам в школьной слесарной мастерской – той самой, где мастерил свои крылья. Мы сняли всю краску, зашпаклевали все вмятины и начистили хромированные детали. На них было не гальваническое покрытие, а хороший, толстый слой хрома. Поставили новые шланги, накачали шины. У этой автомашины были настоящие деревянные колеса со спицами.
С тысячной, наверное, попытки мы сумели наконец провернуть вал двигателя. Сцепление, передача и так далее – все было в обалденно хорошем состоянии. Двигатель мы в итоге отладили как часы. Подлатали, почистили кожаные сиденья, смазали их каким-то маслом фирмы «Нитсфут», а по деревянным деталям прошлись шкуркой и покрыли их лаком. Боже мой, как стало красиво! Потом еще раз прошлись наждаком по металлу и покрасили машину в серебристо-серый цвет. На все это ушло целых три месяца.
Когда, крутанув ручку, мы все-таки завели мотор, то услышали глубокий, резонирующий рык – наконец-то! Казалось, вибрирует весь гараж. Мы выкатили автомобиль и проехались по дорожке, ведущей к дому, – туда и обратно. Понятно, ни у одного из нас не было водительских прав. Машина была не зарегистрирована, и на ней не было наклейки о прохождении техосмотра. Так что садиться за руль мы не имели ни малейшего права – это было строжайше запрещено. Мы понимали, что машина ценная, но вовсе не хотели ее продавать: мы были в нее влюблены.
Мы только о ней и думали, я и теперь иногда этим занимаюсь. Представляю мысленно, будто мы на ней мчимся по какой-то приятной, красивой местности, – может, где-то за границей, например во Франции. Там нет рекламных щитов на обочинах, дорога обсажена деревьями, а на полях уйма цветов.
Мы решаем зарегистрировать ее в дорожной инспекции штата Пенсильвания. Старик вызывается сам туда съездить и сделать для нас все, что нужно. Маловаты мы еще, чтобы иметь собственную машину. Она проходит технический осмотр, и ее ставят на учет, записав на имя моего старика. Номер, который тогда выдали, я запомнил навсегда. Вот он: «QRT 645».
Весной Птаха редко выходит из дому, все возится со своими канарейками, а я сижу в гараже, вожусь с машиной, иногда спускаюсь в погреб поработать со штангой. Я уже могу выжать больше ста пятидесяти фунтов. Ну и, разумеется, накачиваю пресс. Могу напрячь мускулы на животе, собрав их в клубок, и перегонять из стороны в сторону. Я частенько прошу Пташку посильнее заехать мне кулаком в брюхо и посмотреть, как я держу удар, но он почему-то не хочет.
Месяца через два после того, как мы зарегистрировали машину и получили свидетельство о техосмотре, я захожу после школы в гараж, чтобы поставить на руль новую оплетку. Машина пропала! Я уверен, что ее кто-то украл! Бегу в дом, а там мой старик сидит в гостиной и читает газету. Сидит, нога на ногу. Ноги у него такие короткие и такие толстые в бедрах, что верхняя нога не сгибается и торчит вперед. На ногах черные туфли и белые шелковые носки. По-моему, он что-то имеет против цветных и шерстяных носков.
– Кто-то украл машину!
– Никто ее не украл. Я ее продал.
Он даже не отрывает глаз от газеты.
– Да ну тебя! Хватит валять дурака! Ты не мог ее продать! Кто бы ее купил!
– Твой дядя Ники заехал с одним из своих «друзей», и тому понравилась эта машина; он решил, что это авто настоящий уродец, и предложил мне стодолларовую бумажку. Что бы ты сделал на моем месте: нажил бед на свою голову из-за какой-то старой рухляди?
При этих словах он все-таки отрывается от газеты и смотрит на меня, затем переворачивает страницу, ударяет по ней ладонью, чтобы распрямить, и смотрит в сторону. Дядя Ники – старший брат моей матери. Я бросаюсь к ней.
– Это правда? Он что, действительно продал нашу машину одному из дружков дяди Ники, кому-то из этих гангстеров?








