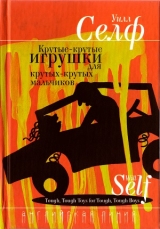
Текст книги "Крутые-крутые игрушки для крутых-крутых мальчиков"
Автор книги: Уилл Селф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Они выбрались из такси. Вечер выдался ясным; по ночному небу, изрезанному крышами домов, колоннами, антеннами и емкостями для воды, переделанными под комнаты для эмотов, плыли сонные звезды. В «Бауэри», как и во многих фешенебельных манхэттенских заведениях, был устроен «ресторан в ресторане», где подавали блюда специально для эмотов. Назывался он просто «Уголок эмота». Брайон широко ухмыльнулся, когда понял наконец, куда они пришли, – как и все эмоты, он практически не ориентировался в пространстве, – и, обернувшись к своей стройной подруге, с радостным смехом объявил:
– Тебе здесь понравится, Джейн, – у них даже разливная мускатная шипучка есть!
И снова «взрослые» присоединились к искрометному, заговорщицкому веселью, которое всегда присутствует в смешанной компании, где есть зрелые люди и подростки.
Устроив своих эмотов в их ресторанчике, они вошли в «Бауэри» и сели за столик. Тревис заказал бутылку «Монтраше», после чего спросил Карин:
– Ты не против, если мы побудем без эмотов? Потому что я, вообще-то, предпочитаю всегда быть в обществе Брайона.
Когда она ответила: «Я тоже», – он был в восторге, а когда призналась ему, почему, пришел в изумление. Карин решилась-таки рассказать Тревису о том, что случилось дома у Эмиля, – еще перед тем, как не стала отменять встречу в «Ройялтоне». Какой смысл, рассуждала она, ходить на свидания, если ей не придется обдумывать – даже теоретически – перспективу остаться на ночь. А если у Тревиса будут с этим проблемы? Ну что ж, – как резонно заметила Джейн, – значит, это не твой вариант.
Тревис очень внимательно слушал ее жуткую историю, лишь изредка, в нужных местах бормоча «О, Господи». Когда она закончила, он просто заметил: «Карин, черт возьми, ты смелая женщина», – и тут же поразил ее куда больше, чем она его, сказав, что с ним случилось то же самое. И даже намного, намного хуже – женщина, пригласившая Тревиса переночевать у нее дома, прикоснуласьк нему по-настоящему, и достаточно интимно, прежде чем подоспел на помощь Брайон. Тревис изо всех сил старался не сгущать краски, но Карин почувствовала, какая тяжесть свалилась с его души, – ведь очевидно, что она первая, кому он об этом рассказывал.
Теперь становились понятными и его робость, и столь близкие отношения с эмотом. Также это помогло ей понять, отчего ее новый друг звал себя «дилетантом» – Тревис вскользь упомянул, что в то время, когда подвергся насилию, он был преуспевающим антикваром, а обидчица – одной из постоянных покупательниц. Карин прекрасно осознавала, что после случившегося ему пришлось оставить дело.
И хотя оба изрядно рисковали, решившись на подобные признания, тем самым между ними разверзлась бездна откровенности, которую никак нельзя было перейти по шаткому мостику одной лишь застольной беседы, – но ведь Тревис и Карин, в конце концов, были взрослыми людьми и быстро сменили тему. К тому времени, как они управились с первым блюдом, стало ясно, что свидание определенно удалось.
Никто так и не понял, кому первому пришла в голову мысль отправиться домой к Тревису на кофе и бренди; однако, когда Карин согласилась, у обоих не было сомнений, чем это закончится. Тревис сказал:
– На самом деле, я просто до смерти хочу курить, а дома у меня гаванские сигары, и раз уж мы так... В любом случае, – продолжал он, магическим образом набравшись смелости, – если Джейн или Брайон нам понадобятся, мы всегда можем отправить им сообщение. – Изящным жестом Тревис продемонстрировал спутнице крошечный пейджер для связи с эмотом, скрытый в выпуклой части его перстня с печаткой. В ответ Карин молча показала ему, где прятала свой, – по ее заказу его вмонтировали в то самое витое ожерелье. Оба понимали, насколько значимой была эта сцена.
Стояла дивная, почти по-летнему теплая ночь, и все четверо отправились из «Бауэри» пешком. «Взрослые» шли впереди, за ними, характерной неуклюжей, шаркающей походкой, брели эмоты. Оглянувшись на них, Карин заметила:
– Ты не находишь странным, Тревис: когда надо обнять «взрослого», приласкать его, или понести на руках, или поцеловать, – эмоты такие грациозные и ловкие, а когда они делают свои дела, – становятся совсем неуклюжими.
– На то они и эмоты, – решительно заявил Тревис.
У Карин имелось достаточно состоятельных знакомых, но среди них не было никого, кто владел бы целым особняком из бурого песчаника, да к тому же в районе Грамерси-парка. Снаружи дом был очень красив; изящные балконные перила кованого железа увивала глициния – сейчас она только-только зацветала, а с приходом лета ее пышный цвет и вовсе скроет их из виду. Внутреннее убранство дома сочетало в себе роскошь и аскетизм. Тревис не стал захламлять комнаты антикварными диковинами – в каждой стояло лишь несколько со вкусом подобранных вещей. Он повел Карин по всему дому.
– Надо же, не думала, какой огромный... Ого! Ничего себе! Это то, что я думаю?
– Хепплуайт [7]7
Хепплуайт – возникший в XVIII веке стиль мебели, красного дерева; славится своим изяществом и тонкостью отделки (назван по имени столяра-краснодеревщика Дж. Хепплуайта (George Hepplewhite)).
[Закрыть], да, а это кресло работы мастерской Фрэнка Ллойда Уайта – сделано в Чикаго в тысяча девятьсот седьмом.
Он показал гостье большую спальню и смежную с ней спальню для эмота.
– Неплохо устроено. – Карин уже настолько расслабилась, что не боялась говорить банальности.
Тревис мягко улыбнулся:
– Это еще не все.
Они поднялись по крутой и высокой как «американские горки» лестнице на один этаж, где располагались еще две смежные комнаты – одна для «взрослого», вторая – для его спутника, а этажом выше – еще две.
– Это то, чего я хотел после... ну... в общем, я решил, что лучше, если ночами Брайон будет всегда рядом – чтобы приободрить меня, когда понадобится, обнять, да мало ли что. Знаю, большинство отправляет своих эмотов ночевать в спальню под крышей, но... понимаешь....
– Понимаю, – сказала Карин, и это было правдой.
Они выпили марочного бренди, сделанного в год обвала на Уолл-стрит. Тревис закурил вожделенную «Параграс перфекто». На антикварном патефоне «Виктрола» поскрипывала антикварная же пластинка – Шаляпин, «Песня бурлака». Они сидели лицом друг к другу в подходящих по стилю креслах эпохи арт-деко с полукруглыми спинками, инкрустированными черепаховым панцирем. В глубине комнаты, скрытые полутьмой, на огромной тахте развалились их эмоты, прихлебывая сладкий лимонад и робко, как подростки, поглядывая друг на друга.
Карин захотелось, чтобы этот вечер длился вечно. Она уже выпила три порции бренди, и это после двух бутылок вина на двоих и порции мартини с водкой в баре «Ройялтона». Однако пьяной она себя не чувствовала – скорее наоборот. Точно, переборов единым махом страх перед свиданиями, она стала свободной, открытой для иной близости. Карин решила: раз можно в любой момент позвать Джейн, ничего не случится, если она позволит себе такое интимное, по сути, дело, как ночевка в доме приятеля.
– Ты, вижу, устала, – заметил Тревис, когда Шаляпин на скрипучей пластинке несколько раз подряд пропел о волжских просторах, и Ма Рейни по меньшей мере трижды провыла «Титаник мэн блюз». – Если хочешь, Брайон отведет вас с Джейн наверх и покажет, где вы будете спать.
Карин вся подобралась. К ней тут же подошла хмурая Джейн – попросту не могла иначе. На ее стройном – для такого роста и комплекции – запястье висели их сумочки.
– Думаю, не стоит. Как-нибудь сами найдем. – Карин встала и спокойно посмотрела на Тревиса сверху вниз, впервые заметив, что глаза у него голубого, точь-в-точь как небо, цвета. – Тревис... – Она говорила искренне, и голос ее словно стал глубже. – Я хочу поблагодарить тебя за все – за угощение, за напитки, за то, что пригласил в свой прекрасный дом... Это так... клево.
Когда она умолкла, все засмеялись – словечко тоже было из подросткового жаргона, как и «свидание».
С тех пор, как Карин и Джейн покинули комнату, прошло уже много времени, а Тревис все еще сидел, прихлебывая бренди и покуривая сигару.
Наконец, прочистив горло, он позвал Брайона и, когда огромный, с внушительной внешностью кельта эмот появился сзади, протянул к нему руки и сказал слово, которым непременно заканчивал свой день: «Неси!»
Брайон бережно поднял Тревиса – обняв одной огромной ручищей под спину, а другой нежно обхватив ноги, точно нес гигантского младенца, – аккуратно вышел из комнаты и, поднявшись по угловой лестнице, направился в большую спальню. Поставив Тревиса на ноги возле кровати эпохи Наполеона Третьего, Брайон принялся ловко и заботливо раздевать его, – под старомодным костюмом обнаружилось сначала нижнее белье от Кельвина Кляйна, а потом уже и крепкое, сильное тело здорового мужчины тридцати пяти лет.
– Пижаму? – спросил эмот, и его «взрослый» согласно кивнул.
Брайон уложил Тревиса в кровать. «Взрослый» лежал на спине, руки – поверх одеяла, пижамная рубаха аккуратно застегнута на все пуговицы, – словом, гравюра из старой книги, да и только; в довершение композиции, на краю кровати сидел карманный Гаргантюа и гладил своей мягкой ладонью песочного цвета волосы Тревиса.
– Спок нок, Брайон, – пробормотал тот.
– Спок нок, Тревис, – выдохнул эмот.
Вскоре «взрослый» уснул.
Уснула и Карин в спальне наверху. Джейн заглянула в ее почти прикрытые ресницами глаза с выражением абсолютного участия, которое сменилось явным облегчением, как только она поняла, что «взрослая» подруга уже отключилась. Она встала с постели и встряхнулась, как крупный мастифф, – так встряхивается после хорошего сна красивое, здоровое и спокойное животное.
Джейн подошла к окну, с божественной грацией ступая стройными двухметровыми ногами, – боковой разрез у бедра на ее тускло поблескивавшем шелковом платье то расходился, то сходился вновь, – и взяла свою сумочку, откуда извлекла засунутую в сумку-хо– лодильник пятилитровую бутылку «Столичной» водки – из тех, что разливают для банкетов. Поднеся ее к падавшему от окна свету, она с удовлетворением убедилась, что бутылка все еще покрыта инеем. Женщина– эмот снова полезла в сумочку и достала оттуда пачку классических «Мальборо» и одноразовую пластиковую зажигалку. Будь эти вещи обычного размера, в ее гигантских ручищах они смотрелись бы странно, но все было сделано специально для эмота – пачка сигарет размером с книжку в бумажном переплете и зажигалка длиной с карандаш. Держа зажигалку перед собой, точно дешевенький маяк, осторожно и легко, она прокралась к двери, открыла ее, пригнулась и осторожно высунула наружу сначала большое туловище, а затем длинные руки и ноги.
На промежуточной лестничной площадке Джейн встретила Брайона – тот выбирался из большой спальни точно таким же манером, как это только что проделала она сама: постепенно вытягивая себя по частям, протискиваясь сквозь крошечную для его размеров щель дверного проема. Он выпрямился во весь свой внушительный рост. Даже в тусклом свете двух причудливых барочных люстр, которые Тревис откопал в Венеции, Джейн смогла разглядеть тень радостного изумления и понимания, отразившихся на его красивом лице. Джейн поднесла к своему лицу огонек от зажигалки и заиндевевшую бутылку водки. «Покутим?» – одними губами проговорила она. Брайон широко улыбнулся и энергично затряс головой, приглашая ее спускаться вниз вслед за ним.
В большой гостиной все еще стоял на полу причудливо изогнутый старинный патефон, отбрасывая тень, похожую на завиток ушной раковины. На богатом узоре густого персидского ковра плясали тусклые отблески оранжевого уличного фонаря, светившего в окно, – отчего создавалась прекрасная и причудливая игра красок. Джейн подошла к окну; в это время Брайон осторожно запер двойные двери, ведущие на лестницу. Она отвинтила крышечку бутылки и как следует к ней приложилась. Горло огромной женщины запульсировало – и в четыре больших глотка она управилась с десятой частью содержимого. Поставив бутыль на подоконник, она вытащила из гигантской пачки сигарету и, чиркнув исполинской зажигалкой, прикурила ее. После чего выдохнула дым чередой коротких колечек и длинных струй – «азбука Морзе» человека, который сообщает, что ему хорошо.
Брайон наконец убедился, что дверь надежно заперта. Он включил свет, и комната вновь вспыхнула своим немного старомодным блеском.
– Ну что, – спросил Брайон, – впервые за много лет, несмотря на жуткий опыт и истерзанные нервы, она таки смогла заснуть в чужом доме? – Ирония не просто звучала в его голосе – она солировала.
– Ах-ха, кажется... еще бы не заснула – после таблетки тайленола, таблетки нитола и таблетки валиума. – Это уже был не веселый девичий гомон, а ровный, уверенный тон светской дамы.
– Бедный старина Тревис... – Брайон покачал своей благородной, как у римского сенатора с картины, головой. – Он добавляет к вышеперечисленному коктейлю еще и «Прозак», олух несчастный. Поди, и сам не знает, сможет ли сейчас уснуть без таблеток, – уже сто лет без них не ложился.
– Значит, он точно не проснется?
– Точно. А Карин?
– He-а. Единственное, что, пожалуй, сможет разбудить спящую красавицу, – гм, что? Поцелуй? Да она ж помрет со страху!
– Значит, остаемся мы.
– Правильно. Мы одни. Выпьешь?
Брайон взял предложенную бутылку водки и выдул еще десятую часть. Достав аномально большую сигарету из протянутой пачки, он зажег ее, прижав кончик к кончику сигареты Джейн. Несколько секунд оба ждали, пока Брайон затянется, после чего он вдруг заговорил.
– О Господи, – гоготнул он. – Вот же зануда, в самом деле: «Не против, если мы... Ничего особенного. Будет неплохо...» Никогда не скажет того, что хочет сказать, и всегда говорит не то, что хочет, – как же он этим затрахал. – Голос эмота стал даже ниже, чем бас – в нем появились сверхзвуковые обертоны, отчего задрожали оконные стекла. Но теперь в его голосе не было ни тени иронии, ни капли сарказма – лишь подлинное, жутковато-снисходительное беспокойство.
Перед тем как ответить, Джейн еще раз основательно приложилась к пятилитровой бутыли – общими стараниями эмоты уже управились с четвертой частью ее содержимого.
– « Трахать», конечно, было метафорой, да?
Он презрительно фыркнул:
– Конечно. Разве им понять, что это такое, мышам бледным...
– Значит, это остается тебе... и мне.
– Вот-вот.
Джейн снова принялась рассматривать Брайона – он и вправду был весьма красивым мужчиной, тем более что полностью оставил сопливо-слащавый тон, присущий ему, когда он управлялся со своим вечно хнычущим и чем-то обеспокоенным «взрослым другом», и стал самим собой, величественным и спокойным, но с дивным чувством юмора. Джейн сама не поняла, как у нее вырвалось:
– Брайон, а покажи мне свое тело, пожалуйста.
Он развязал и снял шейный платок, затем повел
плечами, и его пиджак тяжело, точно театральный занавес, упал на ковер, за ним полетела на пол рубашка, надувшись, как воздушный шар, на лету; он вылез из брюк, стянул трусы и, наконец, зашвырнул носки и подтяжки в угол, как детишки швыряют яркие эластичные ленты. Оба смеялись, но в ее смехе звучало восхищение – она восторгалась его огромным ростом и стройностью, гладкой алебастровой кожей, испещренной трогательными коричневыми родинками, рыжеватыми волосками в его паху и полуметровым членом превосходной формы. Слегка изогнувшись, он торчал вверх – символ мужской плодородной силы во плоти.
Джейн наклонилась, так что ее длинные светлые волосы подмели ковер. Ухватив скрещенными руками подол платья, она сняла его – движением, похожим на то, какое делает маленький ребенок в детском саду, показывая, как растет деревце. Наконец она предстала перед Брайоном в свете ночного фонаря во всем своем великолепии, и наступил черед Брайона восхищаться. Но очень скоро они слились в страстном, жарком, неистовом и неразъединимом объятье, эмоты были такими большими, что могли одновременно упираться в противоположные стены комнаты, чтобы двигаться, как им хочется. Это стало бы устрашающим зрелищем – сладострастное соитие двух титанов, – если бы они не были так совершенны и так откровенно не наслаждались бы моментом – и друг другом.
Насытившись, они тихо лежали, обнявшись, на персидском ковре, который был сорван с пола после их любовных усилий. Брайон зажег гигантскую сигарету от зажигалки размером с карандаш и, обернувшись к Джейн, ухватил ее за подбородок своей исполинской ладонью.
– Только «взрослым» не рассказывай, – подмигнул он ей. – Договорились?
Крутые-крутые игрушки для крутых-крутых мальчиков
Билл заметил его миль через пять после поворота на Дорнох. Автостопщик шел, одной ногой ступая по свежепроложенной дороге, другой – по новорожденной обочине. На нем было что-то вроде дешевого пластикового пончо, которое почти не прикрывало помятый рюкзак у него за спиной. На этой недавно построенной дороге еще не успели поставить указатели. За двести метров до того как увидеть автостопщика, Билл проехал мимо дорожного рабочего, державшего в руках знак с надписью «ПРОЕЗД» – заглавными, белыми на зеленом фоне, буквами. Движение было плотным – сплошные ряды автомобилей ползли в обоих направлениях со скоростью двадцать миль в час. От машин летели брызги; с ярко-синего неба падали крупные редкие капли дождя.
Автостопщик одновременно пытался оборачиваться и призывно улыбаться водителям, стараясь не споткнуться на неровной поверхности и попутно спрятаться от дождя под своим пластиковым пончо. Билл подумал, что это на редкость жалкое зрелище. А еще в походке автостопщика было что-то не поддающееся определению – позже Билл подумает, и подумает, что так он подумал и в тот момент, когда его нога скользнула с газа на тормоз, – нечто, выдававшее в нем не туриста, а человека, направляющегося, подобно и самому Биллу, к какой-то цели.
Ночь Билл провел в пансионе миссис Макрей, в Бигхаусе, на северном побережье Кейтнесса. Ветреным вечером, после плохо разогретого в микроволновке пирога – в самой середке оказался прохладный комочек – он добрел до таксофона, чувствуя, как при ходьбе бьет по бедру лежащая в кармане полупустая бутылка «Грауса», и позвонил Бетти. После того как движения его пальцев превратились в цифровой код и обеспечили соединение, в ухо Биллу ударил мертвый звук гудка. Он узнал гудок телефона Бетти – настолько хорошо он был ему знаком; но сам телефон звучал будто бы со дна оцинкованного бака. И сама Бетти была там же, и он позвал ее:
– Бетти? Это я, Билл.
– Билл, ты где сейчас? – Голос у нее был заинтересованный.
– В Бигхаусе, у миссис Макрей...
– Билл... Почему ты там? Зачем повернул назад?
– Я мог попасть только на четырехчасовой паром из Стромнесса, хотел переночевать между Уиком и Тонгом... – Шутка была старой, и Бетти не рассмеялась. Да и в любом случае он врал – и она это знала.
– Ну и как там? – Зная историю этой шутки, она должна была поддержать ее ответом – самую малость.
– Ну, довольно шерстисто, местами пыльно, местами потно, кое-где обмылки попадаются, возможно, позже появится немного спермы... – Он прервался – снаружи кто-то стучал по дверце будки.
Из ветра и тьмы выплыло бледное лицо:
– Вы всю ночь тут сидеть собрались? Ветрила же жуткий.
– Я только прозвонился. – Он поднес трубку к замотанному в шарф лицу старушки. Она взглянула на нее. Билл подумал о Бетти на другом конце провода, как она слышит рев ветра, участвуя в этом неселекторном несовещании.
– Ветрила жуткий, – повторила старуха – больше ей сказать было нечего.
Билл втиснулся обратно в будку, но не дал тяжелой двери закрыться полностью. Зажатый, сказал в оцинкованный бак:
– Бетти, тут пожилая леди, которой срочно нужен телефон. Я тебе попозже перезвоню. – Он услышал тихие прощальные слова и повесил трубку. Попозже он не перезвонил.
К утру гроза, висевшая последнюю неделю над Кейтнессом и Оркни, закончилась. Солнце метало на землю лучи с такой силой, что, сталкиваясь со стеклом и сталью, они взрывались. Сидя на кухне за пластиковым столом и ковыряя беконной корочкой желток, Билл увидел, как сияет алюминиевая кайма вокруг окон его машины. Он расплатился с миссис Макрей стопкой из одиннадцати фунтовых бумажек Банка Шотландии. Она спросила:
– Скоро вернетесь, доктор Байуотер?
– Знаете, миссис Макрей, – ответил он, – когда доберусь до Оркни.
– Как думаете, когда это случится?
Он пожал плечами и поднял руки ладонями вверх, изображая смесь сомнений и обязательств в наивысшей концентрации.
Билл закинул сумку в багажник машины и вытащил си-ди-ченджер. Засунул пачку дисков в прямоугольную алюминиевую пасть аппарата и с удовлетворением вслушался в гудение сервомоторов, поглотивших ее. Установил ченджер обратно и захлопнул багажник. Обошел вокруг машины и открыл капот. Проверил масло, воду и брызговики. Проверил трубу турбоохлаждения, которая лопнула, когда он был в Оркни, и которую он заварил самостоятельно. Все это он проделал быстро и точно – его короткие пальцы касались машины с бесстыдной чувственностью. Билл гордился своими руками и своим мастерством владения ими.
Внутри машины он вытер руки тряпкой. Запустил двигатель и вслушался в звук мотора. Убрал тряпку и вставил магнитолу в разъем на торпеде. Подстроил сервомоторы, автоматически меняющие положение водительского кресла. Дал дворникам пройтись пару раз по лобовому стеклу мыльной водой. Запрограммировал ченджер на проигрывание треков в случайном порядке. Наконец, закурил один из косяков, которые скрутил, когда сидел в сортире после завтрака. Первый выдох дыма превратил внутреннюю обшивку машины в подобие фантастического генератора Ван-де-Граафа, с огоньками приборной панели, мерцающими в тумане.
Билл протянул руку назад и вытащил из-под груды медицинских журналов, валявшихся на полу, бутылку двенадцатилетнего «кэмпбеллтауна». Взглянул на дорогу, но там было пусто – только крытая шифером крыша пансиона миссис Макрей да покачивающаяся на ветру трава. Билл сделал щедрый глоток виски, закрутил «автомобильную бутылку» – так он, сам для себя, игриво называл ее – и снова запрятал под журналы. Проверил зеркало заднего вида, затем поставил ногу на педаль газа. Машина один раз вздрогнула и затем выползла на дорогу. Инерция вдавила Билла в протертую кожу сиденья, выжимая крохотные молекулы приятного запаха. Он услышал, как с легким визгом включился турбокомпрессор. Из четырех семидесятиваттных динамиков вырвался саксофон Джона Колтрейна – длинные, плоские листы звука, разматывающиеся подобно алгоритмам эмоций.
Билл ухитрился приблизиться к Турсо на двадцать миль где-то за полчаса – неимоверно хороший результат для этого извивающегося отрезка дороги, постоянно удивлявшего его своей недружелюбностью. Но дождь прошел, и видимость была хорошая. Билл давил на педаль, чувствуя, как большой седан прорезает свежий воздух. Машина была такой длинной, что когда он ехал, обнимая одной рукой подголовник пассажирского кресла – а он часто так делал, – то боковым зрением видел на поворотах зад машины, что давало ему странное ощущение, будто он был человеческой осью.
В дороге Билл смотрел на небо и землю. Он не любил Кейтнесс так, как любил Оркни. Оркни был как Авалон – загадочное место, где за крутыми обрывами острова Хой в лазурном море плескались зеленые, похожие на китов островки. Но это северное побережье Британии состояло из не подходящих друг другу элементов: немного утесов тут, зеленое поле там, чуть подальше – песчаная коса и дюны; а вон там гигантским мячиком для гольфа расположился реактор Дунрейской электростанции, только и ждущий, когда какой– нибудь злобный божок вышибет его своей клюшкой в Пентландский залив. Кейтнесс был пропитан духом неизобретательности. Это было местечко, посещать которое мало кому могло прийти в голову, и печать незаконченности лежала на этих землях.
Как раз за это он больше всего и любил север. У его друзей с юга – профессионалов, представителей среднего класса – здесь бы напрочь отключился внутренний географ. Узнав, что у него есть коттедж в Оркни, они постоянно путали эти острова с Гебридами. Это позволяло Биллу чувствовать (важное для него ощущение), что, когда паром «Св. Ола» выходил из Скрабстерской гавани, он пропадал с лица земли.
Турсо. Серое, унылое место. Многоэтажки – согбенные, сдавленные, похожие на бараки, тянущие к свету свои морды, словно понимая, что этот солнечный свет – последний и скоро вернутся долгие-долгие ветреные ночи. Билл остановился у гаража, на подъеме с того места, откуда открывался лучший вид на Оркни, в шестнадцати милях к северу. День выдался ясным настолько, что он мог увидеть скрюченный столб Хой– ского Старика, гордо охраняющего отвесные скалы. На вершине острова сиял в солнечных лучах маленький снежный гребешок. Скрепя сердце Билл вырулил с переднего двора и повернул направо.
Покинув Турсо и газуя по долгому уклону, ведущему из города, Билл задумался о своей поездке. Он осознал: пока что она его не расслабляет. Путь от Биг-хауза до Турсо требовал совсем иной концентрации внимания; Биллу следовало глубже проникнуться дорогой. Ему нравилось постепенно впадать за рулем в своеобразный транс, пока наконец его проприоцепция не сливалась с машиной, пока он сам не становился машиной. В такие моменты Билл воспринимал машину как нечто одушевленное: с сердцем-двигателем, с маслосборником-печенью, с автоматической тормозной системой – примитивным, но обаятельным разумом.
Машина поддерживала тело Билла в своих обшитых кожей объятиях, пока он смотрел кино дороги.
Размышляя о поездке, Билл принялся строить прогнозы – крайне оптимистичные – о том, как много времени займет у него путь: два часа до Инвернесса, полтора от Хайлендса до Перта, еще час до Глазго. Возможно, он даже успеет пообедать. Затем, поздним вечером – по шоссе М72 до Карлайла. Потом шоссе М6 – река, струящаяся до самого Бирмингема. Может, удастся остановиться в Мозли, что-нибудь перехватить. Предпоследний этап – шоссе М40, поздней ночью, с окружающими дорогу призрачными щупальцами тумана, с седаном, гудящим по Мидлендсу на пути в Лондон. И наконец сам крошащийся город; бормотание выхлопной трубы, отражающееся от стеклянных витрин автосалонов и магазинов офисного оборудования на Вестерн-авеню.
Представляя себя в Лондоне, в час ночи, после семисот миль напряженной езды, Билл заранее ощущал разбитость во всем теле, замыленность перенапряженного разума. Он подумал, что мог бы проникнуть в квартиру Бетти, затем в ее постель, затем в нее. Или нет. Вместо этого пойти в пивняк. Нарезаться как следует. Бросить машину. Доползти домой.
Машина застряла за насупленным семитонным мусоровозом. Грязь налипла на его покатых боках, периодически вниз срывался ком-другой. Они находились на длинном прямом участке, ведущем к Роудсайду, где дорога А882 отслаивается и бежит к Вику. Здесь дождь прошел недавно и дорогу прочертили длинные лужи; в солнечном свете они казались осколками зеркала, выбитыми из сияющих небес. Не раздумывая, Билл проверил зеркало заднего вида, боковое зеркало, щелкнул переключателем и вдавил педаль в пол. Машина дернулась вперед, в звук мотора вплелось отчетливое «гнннгнн» турбокомпрессора. Билл почувствовал, как колеса скользят и проворачиваются, борясь с водой, грязью и щебнем. Он был на двести метров впереди и шел под девяносто, прежде чем сбросил скорость и снова занял левый ряд.
Первый отрезок – самый тяжелый, подумал Билл. Он воплощал в себе экзистенциальный прыжок в неизвестность. Если машина и человек его пережили, значит, они заключили пакт на это путешествие. Для такого гигантского пробега существует только два способа: медленный и философичный, он же езда. Билл выбрал второе. Он отпраздновал, закурив второй из скрученных на толчке косяков. Магнитола выдала «The Upsetter», потрясающий басовый шум превратил двери в пульсирующие и вибрирующие доски, а всю машину – в огромную колонку. Билл ухмыльнулся сам себе и еще глубже согнулся на сиденье.
Машина громыхала по неровной земле. Ландшафт все еще не мог определиться, как ему выглядеть. От дороги в сердце Кейтнесса сочился торфяник – липкая каша из трав и черной земли. Вдалеке поднимала свою увенчанную белым голову одинокая скала. Билл решил, что здесь совершенно уместно смотрелись бы пара трицератопсов и птеродактилей. У него некогда был один пациент, страдавший от динозаврофобии – его пугал не столько их размер или возможная прожорливость – с этим страхом он мог справиться и сам, – сколько мысль об огромной шкуре, усеянной бородавками. Билл излечил эту фобию – более или менее. Вспомнив, он ухмыльнулся собственному отражению в зеркале заднего вида, надеясь, что ухмылка вышла печальной. Герпетофоб становился все более неконтролируемым практически во всех остальных сферах жизни. В конце концов он загремел в психушку – после того, как в приступе психоза устроил резню в игрушечных магазинах Южного Лондона, поотрывав головы сотням игрушечных динозавров.
Билл больше не занимался психоанализом. Не видел в этом никакой пользы – во всяком случае, убеждал себя, что это так. На самом деле ему было проще заключать контракты с агентствами и выступать в роли временного психиатра. Он мог сам выбирать время и объем работы. Особенно Биллу нравилось успокаивать настоящих психов; тех, кто мог превратиться в вооруженных вилками дервишей. Сейчас ему частенько звонили копы – когда в участке оказывался берсерк, а они не желали пачкать форму телесными выделениями. Билл не сказал бы, что полностью погружался в безумный, безумный мир психов – такие лэйнговские штучки отправились туда же, куда и теория о ненаследственном характере шизофрении, но он умел полностью проникнуться рвущимися наружу психозами и выписывающими пируэты взглядами на мир: в один миг они несутся ввысь, в следующий – корчатся на земле.
Еще Билл любил вести немного опасный образ жизни. Любил рисковать. Раньше он соблазнял женщин, но потом устал от этого – или думал, что устал. На самом деле он и правда устал. Он по-прежнему гонял на машине. Вдоль и поперек Оркни, пять-шесть раз в год. На небольшой ферме на Папа-Вестрей чинил стены и ограды, даже соорудил новые пристройки к дому. Держал пятерых лонгхорнов – скорее как питомцев. Плюс, разумеется, выпивка. Плюс Бетти – вроде как. Взаимоотношения, с его стороны построенные на сексе, с ее – на сексе и предвкушении. Билл не думал о бывшей жене. Не то чтобы он не мог вынести связанной с ней правды – ведь проницательность была его профессией, – просто не чувствовал потребности и дальше думать обо всем этом. Это осталось в прошлом.
У Билла была плотная кожаная куртка. У Билла был седан с трехлитровым движком и турбокомпрессором. Он любил односолодовое виски и траву. Он любил лодки; на Папа держал длинный пассажирский ялик. У него были прямые черты лица, светлые волосы он носил коротко остриженными. Раньше женщины с обожанием гладили его веснушчатую кожу. Он любил лазать по горам – очень быстро. За день часто поднимался на три трехтысячефутовика. Не отличался болтливостью – разве только когда изрядно напьется. Любил отовсюду извлекать информацию. В этом году ему исполнилось сорок.







