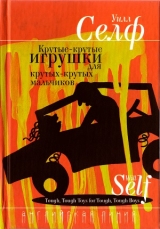
Текст книги "Крутые-крутые игрушки для крутых-крутых мальчиков"
Автор книги: Уилл Селф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Иранец повернулся в своем маленьком окопе отчаяния и теперь полз по нему в обратном направлении – голова у пола, позвонки, возвышающиеся над серебристым ребром столика. Он был словно какой-то мутант-охранник, патрулирующий свой пост. Его мир сжался до крохотного наличия и огромного, разверстого отсутствия. Как и все крэковые нарики, Масуд двигался медленно и беззвучно, с дрожащей точностью, на которую даже смотреть было больно, – словно Гулливер, которого вызвали провести операцию над лилипутом.
Девушка забрела обратно в комнату, заправляя кардиган в джинсы. Застегнула пуговицы на ширинке, а затем обняла себя, вцепившись ладонями в локти, выпятив крохотные груди.
– Твою мать, Масуд, – сказала она, словно продолжая начатый когда-то разговор, – зачем ты вызвал Тембе, если собираешься просто корчиться на полу?
– Ах да, точно... – Он скользнул костлявой задницей обратно на диван. В одной руке он держал зажигалку, в другой – немного пыли с ковра. Он сел и посмотрел на комок пыли – так, будто затруднялся определить, крэк это или нет, и собирался использовать зажигалку, чтобы убедиться наверняка.
Тембе взглянул на синие мешки под миндалевидными глазами иранца. Посмотрел на белки глаз, явно не оправдывающие свое название. Масуд взглянул на Тембе и увидел точно те же цвета. Несколько секунд и тот и другой видели желтое.
– Что?.. Что у тебя?.. – Пальцы Масуда впились в колено, сминая махровую ткань. Было ясно, что он не способен вспомнить ничего.
Тембе подсказал:
– У меня тут восьмушка, и хмурого еще.
Он вытащил руку из кармана, ловко сплюнул на нее два маленьких катышка из пищевой пленки, которые прятал за щекой, и бросил их на столик. Один докатился до серебристой рамки фотографии привлекательной женщины, второй приземлился у пульта.
Масуда это маленькое представление просто преобразило. Если Тембе был серьезным черным дилером, то Масуд был серьезным коричневым покупателем. Он оживился, полез в карман своего халата и извлек оттуда неровную пачку пурпурных двадцаток. Безмятежно кинул деньги на столик, по поверхности которого они и заскользили.
Масуду хватило сил и на то, чтобы снова превратиться в самого себя – как если бы его попросил сымпровизировать перед камерой какой-нибудь авангардный творец.
– Прошу меня извинить, – сказал он, вставая и слегка покачиваясь, но при этом сохраняя целеустремленность. Благосклонно улыбнулся сидевшей на полу девушке и махнул Тембе, приглашая того присесть на диван. – Сейчас я что-нибудь накину, а затем мы все основательно покурим? – Он вскинул бровь, глядя на девушку, подтянул полы халата и вышел.
Тембе остался где был, слегка покачиваясь с носка на пятку. Взглянул на подругу иранца: та встала – так, как встают маленькие девочки, сначала поджимая колени и затем распрямляясь. Тембе прикинул, что она еще моложе, чем он думал. Она села на диван и начала готовить трубку. Взяла один из катышков – тот, что покрупнее, – и начала старательно его разворачивать, слой за слоем, слой за слоем липнущей к пальцам пустоты, пока наконец не добралась до молочно-белесого самородка и не кинула его на зеркало.
Прикоснулась к горлу, убрала за ухо локон, взглянула на Тембе и сказала:
– Может, присядешь? Покуришь?
Он пробормотал что-то невразумительное и протиснулся к ней, неловко двигаясь в пространстве между диваном и кофейным столиком.
Вернулся Масуд. Теперь он был одет в рубашку в вертикальную полоску – переливчато-зеленый и горчично-желтый; небесно-голубые брюки из шелка-сырца прикрывали тощие ноги, черные туфли поскрипывали на босых ступнях, а у горла пенился шейный платок. Пижон.
– Итак! – Масуд хлопнул в ладоши – еще один дурацкий жест. С иголочки одетый, энергичный, он мог бы быть каким-нибудь переговорщиком или аниматором, благодаря которому и крутится машина коммерции – ну, или так ему самому хотелось бы думать.
Девушка взяла щепотку крэка и покрошила ее в чашку трубки.
– Я уверен, – сказал иранец раздраженно, но четко и разборчиво, – что было бы гораздо разумнее делать это над зеркалом, чтобы не утратить ни...
– Знаю, – сказала она, не обращая на него никакого внимания.
Тембе сейчас был весь в чашке, балансировал на стальной сетке. Комья крэка летели на него, как булыжники на Индиану Джонса. Тембе задумался, что будет дальше. За эту дозу Масуд заплатил, но, возможно, теперь он начнет брать в кредит? Это было единственное объяснение для приглашения, для улыбок девушки, для предложения покурить. Он решил, что даст Масуду двести фунтов кредита – если тот попросит. Но если он не заплатит в срок или попросит еще, Тембе придется сказать Дэнни, за которым останется последнее слово. Последнее слово всегда оставалось за Дэнни.
Девушка поднесла зажигалку к горелке. Пламя загудело и выплеснулось желтым. Она прикрутила его до шипящего синего язычка. Передала Тембе трубку. Он взял стеклянную чашку в левую руку. Она передала ему горелку.
– Осторожно... – совершенно бессмысленно заметил Масуд.
Тембе взял горелку и посмотрел на своих хозяина и хозяйку. Их взгляды были прикованы к нему – так, будто бы они не прочь нырнуть ему в глотку и свернуться там, чтобы курить вместе с ним, втягивая дым изнутри его губ.
Масуд сгорбился на диване, подался вперед. Его губы и челюсти двигались, причмокивая. Тембе выдохнул в сторону и сжал губами мундштук. Начал затягиваться, поглаживая чашку синим язычком пламени. Почти тут же крошки крэка в трубке начали таять, превращаясь в миниатюрный Анхель дыма, падающего в округлую чашку, кипя и бурля.
Тембе продолжил поглаживать трубку пламенем, периодически проводя соплом горелки над крэком, обжигая металлическую сетку на дне чашки. Но делал он это бессознательно, полагаясь на инстинкт, а не на отработанную технику. Крэк уже был внутри него, сносил барьеры мозга волной чистого желания. «Это и есть приход», понял Тембе – точно, несомненно, впервые в жизни. Весь приход от крэка – это желание еще крэка. Кайф от камней сам по себе – желание еще и еще камней.
Иранец и его подружка глядели на него, пожирали глазами, будто бы он сам был крэком, их взоры – пламенем горелки, а вся комната – трубкой. Приход был огромный, камень был чистым и сладким – в дури, которую Дэнни давал Тембе, никогда не было ни капли примесей – она была просто сладкой, сладкой, сладкой. Как у молоденькой девчонки между ног пахнет сладко, сладко, сладко, и когда ты ныряешь туда, она шепчет: «Сладко, сладко, сладко...»
Это был самый мощный приход, какой Тембе мог припомнить. Он чувствовал, как крэк поднимает его все выше и выше. Казалось, наркотик замкнул какую– то цепь в его мозгу, превращая его в гудящую, пульсирующую сеть нейронов. И понимание этого, понимание мощности прихода само стало частью кайфа – точно так же, как частью его стало понимание того, что крэк – это желание еще крэка.
Все выше и выше. Снаружи и внутри. Тембе чувствовал, как бурлят и расслабляются кишки, как выступает пот на лбу, как он струится по груди и капает в подмышках. И по-прежнему кайф возвышался над ним. Теперь он чувствовал красно-черное, гулкое, ускоряющееся биение сердца в груди. Боковое зрение почернело от смертоносного, бархатного наслаждения.
Тембе аккуратно положил трубку на столик. Он был всемогущ. Богаче, чем когда-либо суждено быть иранцу, и привлекательнее, круче. Он выдохнул огромное клубящееся облако дыма. Девушка смотрела на него с обожанием.
Несколько секунд спустя Масуд спросил:
– Хорошо вставило?
И Тембе ответил:
– Охренеть как. Охренеть, мать твою. Никогда так не торкало. Все равно что курить камень размером... размером... – Он бродил глазами по комнате, силясь закончить метафору. – Размером с весь этот отель!
Иранец хихикнул и откинулся на диван, хлопая себя по костлявым коленям:
– О, мне это нравится! Прекрасно! Ничего смешнее я уже несколько дней не слышал! Даже недель! – Девушка продолжала непонимающе смотреть. – Да, мой дорогой Тембе, в этом что-то есть: ком крэка размером с «Ритц»! Ты на такой идее мог бы заработать! – Он потянулся за трубкой, все еще похохатывая, и Тембе изо всех сил сдерживался, чтобы не заехать ему по его сраной роже.
Дома, в Харлесдене, в подвале дома на Леопольд-роуд, Дэнни продолжил копать, копать, копать крэк. И он никогда даже не прикасался к продукту.
Инсектопия
На закате ее жизни, когда она уже угасала и, как и я теперь, была окружена животными и алкоголем, одним из последних ее друзей стала муха, которую я никогда не видел, но о которой она много говорила, и также говорила с нею. Создание с большими, исполненными меланхолии желтыми глазами и длинными ресницами, своим обиталищем оно избрало ванную комнату; она относилась к этому с юмором, однако ей доставало серьезности, чтобы каждое утро оставлять хлебные крошки, рассыпая их по краю деревянной ванны, – это крайне раздражало тетю Банни, которой приходилось убирать за нею.
Экерли Д. Р. «Мой отец и я»
В Инвардли – маленьком суффолкском городке, забытом географией, практически не замеченном демографией, полузадушенном разваливающейся экономикой и обдуваемом вечно меняющимися общественными поветриями, владельцы трех пабов, расположенных на главной улице («Огненный путь», «Доброволец» и «Бомбардир») наливали себе по пинте, оглядывая свои прохладные, коричневые, вечерние угодья. Распластавшись по стойке, каждый из них нажимал ладонью на рукоятку пивного крана и подносил стакан к губам, не дав еще осесть желтой пене, не дав голове быть отделенной от сердца.
В «Добровольце» одинокий парень, отлынивающий от сбора урожая, играл сам с собой на бильярде. Он делал рискованные удары, бил от бортов, заставлял шары пролетать под опасными углами. Он был уверен в своей победе.
Джонатан Пристли, зарабатывающий на жизнь составлением указателей, пружинящей походкой вынырнул из пасти Хогг-Лейн в небольшой район муниципальной застройки, находившийся на окраине городка. Он наслаждался анонимностью этого квартала: невыразительными цементными фасадами, побитыми щебнем фонарями, нагретыми иссиня-черными комками асфальта в пыльных, плесневелых канавах. Наслаждался, думая о том, что некоторые места, будучи оторванными от мира, обретают индивидуальность, а Инвардли обрел только анонимность.
За витриной «Унисекса Беллы» Джонатан заметил молодую женщину. На ней был синий нейлоновый комбинезон, замысловато, но беспорядочно покрытый волосами, принадлежавшими части местного населения. Она сидела в одном из видавших лучшие дни кресел, отбросив голову на красный виниловый подголовник, и, проходя мимо, Джонатан заметил, как она подняла руку, ухватила собственный локон и, щелкнув ножницами, ловко его отсекла. Он вздохнул, перекинул рюкзак с одного плеча на другое, попытался просвистеть пару нот опухшими губами, плюнул на эту затею и направился дальше.
На главной улице Джонатан споткнулся. Его носки уже превратились в мягкие, потные внутренности ботинок. Он прошел мимо каменных домов, пригнувшихся за низкими заборами, с отстающей краской на притолоках, оконных рамах и дверях. Жалюзи на витринах магазинов были в большинстве своем опущены. Была среда, и магазины в Инвардли закрывались раньше. «Придется все покупать у Хана», – подумал Джонатан.
Он миновал агентство недвижимости. Фотографии продающихся или сдающихся в аренду домов уже начали загибаться по краям, словно крыша пагоды. Джонатан вздохнул. Цены за некоторые дома были фантастически низкими и могли сравниться со стоимостью шоколадки. Но, с другой стороны, никому не хотелось жить в Инвардли и окрестностях, где народ активно спивался, а ветеринар кололся лошадиным транквилизатором из своих запасов.
К северо-востоку от Инвардли, на грани между дюной и побережьем Северного моря, расположилась ядерная электростанция. Она гудела на инфра– и ультра-звуке. Парадоксально, но огромные размеры делали ее невидимой, как если бы ее присутствие было слишком монументальным для восприятия.
Почти каждый день Джонатан приезжал сюда и прогуливался по пляжу, под стенами электростанции. Она была огромной настолько, что казалось – человеку такое создать не под силу, да и незачем. Здание реактора – огромный купол, покрытый каким-то керамическим материалом, – было разбито на множество ячеек-панелей и казалось составным оком Молоха. Оно покоилось на мутно-радужном постаменте. Большую часть времени все здание было окутано паром, морским туманом, даже низкими облаками. Ночью его заливали оранжевые огни, и в любое время можно было услышать хриплое эхо передаваемых через громкоговорители объявлений. Кому они предназначались? Кто наговаривал их? Он никогда не видел на станции работников. Возможно, их там и не было, и станция разговаривала сама с собой, произносила монологи в пустоту, бурые волны бились о берег, сиреневые бабочки порхали над дюнами, а в небе протяжно гундели гуси.
С двух сторон Инвардли окружали две огромные башни электропередач, от которых разбегались исходившие из станции провода – через низкую поросль и вокруг городка, как будто стараясь удрать подальше от вечерней викторины в «Огненном пути» или благотворительной распродажи выпечки в методистской церкви.
Своим пением эти гигантские лиры со смертоносными струнами заполняли город, заставляя его выглядеть выжженным, облученным радиацией, пустынным и иссушенным. И поэтому странники и туристы избегали Инвардли, предпочитая ему крохотные деревушки дальше на побережье.
Однако для Джонатана в этих линиях электропередач заключалась часть очарования округа. Они играли роль какого-никакого рельефа в этом краю низких, плоских фермерских угодий, испещренных мелкими рощицами и вырытыми в песке гравийными карьерами. Это был ландшафт ухабов и кочек: усталое тело, лежащее на старом матрасе из конского волоса.
В магазине «У Хана» Джонатан брел между полками, закидывая в проволочную корзину всякую всячину. Джой уже два дня как уехала, и еще два оставалось до ее возвращения. Стоит ли напрячься и что-то приготовить или опять вечером пойти в паб, перехватить там жареной картошки с рыбой? Он замер перед холодильником, с рукой, застывшей над евгеническими овощами и окаменевшей замороженной говядиной, а мыслями был на кухне в коттедже.
Займись он стряпней, потом придется убираться, иначе жди нашествия насекомых. А значит, стоит ли вообще напрягаться? Однако не готовить – значит признать поражение, признать, что жить в коттедже нельзя. Или хотя бы там нельзя жить без Джой.
Коттедж был маленьким. Летний жар окутывал его целиком, просачиваясь сквозь щели между пыльными вельветиновыми занавесками. И даже если весь день они оставались задернуты, в кабинете все равно стояла такая жаркая духота, что капающий с пальцев пот заляпывал клавиатуру «макинтоша». И еще там роились мухи. Джонатан не считал себя слишком брезгливым и не боялся насекомых, но этим долгим знойным летом шестиногое войско мобилизовало все свои резервы. В каждой комнате они жужжали и безостановочно, неприятно вяло летали, обычно под лампой. Кроме них были и другие. Сенокосцы, стрекотавшие и бегавшие по ванной, спрыгивая со стен и спускаясь вниз подобно хрупким тонким альпинистам. В коттедж также часто заглядывали осы. Сидя за компьютером, Джонатан замечал их гудение, вплетавшееся в мушиный писк. Звук был настойчивым и каким-то хищным. Тогда он забрасывал работу над индексом, хватал лежавший под рукой журнал или газету и отправлялся на охоту за охотниками. Он не останавливался, пока на обоях не появлялось еще одно похожее на гной пятно, еще одно месиво из сломанных ножек и крыльев, раздавленных торакса, головы и брюшка.
Когда Джой была здесь, насекомые практически не беспокоили Джонатана. Эту функцию она брала на себя. Но с тех пор как она уехала, они начали раздражать его все больше и больше. Он откинулся назад в кресле и, нахмурив брови, задумался. Как убить? Зачем убивать? Что означает убийство? Насекомые, и в особенности мухи, стали предметом изучения, поводом для мысленных упражнений.
Джонатан составлял указатель научных работ по церковной архитектуре – точнее сказать, должен был этим заниматься. Обычно стрекот и пощелкивание «макинтоша» успокаивали его, пока он перемещался от приложения к приложению, работая в симбиозе с механизмом. Но теперь он все время прислушивался – к другому стрекоту и другим щелчкам, исходившим от его сожителей. Ему подумалось, что, возможно, они научились подражать звукам компьютера; что благодаря какому-то резкому эволюционному скачку насекомые сами стали подобием компьютера. Невероятный акт бейтсовской мимикрии, вроде того как ничем не выдающийся клит прикидывается гораздо более опасной осой.
Жара. Чертова проклятая жара. Он варился в собственном раздражении.
У локтя Джонатана возник мистер Хан. Мышиного цвета пирамида плоти, чьи подбородки множились, когда он соглашался с покупателем, и исчезали, когда он был против.
– Что-нибудь еще? – спросил он. Джонатан дернулся – он пребывал в трансе, незрячим взором глядя на замороженные овощи. – Горошек, французские бобы?
– Нет-нет, извините... Мне не нужно... Единственное, что мне необходимо, – еще немного морилок для мух. По-моему те, что у меня стоят сейчас, уже не работают.
– Их срок действия – как минимум месяц, – полувопросительно произнес мистер Хан, бросив на Джонатана косой взгляд.
– Может, и так, но в доме все равно полно мух.
– Ну-у, лето у нас такое выдалось, не так ли? А сейчас ведь еще и урожай убирают, радуйтесь, если к вам еще и мыши с крысами не набегут. Так сколько будете брать?
– Еще пять морилок, мистер Хан, и коробку липучек, будьте добры.
Когда Джонатан снова вышел на главную улицу, Инвардли зевал и потягивался. Группка подростков собралась у общественных туалетов, напротив закрытого Центра трудоустройства. Они курили – пряча сигареты в ладонях и укрывая ладони всем телом. Рядом стояла пара машин с открытыми дверцами, оглашая окрестности оглушительным техно из стереосистем. Джонатан подумал, что это не совсем музыка; скорее звуковой эффект, придуманный электронным композитором для фильма про гигантских механических тараканов.
Подростки не обратили на него внимания. Он прошел мимо, чувствуя вес своего рюкзака – паразита, присосавшегося к его спине, к влажным пальцам и мокрым ладоням. Дойдя до конца квартала, Джонатан свернул обратно на Хогг-Лейн. Две тонкие линии парили в трех футах над дорогой, каждая повторяя изгибы колеи под собой. Они состояли из тысяч мелких мошек, без остановки круживших туда-сюда и обратно. «Зачем мошкам собираться в таком виде?» – подумал Джонатан, шагая по обсаженной кустами дороге, по зеленому туннелю, с живой волной, пританцовывающей в воздухе на уровне талии. Может быть, дело во влажности колеи? Или в навозе? Или же это совершенно новая форма поведения? Очевидно одно – эта жара влияла на насекомых, подстегивала их, быстрее прогоняя горячий воздух через их дыхальца, чтобы они летали быстрее, ели быстрее и размножались еще активнее.
Бедро, покрытое инфекционным материалом. Выпирая изнутри, разложение охватывает его и изменяет, превращая из организма в среду. Аккуратно, методично, Mustica Domestica занимается внедрением кладки.
Почти каждую неделю на кухню совершали набеги муравьи или чешуйницы. Обычно Джой вставала раньше, и ее крик будил Джонатана – звук подбрасывал его с пропитанных потом простыней, подгонял к ней, одной рукой подтягивавшей ночную рубашку к животу, а другой размахивавшей в воздухе. Она думала, что они хотят забраться внутрь ее? «Чего там еще?» – кричал он, злясь на нее и ненавидя эту маленькую кухню, презирая линолеумный пол и мятую муслиновую псевдозанавеску маленького окошка над раковиной. Она указывала на деревянную, меламиновую или стальную поверхность, на которую из щели или трещины изливались захватчики.
Чешуйницы вообще насекомые? Джонатан нагибался пониже, чтобы приглядеться. Они то ли ползли, то ли перетекали, каждая – шевелящаяся капелька, подергивающаяся подобно плывущей рыбе. Они только недавно вылупились или это уже взрослые особи? Когда такое происходило, он посылал Джой обратно в спальню, а сам ставил чайник, находил источник вторжения и поливал кипятком, обрушивая на мир чешуйниц обжигающий водопад.
Муравьи же его не напрягали. Это было своего рода расизмом. Муравьи таскали на себе всякое. Их группки переносили хлебные крошки, слаженно двигаясь боком, или один из них закатывал песчинку сахара на спину другому. Они напоминали японцев: маленькие, эффективные, выражение непостижимого коллективного разума.
В спальне Джонатан успокаивал Джой. Переворачивал ее на панцирь и изучал влажные фрагменты торакса и брюшка. Затем два человека занимали позицию для спаривания, с конечностями, резко выделяющимися на фоне розовых обоев с цветочным рисунком. Джонатан проникал в нее, стараясь не думать о насекомых, окружающих их, о клещах, елозивших под подушками, унося мертвые кожные кусочки Джонатана и Джой, в то время как они елозили над ними.
В первобытных, физических судорогах секса Джонатан старался не думать об уховертках. Из всех насекомых они беспокоили его больше всего. Эти доисторические твари, с телами одновременно блестящими и нечистыми, поставили своей задачей, даже métier [1]1
Métier (фр.) – Ремесло
[Закрыть], поиск самых влажных и самых интимных мест коттеджа. Они что, издевались над попытками Джонатана и Джой держать коттедж в чистоте, сохранять его как подходящее для человеческой жизни обиталище? Стоило ему поднять кухонное полотенце, кружку или даже кусок мыла, как под ними оказывалась уховертка, покачивающая клещами и антеннами – показывалась, чтобы, колышась, убежать по якобы чистой поверхности. Вот эта беззаботность бесила его больше всего. Джонатан зажимал наглеца между большим и указательным пальцами и давил.
Она приподнимает мои яйца. Не думай об уховертках. Ее розовый язык скользит по коричневым складкам моей промежности. Не думай о них. Я касаюсь влаги между ее ног; за волосками влага невесомая, как буровая мука. Не думай о них. Не думай об уховертках, выползающих из-за половых губ или крайней плоти. Не думай о них, не думай о ней. Нет.
Насекомые вертелись перед серыми глазами Джонатана и позади него; и он шел не глядя. За плотными кустами по обе стороны дороги от него не отставали линии электропередач, гудящие проводами в вечернем пекле.
Коттедж расположился на дне того, что в здешних краях сходило за лощину. Вдоль садовой изгороди бежал ручей, он же канализация. Когда шел дождь, он вырывался из своего русла, затапливая лужайку и тропинку к дому. Вокруг коттеджа под небольшим углом на пару сотен ярдов раскинулись поля: с двух сторон они утыкались в линии электропередач, с еще одной – в лесок, с другой – в загончик с полуразвалившимися препятствиями и высохшими канавами, в котором писклявые дочери владельца катались на своих пони.
Коттедж Джонатана пришпиливал к земле этот кусок пейзажа, придавливал его в центре. Джонатан сошел с тропинки и сотню ярдов прошел по дорожке к воротам. Арбутнота – владельца – не было дома. Это было понятно по куче черных мусорных пакетов, сваленных в конце дорожки. Когда он проходил мимо, то почувствовал ощутимый жар, исходивший от спекшихся пакетов, а затем увидел облако сине-золотых мух, поднявшееся в воздух и танцующее в горячих волнах.
Джонатан вошел внутрь дома, направился на кухню и бросил рюкзак на стол у холодильника. Висевшая у окна липучка была облеплена мухами. Облеплена настолько, что клейкие трупы ее жертв полностью покрывали ее, подобно запущенному шанкру, покрывающему язык. Он увидел, как муха начала кружиться вокруг липучки, поднырнула под нее и наконец присела на спинку одного из трупов. Джонатан с легким отвращением смотрел, как муха протянула хоботок в зазор между головой и тораксом трупа и начала есть.
Тогда его наконец накрыло омерзение, и он начал двигаться из комнаты в комнату, пододвигая стулья, поднимаясь к потолку и снимая эти липкие мавзолеи. Он так торопился закончить этот отвратительный труд, что дважды липучка падала на него, коронуя гадостным венцом. Он выбегал из дома, сгорбленный, с согнутыми руками, словно житель Помпеи, на которого вот-вот прольется огненный дождь, а затем забегал снова, хныча; помощи ждать было неоткуда. Прежде чем снова засесть за составление указателя, ему пришлось вымыть голову.
В кабинете золотой луч, пробиваясь сквозь щель в занавесках, высвечивал вытертое пятно на ковре. На экране «макинтоша» маленькие точки летали и отскакивали друг от друга, как насекомые в банке. Джонатан сел в кресло и включил лампу. Он передвинул мышку, и заставка экрана растворилась, уступив место тексту. До своего похода в магазин Джонатан дошел до термина «неф». Слово, обозначающее продольную часть храма. Он вбил три буквы в окно поисковика и нажал клавишу. Компьютер принялся за работу, обрабатывая текст, ища совпадения. Он почувствовал, как расслабляется, сливаясь с машиной. Эта чистая, эргономичная вещь щелкала и гудела по-дружески. Джонатан сконцентрировался на чувстве признательности, стараясь не обращать внимания на более низкое жужжание... Более низкое, более органическое, выдающее агонию.
На мышином коврике умирала муха. Джонатан увидел, как она вращаясь выскочила из тонко очерченных теней в яркий свет лампы. Муха лежала на спине. «Должно быть, она на крыльях ползет», – подумал Джонатан, когда она замерла, подобно остановившейся миниатюрной карусели – крылья, волоски, фасетчатые глаза.
От чего умерла муха, не от морилки ли? Джонатан разместил по одной коробке в каждой комнате, но сделал это скорее, как если бы проводил магический обряд, не веря до конца, что они помогут. Как яд может подействовать на мух, но не на меня? Или, если уж на то пошло, не на уховерток? Муха снова начала вертеться, снова начала жужжать. Задрав лапки, она, как юла, перемещалась по столу, пока наконец не отскочила от листа бумаги и не утихла среди хлебных крошек. Джонатан задумался, сколько времени пройдет, прежде чем она сдохнет?
Этот вопрос заставил его воспаленный разум сорваться в бездну извращенных, насекомых предположений. Почему? Почему мушиные тела наполнены чем-то похожим на гной? Со своего места Джонатан мог видеть следы, оставленные двумя его предыдущими казнями. Возможно, это своего рода реакция на паразитов-людей? Гарантия, что убийство будет неприятным, хотя и нечастым, явлением? И почему убийство мух вообще должно быть неприятным? Почему оно не может быть способом проведения досуга или даже видом спорта? Вот оно! Решение, удовлетворяющее и потребность в охоте, и потребность в убийстве мух. Возможно, реально разработать миниатюрные иглометы, с точностью достаточной, чтобы попасть в муху?
Джонатан откинулся на спинку кресла, представляя детали своей новой идеи. Полностью оборудованные охотничьи угодья, умещающиеся в пределах одного аксминстерского ковра. Загонщики – жуки – бегущие по ворсу, спугивающие мух. Охотники, недвижимо сидящие на своих местах с иглометами наготове. Дичь, срывающаяся из своего укрытия из пыли и пуха. Она уже в воздухе! И дула ружей, ведущие мух, резко следующие за каждым движением – вверх, вниз, наискосок. Легкое нажатие на спусковой крючок, и игла летит точно в цель, пронзая гудящую трупную муху, пробивая крыло и распухшее брюшко. Хрясь! Она падает, подскакивает и застывает, умирая – как замедленный фильм про антилопу, падающую замертво в вельдте. Охотники открывают маленькие проволочные клетки, и оттуда вылетают специально натасканные осы. Они виляют, ложатся на курс, ныряют к ковру и подхватывают дичь.
За окном тянулся летний вечер. Солнце долбило по твердой, растрескавшейся земле. Цикады, сверчки и кузнечики стрекотали, обтираясь ногой о ногу, крылом о крыло, или щелкали жестким хитином, треща, как детская игрушка. Земля пульсировала, подобно влагалищу после оргазма: вдыхала горячий воздух и выпускала его, вдыхала горячий воздух и выпускала. Голова Джонатана качнулась назад, дернулась вперед, слегка повернулась, вернулась в нормальное положение, качнулась назад. Его веки задрожали и опустились. Он заснул. В его сне Джой вернулась в коттедж. Такси из Саксмундхема высадило ее на подъездной дорожке. Она выглядела потрясающе, с высокими, острыми плечами, прикрытыми прозрачными крылышками. У нее было – как с интересом и возбуждением заметил он – три, три очаровательных маленьких пары рук. Мысль о ее крошечных, почти детских ладонях на его набухающем члене была неимоверно эротичной – даже когда он ворочался во сне, а заставка на экране компьютера поглотила заумный текст.
«Смотри, – сказала Джой, указывая тремя парами рук на нижнюю часть брюшка и отводя в сторону крылья, – что я купила в «Харви Никс». Брюшной мешочек последнего фасона».
«Дорогая! – воскликнул он. – Выглядит просто потрясающе». Так и было. Перемежающиеся узкие ленты из шелка и атласа, двух оттенков синего, гладко и чувственно сбегали от торакса вниз, где простой бантик намекал на сокрытое внутри наслаждение.
В спальне Джонатан разделся – нервно, как подросток: снимая брюки и трусы, он согнулся, как будто это могло скрыть его чудовищную эрекцию. Она встала у окна и начала раздеваться, и, пока она слой за слоем снимала эпидермис, солнечный свет струился сквозь ее крылья, рисуя на потолке тонкий узор. Шесть ее рук двигались стремительно, подстегиваемые ее собственным страстным желанием. А затем они слились, став единым дышащим целым. Она выгнулась над ним, и ее составные глаза играли всеми цветами радуги. Он застонал – от восторга и наслаждения. Где-то вне поля его зрения ее яйцеклад выскользнул из брюшка, и с каждого его шипа капал «кашарель». Она выгнулась еще сильнее, проталкивая себя под него. Яйцеклад коснулся его ануса; а затем она вонзила в него свое жало, убивая его на пике оргазма.
Джонатан проснулся, и рот его был полон клейкой, липкой дряни. Было пол-одиннадцатого вечера, и теперь он жил в Инсектопии.
Это он понял, когда зашел на кухню. Бурлящий поток чешуйниц изливался из трещины за раковиной и выплескивался на сушку. Мириады их телец формировали какой-то узор. Джонатан нагнулся посмотреть, какой. Это был текст; чешуйницы сформировали из себя фразу «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИНСЕКТОПИЮ...» – многоточие сложилось из пяти десятков запоздавших насекомых, которым не нашлось места в «Ю». Джонатан протер глаза и воскликнул:
– Ну, это неожиданный поворот. Скажите – я полагаю, что если вы способны на такое, то понимаете мою речь – что конкретно означает пребывание в Инсектопии?
Рой чешуйниц слился в единую пульсирующую кучу, а затем снова расползся на буквы, в этот раз потоньше, которые бежали вдоль линий сушилки, как если бы это была разлинованная тетрадь:







