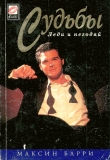Текст книги "Расщепление"
Автор книги: Тур Ульвен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Тот барабанщик, с которым тебе однажды довелось играть, стучал палочками до тех пор, пока они не превращались в обломки, обрубки, колошматил изо всех сил, от его остервенелых римшотов[6] в буквальном смысле летели щепки, и ты представлял себе, что через какое-то время он уже будет колотить тонюсенькими махрящимися огрызками, нет, двумя измочаленными зубочистками, а когда от них ничего не останется, начнет барабанить голыми руками, собьет кожу и мясо, станет молотить по установке одними костяшками, удар за ударом, беспрерывно, пока костяшки не треснут и не рассыплются, а потом культями, ногами и, наконец, головой, будет биться о малый барабан черепом, а когда череп тоже разлетится в пух и прах, музыка кончится, а может быть, продолжит звучать в потустороннем мире. Что тебе попалось в той газете? Ах да, один человек ловил в эфире сигналы от мертвых при помощи коротковолнового приемника, какие обычно используют радиолюбители, и записывал все на пленку, мертвые посылали ему сообщения, которые он сохранял на бесчисленных метрах пленки, они рассказывали обо всякой всячине, причем говорили, как ни странно, по-немецки, и он, хотя сам ни слова по-немецки не знал, все равно правильно понял, когда те сказали: Wir sind die Toten, и в газете был перевод «Мы – мертвые».
Приходится постоянно откидывать челку со лба, это действует тебе на нервы, будто женщина, которая все никак не отвяжется. Сначала бумагу, тщательно изорванную (не газеты целиком и уж точно не глянцевые страницы, эти только помешают огню разгореться), потом щепки, потом несколько деревяшек (красное дерево, сосна), потом морскую форму с фуражкой и всем остальным и ее купальник, раз уж они любят погорячее, то пускай вместе и горят, думаешь ты, горят в костре. Картины поверх тряпок, а сверху еще раз побольше дров, чтобы вся эта куча не расползлась. Ты убираешь с глаз челку и смотришь (через солнечные очки) на море. Они проплывают, легко скользя (или тарахтя, пыхтя, фыркая, подвывая и тому подобное) вдоль бухты, их много, целая армада, как будто разминаются перед вечером, и ты думаешь, что так оно, вероятно, и есть, они только делают вид, будто идут непринужденно, безмятежно, как в выходной, а на самом деле им хочется пить, и праздновать, и блевать, и веселиться, и чем раньше, тем лучше.
Бутылки в лесу. Ты никогда их не забудешь. Кто-то неизвестно зачем оставил их целую груду, десятки пустых бутылок из-под водки у крутого горного склона на опушке леса, и ты помнишь, как мгновенно ощутил себя сказочно богатым, ты нашел несметное сокровище; ты осторожно огляделся, чтобы убедиться, что больше никто на них не претендует, и никого не обнаружил; затем перенес все бутылки, ни одной не уронив, на подходящее расстояние от горы, а потом, после краткой сладостной передышки, во время которой упивался привалившим счастьем, ты начал их бить, одну за другой, но быстро, экономить не приходилось, можно было позволить себе расточительность. Когда бутылка разбивалась, осколки стекла, будто капли воды, отскакивали от горы каскадами и сыпались на мох и траву сверкающим дождем (это напомнило тебе о городских фонтанах, в которые ты частенько залезал в поисках мелочи), ты бросал и бил, бросал и бил, пока последняя бутылка не разлетелась вдребезги, и только тогда, утомленный приятными трудами, присел на траву отдохнуть.
Коряги, пустые ящики, старые рыбацкие ловушки, остатки стройматериалов и что-то в этом роде, кажется. Отбрасывая резкие тени, несколько мужчин на пляже разгружают пикап, попадается даже старая мебель, которую они достают вдвоем, а трое или четверо мальчиков носятся туда-сюда с бестолковым энтузиазмом, перетаскивая грузы полегче, но иногда и довольно увесистые (пни с корнями во все стороны, старые двери сараев), в таких случаях дети волокут их за собой, оставляя на песке темные полосы. Костер получится огромный, в форме пирамиды; один из мальчиков взбирается на кучу дров, держа в руке какой-то предмет, ты слышишь, как один из взрослых что-то строго ему кричит, мальчик медлит, поднимает голову, заводит руку с добычей (картонная коробка?) за спину и забрасывает на самый верх, где этот предмет и остается лежать, после чего раздается довольный, пронзительный возглас мальчика, а потом взрослый повторяет замечание громче, и ребенок поспешно спускается.
Опустошить дом – это, можно сказать, твой долг, думаешь ты, но, с другой стороны, некоторые вещи (стереоустановка, кухонная утварь, холодильник, телевизор и кое-что еще) горят плохо или не горят совсем, нельзя же требовать от тебя невозможной. Но большую-то часть того, что может гореть, ты спалишь, потому что домик и так ломится от абсолютно ненужных вещей, думаешь ты, вещей, которые рано или поздно все равно развалятся, или пропадут, или сгорят; до чего странная мысль: все, что там есть, однажды бесследно исчезнет, это лишь вопрос времени, так что ты просто опережаешь время или немного помогаешь ему и винить тебя, в сущности, не за что, так как все находящиеся здесь вещи, рассуждаешь ты, в любом случае сгинут, не частично, не выборочно, а целиком и полностью, от начала до конца, так что по большому счету, пожалуй, совершенно безразлично, в какой конкретно момент это произойдет, сегодня или через тысячу лет. Это произойдет сегодня. Ведь по большому счету все, что ты стащил в костер (рассуждаешь ты далее), уже выброшено, это просто мусор, утиль и мусор. Когда в своих размышлениях ты доходишь до этой точки, твоя рефлексия из внутренней и неслышной (и умозрительной) превращается во внешнюю и слышимую, и ты произносишь во весь голос, почти кричишь: долой хлам! долой хлам!
Мужчины внизу прекращают возиться с костром, своим вавилонским костром, шаткой и высокой, как башня, конструкцией, подлежащей уничтожению всего через несколько часов, и удивленно смотрят в твою сторону; ты корчишь рожу (может, им это видно, хотя кто их знает) и, отпив из бутылки, говоришь приглушенно, без особого апломба: долбаные хитрожопые мудаки возомнили о себе хер знает что яйца вам пообрываю и зарою вместе с вами и вашими яхтами пижонскими и подстилками вашими и гребите вы ко всем чертям во веки вечные. Они этого не слышат. Они отворачиваются и продолжают возиться с костром. Солнце выглядывает из-за облачка. Ты развязываешь шнурки и скидываешь кроссовки. Ширинка у тебя не на молнии, а на пуговицах, расстегнуть ее получается не сразу, но в конце концов тебе удается снять джинсы, футболку, носки и трусы. Это как покупать подержанную машину, надо как следует примериться и только потом решать, думаешь ты, так ты ей и сказал: это как покупать подержанную машину надо кследует примерца и ток птом ршать, – а она обиделась, оскорбилась или скорее набычилась (как ты это называешь); вот ты и примерился, примерилась и она, снова и снова, благо примерочных вокруг хватает, каждый раз новых, думаешь ты, принадлежащих сантехникам и летчикам, стил-гитаристам и полковникам, саперам и адвокатам, лазарям и богачам, снова и снова, все примерялась и примерялась, к верхам и низам, к власть имущим и подчиненным, когда недолго, когда подольше, совсем подолгу никогда. Тебя злит, что собственную спину не увидеть. Но, кажется, они бледнеют и снова исчезают, как бы втягиваются в здоровую кожу, чтобы затаиться, впасть в спячку, задремать до следующей вспышки. Это происходит периодически, в таких случаях помогают солнце и купание; но, даже если твоя кожа действительно становится грязной, дрянной, никудышной, дело все равно не в этом, думаешь ты, внешность им почти безразлична. Поскольку солнце действует на тебя благотворно, а спиртное наоборот, получается ничья, ты же получаешь и то и другое, и солнце, и выпивку, все сразу, и хуже тебе от этого не становится. Ты смеешься.
Корабль в окружении эскадры небольших лодок огибает бухту на полном ходу, люди в лодках машут руками, мужчины на берегу ставят ладони козырьком, показывают на судно и явно обсуждают его, паруса, возраст и все прочее; старинная парусная шхуна с коричневыми парусами, возможно, так называемый бриг. Возраст и все прочее, думаешь ты, он старше тебя как минимум лет на пятнадцать, а значит, ему в районе пятидесяти, а то и больше, старый капитан, который уплывает все дальше, к шестидесяти, семидесяти, восьмидесяти, девяноста никчемным годам, твоя бабушка дожила до девяноста трех, вспоминаешь ты, почти ослепла, оглохла, голова и руки тряслись, внезапные припадки гнева, потом снова апатия, припадки гнева, апатия и так далее, по крайней мере стало куда проще занимать у нее деньги, они были ей не нужны, она все равно не видела разницы между сотней и куском туалетной бумаги, думаешь ты, дряхлый капитан ста пяти лет от роду, скелет рулевого на прогнившей насквозь шхуне, которая идет с погашенными огнями под землей неведомо куда.
Ты чувствуешь себя странно трезвым, это надо исправить, тем более что выпивка здесь первоклассная и бесплатная. С пляжа потянуло жареным мясом; похоже, мужчины, возившиеся с костром, и несколько женщин, должно быть, жены, или подружки, или сожительницы, готовят еду. Сквозь солнечные очки все выглядит синеватым, а из-за выпитого алкоголя представляется еще и не вполне реальным, так что эти люди кажутся тебе если не актерами в кино, то фоновыми статистами телевизионного репортажа (пока на переднем плане корреспондент сует микрофон в меховом чехле чуть ли не в зубы какому-нибудь директору банка, или политику, или епископу, или хоккейному тренеру, случайные люди на заднем плане, не имеющие ни малейшего отношения к сюжету, убирают снег, заглядывают в витрины, едят мороженое, кормят уток, катаются на велосипедах, несут какие-то свертки, захлопывают двери машин, толкают перед собой магазинные тележки, отдыхают, облокотившись на трости, играют в футбол, тащат чемоданы и так далее; разве что дети или нахальные подростки иной раз вторгаются в, так сказать, личные покои камеры, заглядывая в объектив с заднего плана, корча гримасы, всячески дурачась и отвлекая внимание от того, что вещает директор банка, или политик, или епископ, или хоккейный тренер, однако остальные люди, попавшие в кадр, присутствуют там исключительно в качестве, что называется, случайных прохожих (так в жизни каждого человека, увиденной под его собственным углом, всегда будет присутствовать масса случайных прохожих), а все задаваемые вопросы – равно как и ответы – интересуют этих людей не больше, чем вопросы – равно как и ответы – газетной викторины на случайно раскрытом развороте интересуют ползающих по странице мух). Осталась примерно четверть бутылки. И этих бутылок там полно.
Пламя. А вдалеке, будто сквозь некую длинную трубу, звуки аккордеона, вой сирены, треск фейерверка и смех. Лодки: тарахтящие моторные шлюпки, бесшумные небольшие парусники, ялики, все бортовые огни горят, зеленые огни на правом борту у лодок, выходящих из пролива, красные огни на левом борту у лодок, заходящих в пролив, и белые, более или менее яркие – у всех, лодочное столпотворение, как будто идет эвакуация или по крайней мере регата, в темноте, в мягкой темноте летней ночи. С пляжа по-прежнему тянет жареным мясом. Ты чувствуешь, что проголодался. Ты дрожишь от холода, после пьяного сна усталость и головная боль орудуют в твоем теле, будто злобный врач, ты все еще (к счастью, как тебе кажется) не протрезвел, а ведь твой костер еще не зажжен; самое время его зажечь, думаешь ты. Пока ты мочишься (теплые брызги отлетают от каменных плит и попадают на ноги), тебе приходит в голову одна вещь, она как-то раз приснилась тебе и кажется теперь единственно верной, так и надо поступить, думаешь ты, направляясь к открытой двери домика. Ты наугад выхватываешь бутылку из бара (уже не выбирая из многочисленных эксклюзивных марок) и отпиваешь, запрокинув голову, сколько получается проглотить за один раз, захлебываешься, выплевываешь половину (все-таки не рассчитал силы) и снова пьешь, как можно быстрее, задыхаясь, кашляя и давясь, пьешь до тех пор, пока в бутылке не остается половина, берешь с полки новую, отвинчиваешь крышку, идешь в спальню и размашисто, не скупясь, обливаешь алкоголем постельное белье, пропитываешь всю ткань спиртом, а потом чиркаешь толстой каминной спичкой.
Внизу, на берегу, вовсю полыхает огромный костер, языки пламени на ветру, дующем с суши, клонятся в сторону моря, прямо сейчас, от этого зрелища мурашки бегут, ты голый, челку все время сдувает на глаза, ты снова вспоминаешь, что давно пора зажечь свой костер, но тебе холодно, хочется есть, и ты нетвердо, довольно медленно, почти инстинктивно бредешь к источнику тепла на пляже, на звуки аккордеона (после заключительного такта он смолк, и на некоторое время громкие разговоры и крики большой компании стали слышны отчетливее), а главное – на пламя костра, который может согреть твое тело, и запах жареного мяса, которое может утолить твой голод.
Пейзаж, погруженный в темноту, или полутьму, или четвертьтьму, мерцающий летний сумрак, в котором все очертания, все светлые поверхности как бы удерживают отблеск прошедшего дня, так до конца и не угасающий, утренние (или вечерние) сумерки, продолжающиеся всю ночь. Перерыв в музыке затягивается. Он кажется бесконечным. Кричат морские птицы. На пляже фальшивым хором заводят песню. За спиной слышен звук мотора, машина проезжает мимо, мельком осветив твою спину, останавливается, разворачивается и светит фарами тебе в лицо. Ослепленный, ты поднимаешь в ее сторону бутылку, как бы предлагая тост, и продолжаешь путь. Когда нормальное зрение возвращается, вокруг тебя все та же ясная летняя ночь; только скалы и фигуры, которые ты, проходя мимо, видишь на фоне костра, кажутся сплошными анонимными тенями, отлитыми из густой тьмы, черной, как застарелая гарь на сковороде, черной, как твои зрачки (ты, можно сказать, смотришь на вещи из тьмы), ты не различаешь в зеркале ничего, кроме верхушки подсвечника, огарка и высокого пламени, которое тянется вверх, как бледный росток из луковицы. Отражение свечи несколько сдвинуто (или отклонено) относительно настоящей восковой свечи (поставленной прямо перед зеркалом), поскольку зеркало прислонено к стене под небольшим углом, это сделано для того, чтобы оно не опрокинулось, и то, что можно (парадоксально выражаясь) назвать недрами зеркала, составляет как будто бы отдельное пространство, в котором находится другая свеча, напоминающая настоящую, но не идентичная ей.[7]
Если приглядеться, можно заметить светлое горизонтальное кольцо на самом верху огарка, вокруг фитиля, там, где воск, готовый оплавиться, насквозь просвечивается пламенем, и мерцающую вертикальную полоску вдоль всей свечи, будто на слегка обледенелом снегу, однако последнее касается только задней стороны огарка, отражаемой в зеркале, и связано, по-видимому, с тем, что гладкая поверхность (зеркало) бросает на свечу свой отблеск, тогда как передняя сторона свечи (напротив зеркала, видимая) остается, наоборот, почти такой же темной и матовой, как воображаемое зазеркальное пространство, не считая светящегося воскового кольца (сверху) и окаймляющих подсвечник блестящих отсветов (снизу). Фитиль выделяется темным пятном (таким же черным, как поверхность зеркала) в нижней части необыкновенно высокого пламени, выше даже самой свечи (возможно, из-за того, что женщина, которая должна была подрезать фитиль, задумалась и забыла это сделать), узкое, вытянутое, желто-белое (с красноватым кончиком) пламя колеблется и будто лижет раму зеркала, роскошную, дорогую, позолоченную (или посеребренную, отливающую красным при свете свечи); но зачем, прерываешь ты свою визуальную медитацию, так пристально изучать эту картину со свечой? Чем тебя так привлекают картины? Тем, что ты видишь на них самого себя? Нет. Скорее тем, что благодаря картинам нет необходимости смотреть в настоящее зеркало и видеть это лицо, которое могло бы принадлежать любому другому тридцатидевятилетнему мужчине, холостяку, лицо, которое после семи пластических операций так и не стало твоим, эту неумелую подделку или бездарную карикатуру. На картинах же тебя самого нет.
Массивные и в то же время витиеватые, тонко проработанные украшения на раме, растительные орнаменты в углах, симметричные волюты и картуши с каждой стороны, крупный, каплевидной формы драгоценный камень (серьга), лежащий перед зеркалом, а справа от подсвечника – длинная нить жемчуга, как бы небрежно брошенная или скорее скрученная, будто в порыве отчаяния, едва ли не завязанная узлом, напоминающая кольчатое, чешуйчатое пресмыкающееся или причудливую водоросль. На стене позади зеркала ты видишь большую прямоугольную тень (от него самого и от рамы), такую же черную, как тьма в зеркале (если бы не отражение свечи, зеркало можно было бы принять за стоящую на фоне темноты золоченую раму); кроме того, ты видишь женщину в белой, широкой, образующей множество складок льняной рубахе (сквозь ткань проглядывают тенью плечо и локоть), она сидит и смотрит в сторону зеркала, как бы не видя своего отражения, а от ее дыхания (или вздохов) пламя, вероятно, время от времени колеблется; ты видишь половину ее бледного, отвращенного от тебя профиля, и свободный, V-образный, очень глубокий вырез рубахи, гладкие, длинные, доходящие до спины волосы, каштановые, почти черные, перекинутые через плечо, и пурпурно-красную юбку, ниспадающую на ноги и полностью их скрывающую, и крупные, можно даже сказать, мощные, полные кисти рук, переплетенные (непринужденно, со слегка растопыренными пальцами, так что пальцы левой руки отбрасывают тени на тыльную сторону правой) и опирающиеся на череп, который лежит у нее на коленях.
А теперь свеча стоит на стуле, обтянутом красной кожей, и женщина, сидящая рядом на табуретке, лучше всего освещена в области груди. На ней, по-видимому, ночная сорочка, подобранная до самых бедер и распахнутая, так что дряблая грудь выскальзывает наружу. Ее волосы прикрыты каким-то платком или тюрбаном, лицо выражает глуповатую сосредоточенность, из-за низко склоненной головы подбородок кажется двойным, а опущенные веки свидетельствуют о том, что взгляд ее направлен в некую точку между животом и грудью, туда, где она держит руки, сжав кисти и стиснув их вместе, так что видны только выступающие широкие нижние фаланги (сами по себе похожие на лошадиные зубы); большие пальцы согнуты, и там, где их ногти соприкасаются, можно, если как следует приглядеться, различить (или вообразить, будто различаешь) блоху, которую эта женщина давит, а источник света потребовался ей для того, чтобы лучше видеть. Ты думаешь о распространенных в ее столетие богословских взглядах, согласно которым от сотворения мира предопределено, кто обретет вечное спасение, а кто найдет вечную погибель, так что обреченные обречены задолго до появления на свет, а спасенные спасены задолго до появления на свет, тогда как сама жизнь оказывается, строго говоря, избыточной демонстрацией частных случаев того, что и так уже решено от века и вовек; стало быть, можно, думаешь ты, с тем же успехом совсем упразднить земную жизнь, чтобы обреченные были обречены только на том свете, а спасенные спасены на том свете, от века и вовек, без этого тривиального перерыва на жизнь, и не потребовалось бы миллионов лет, чтобы шрамы попали на твое лицо, они просто находились бы там, отчетливые и ясные, будто картезианские идеи, от века и вовек.
Легкий хруст, с которым ногти, сомкнувшись, раздавливают блоху. Возможно, этот щелчок слышен в комнате, где, кроме женщины, никого нет. И, быть может, она, положив на раздутый живот руки, чувствует, как там шевелится плод, растущий зародыш, чьи клетки продолжают делиться у нее внутри, пока блохи по другую сторону дохнут между ногтями ее больших пальцев. Как бы то ни было, можно утверждать, что эта женщина в самом деле всецело сконцентрировалась на чем-то фактическом, чем-то существующем (а именно на блохе), в отличие от той, первой женщины, которая сидит перед зеркалом и размышляет о бренности и смерти в обстановке, свидетельствующей, кажется, о большем достатке, она сосредоточена скорее на чем-то другом, чем-то не существующем, или не существовавшем раньше, или том, что больше не будет существовать, или же соединяющем в себе все перечисленное, поскольку она смотрит не на какую-нибудь блоху и даже, в сущности, не в зеркало, или на свечу, или отражение свечи, она смотрит как бы в саму темноту или на контраст света и темноты, будто предвосхищая кромешную тьму, готовую прийти на смену свету в тот миг, когда пламя качнется и вспыхнет в последний раз или, вернее, когда последний красно-оранжевый огонек на фитиле пропадет, выпустив облачко дыма (неразличимое в темноте), и она, ощутив характерный резкий запах потухшей восковой свечи, не сможет больше видеть ничего, кроме колеблющегося послесвечения на собственной сетчатке, от которого в конце концов останется лишь несколько неверных, мигающих световых пятнышек.
Это мгновение еще не наступило. Пока что есть время подождать и подумать, разглядывая зеркало, как ты и поступаешь, не замечая ничего, кроме горящей свечи и ее наклонного отражения, высокого пламени, трепещущего, извивающегося, меняющего цвет, вокруг фитиля как будто бы голубоватый, на кончике как будто бы красноватый, или белесый, белый свет на белой полоске бумаги, которая вылезает из щели в сопровождении негромкого, металлического, жужжащего электронного звука, напоминающего шум старого компьютера, и ты понимаешь, что вы уже какое-то время в пути, но ничего не помнишь с того момента, как оказался в машине. Значит, это снова случилось, причем на сей раз, очевидно, длилось намного дольше обычного, ни снов, ни видений, полный, абсолютный блэкаут, ничем не предваряемый, будто из твоей жизни, как из фильма, бесцеремонно вырезали несколько минут или она, как книга со сплошным текстом, вдруг открылась на пустой странице, а затем снова пошел сплошной текст, будто твой мозг умирал и ты пять минут (или сколько это продолжалось) провел с мертвым мозгом в живом теле, а теперь очнулся, хотя по-прежнему рискуешь исчезнуть в любой момент; все это тебе не нравится, надо бы сходить к врачу, думаешь ты, как только сделаешь то, что должен сделать. Уже достаточно рассвело (хотя утренний час пик еще не начинался), чтобы можно было разглядеть почки на березе, несколько желто-зеленых, как бы проклюнувшихся из черной скорлупы язычков, пока машина стоит на первом светофоре, а шофер, отвечая на твой вопрос, объясняет, что это автоматизированная сводка различной информации, о маршрутах, прежде всего о маршрутах, но также о больших очередях на остановках, перекрытых улицах, произошедших авариях, опасных ситуациях на дороге (к примеру, о пьяном, который бродит по проезжей части на определенном участке), угонах и прочих правонарушениях.
Долгие тихоокеанские волны набегают на песчаный пляж, ты слышишь их шум с террасы бунгало, голубые волны, вздувающиеся, прежде чем разбиться пеной и окатить песок, никакой зимы, никаких времен года, только вечное лето и пассат, благодаря которому никогда не бывает слишком жарко, думаешь ты. Ты спрашиваешь, позволяет ли это устройство передавать сообщения, но для этого, по его словам, приходится использовать рацию. Таксист привычно маневрирует на четырехполосной дороге, быстро (на предельно допустимой скорости), но плавно, включив высокую передачу. Ты замечаешь за окном магазин светильников, сотни зажженных ламп всех мыслимых размеров и форм внутри старого деревянного дома с белеными стенами (в прошлом, должно быть, частного), будто лампы превратились в диковинных стайных животных, сбившихся на ночь вместе, как светлячки, пчелиный рой в улье или камни, скопления сверкающих кристаллов, самоцветов, бриллиантов, ты с ужасом думаешь об астрономических счетах за электроэнергию – вероятной расплате за подобное рекламное расточительство, а ведь эти деньги могли бы пойти на что-нибудь получше.
Как будто белые скалы в лучах утреннего солнца, чуть только вы проехали поворот за бензозаправками (две конкурирующие фирмы, одна напротив другой по разные стороны улицы; перед одной из них работник в синем форменном комбинезоне моет асфальт из резинового шланга), массивные многоэтажки, выглядящие в некотором смысле мертвыми и необитаемыми, вроде гигантских памятников прошлого, храмов, зиккуратов или мавзолеев, которые заставляют ученых строить предположения о том, каким образом они возводились и для чего вообще были нужны. Ты осторожно просовываешь руку в коричневую хозяйственную сумку и ощупываешь рукоятку, удобно закругленную, прекрасно ложащуюся в ладонь, с наслаждением обхватываешь и приподнимаешь, чтобы ошутить тяжесть; потом бесшумно роняешь оружие обратно в сумку и берешься за широкую, мягкую ручку двери. Хорошо, что ты умеешь держать рот на замке, иначе тебя просто засмеяли бы. Чего стоят хотя бы названия этих островов, с их мелодичными, переливающимися гласными, похожими на неторопливые волны, ты знаешь их назубок, а твое бунгало должно располагаться на невысоком склоне, с видом на простирающиеся вокруг вулканические гряды в буйной растительности, над пляжем, всего в нескольких минутах неторопливой ходьбы по извилистой тропинке, думаешь ты, в теплом тропическом климате, позволяющем круглый год разгуливать в шортах, сандалиях и просторной цветастой рубашке с коротким рукавом.
Вероятно, печи не должны остывать, поэтому там работают по непрерывному сменному графику: в весеннем воздухе плывут клубы бурого дыма. Ты видел, как гигантский козловой кран опускает магнит на целую гору, настоящий могильный курган из металлолома – всяческих покореженных железок неясного происхождения, старых механизмов, автомобильных кузовов (и на пару секунд ты задумываешься, существует ли вероятность, что машина, в которой ты сейчас сидишь, угодит в итоге именно в эту груду металлолома), дырявых жестяных пластин, пришедших в негодность бочек и тому подобного, а также множества непонятных металлических кусков и кусочков, чью первоначальную функцию уже не установишь, поэтому легко вообразить, будто вся эта гора утиля образовалась в результате взрыва, продолжительной террористической бомбардировки, будто город охвачен войной, да, будто все эти обломки – прямое следствие непрекращающихся военных действий; и, несмотря на разноцветную ржавчину всевозможных оттенков, от угольно-черной до табачно-бурой и кирпично-красной, а по большей части все-таки темно-коричневой, металлолом этот, в сущности, столь же бесцветен, сколь и (временно, до переплавки) нефункционален, бесполезен; ты вспоминаешь, как тяжелый и круглый грузоподъемный электромагнит, будто спасательная корзина с вертолета, опускался на вершину металлической кучи, затем подавался электрический ток высокого напряжения (надо полагать, все это проделывал крановщик, сидевший на самом верху, в похожей на деревянный сарайчик кабине) и нужное количество металла мгновенно приставало к магниту, будто клочки целлофана, которые (из-за статического электричества) иной раз липнут к пальцам так, что стряхнуть почти невозможно; далее кран отделял притянутые к магниту куски железа, точно колышущийся ворох тряпья, от большой кучи (ты почти каждый раз замечал, что в последний момент несколько самых нижних обломков в буквальном смысле вырывались из магического магнитного круга и падали с высоты в несколько метров обратно, на груду рухляди), поднимал добычу на определенную высоту (чтобы никакие препятствия не помешали), и тогда исполинский мост крана (раскинувшийся аркой над всем фабричным зданием) приходил в движение, сопровождаемое скрипом, лязгом и грохотом двигателей и подвижных частей, прежде всего, вероятно, массивных колес, на которых кран перемещался по рельсам; доехав до определенной точки, где металлолом, напоминающий воронье гнездо, оказывался, судя по всему, над невидимой целью за стенами литейного цеха (крановщик, конечно же, отлично видел ее сверху), груз стремительно и отвесно опускался сквозь тяжелый люк в некое помещение, где явно горел огонь, ты ведь помнишь дрожащие отблески пламени и клубы дыма, поднимавшиеся вдоль стен; будь у тебя воображение побогаче, а склад ума – поэтичнее, чем есть от природы, ты уподобил бы все это схождению душ умерших (кусков металлолома) в чистилище (литейный цех), откуда по прошествии времени они должны вернуться в обновленном и преображенном (очищенном) виде, но такого рода устаревшие, вздорные аллегории тебе в голову не приходят.
Столица. Время от времени придется, конечно, выбираться на лодке в столицу, чтобы снять денег со счета (не исключено, впрочем, что банк есть и на острове, ты не уверен), купить что-нибудь особенное, возможно, сходить в бар, ресторан, а при случае и в бордель (если понадобится), но в остальном ты коротал бы дни купаясь, ходя под парусом, рыбача, систематизируя коллекцию раковин, мастеря корабли в бутылках, собирая плоды хлебного дерева и вскрывая кокосы при помощи мачете, прогуливаясь по пляжу и по лесу, посиживая на террасе со стаканчиком чего-нибудь, над газетами и журналами недельной или месячной давности, рассказывающими о событиях и людях, которые тебя не касаются и не коснутся уже никогда.
Все эти мужчины, которые то ли до сих пор, то ли уже, несмотря на ранний час, трудятся там, внизу, вкалывают в этом пекле среди испарений металла, обливаясь потом, представляешь ты, вынужденные защищать глаза очками, головы – касками, лица – специальными щитками, руки – асбестовыми перчатками, ноги – ботинками со стальными подносками, легкие – респираторами, внизу, в трудовом аду, безнадежные идиоты, гробящие тело и душу за каждое эре, а что хуже всего, думаешь ты, не помышляющие ни о чем другом, неспособные даже помечтать о чем-то лучшем или вообразить свою жизнь без работы, они отвергли бы саму возможность просто так, ни за что, получать полный оклад (чуть только выдается свободный день или хотя бы полдня, такие люди, ты видел, сразу бросаются что-то пилить и строгать, красить стены, клеить обои, укладывать кирпичи, стелить линолеум, ремонтировать машины, полоть грядки, рыть канавы, колоть дрова, подстригать изгороди, что-то лакировать, делать изоляцию, паять, менять черепицу, обшивать подвальные этажи, обставлять мансарды и так далее, и тому подобное, с лихорадочным рвением, как будто они причастны тайному медицинскому знанию: стоит только прервать активную деятельность, как их тела рассыплются горстками праха, вот откуда этот хронический труд, звучит как диагноз – хронический труд); поэтому, думаешь ты, им непонятна вся прелесть денег, которые нужны не для покупки вещей, как считают эти люди, а для полного освобождения – тебе это очевидно – от любой работы (при условии, что денег достаточно); сидя в такси, ты усмехаешься при мысли об этих нелепых идеалистах, воображающих, что горбатиться на государство лучше, чем на частного эксплуататора, что возиться ради выживания в общественном дерьме лучше, чем в дерьме частном, что спину ломит меньше, если затаскиваешь на пятый этаж рояль, принадлежащий res publica, а не торгашам, ты улыбаешься при мысли обо всем этом нытье про безработицу, как будто проблема в праздности, а не в работе, как будто люди выстраиваются в очередь за непосильным трудом, а не ради счетов для зачисления зарплаты (и, конечно же, удовольствий, которые она сулит); все эти люди, думаешь ты, не осознают, что упразднить следует не что иное, как работу, поэтому не предпринимают ни малейших попыток сделать это хотя бы лично для себя. Сомнамбулы. Мыши. Мыши на витрине зоомагазина, без толку надрывающиеся в пластмассовом розовом колесе, винтики чужой машинерии.