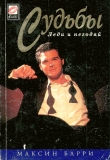Текст книги "Расщепление"
Автор книги: Тур Ульвен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Умиротворение. Чувство глубокого умиротворения овладевает тобой, когда ты, прикончив вторую бутылку, с легкостью откупориваешь третью. Сделав глоток, ты приходишь в веселое расположение духа, радуешься, что это людоедское зимнее утро больше не способно тебя сожрать, можно спокойно смотреть в окно, выходящее на перекресток, где оживленное утреннее движение понемногу ослабевает, начался снегопад, у автомобильных колес свежевыпавший снег взвивается пушистой пылью, а в переулке, где машин почти нет, поверх следов от колес на старом снегу виднеется бледная дымка, будто равномерно распределенный сигаретный дым или марлевая повязка, а когда ты, прижавшись носом и щекой к холодному стеклу, вглядываешься, щурясь, в самый конец улочки, насколько позволяет зрение, очертания домов и улиц теряются в уютной серой пелене летящего снега, в суммарной непрозрачности сотен вьющихся снежинок, которая в эту минуту, после трех без малого бутылок пива, кажется тебе трогательной и прекрасной. Внезапно тебя пронзает воспоминание о том (переливающаяся, будто северное сияние, вспышка боли в твоей груди, приступ эмоционального ревматизма), как однажды ты стоял вот так и наблюдал за появившимся из снегопада пятнышком, которое, медленно приближаясь, превращалось в ясно очерченную человеческую фигуру, ее фигуру: сначала лишь анонимная, смутная тень, которая могла оказаться кем угодно (а большинство людей для тебя и есть кто угодно), и только почти случайная догадка заставила тебя сосредоточиться на этой фигуре, однако постепенно, по мере того как тень приближалась и становилась отчетливее, ты понимал: шансы, что это окажется именно она, увеличиваются, потом ты узнал одежду и походку, и наконец – это похожее на сигнал впечатление, возникающее, когда узнаешь кого-нибудь издалека (лицо кажется странно чужим, схематичным и вместе с тем особенным), и вот уже она остановилась у двери дома. Чуть позже, говоря с ней по домофону, ты подумал об огромном, на первый взгляд, расстоянии (не только в пространстве, но и во времени) между безымянной тенью, которую ты заметил сначала, и знакомым голосом, который принадлежал ей и никому другому.
Почему бы и нет? Почему вечно нельзя поступать так, как хочется? Потому что нормальные люди так не делают? Нет никаких нормальных людей, думаешь ты. У каждого внутри истошный вопль, это кричит то, что должно быть высказано, но не высказывается никогда, думаешь ты. В общем, можно попробовать ей позвонить. Но сначала надо чего-нибудь съесть; нет, прежде всего покурить, это важнее, и ты принимаешься рыться в карманах брюк, курток, пальто, портфелей и так далее (она мигом сказала бы, сколько и где осталось сигарет, если бы по-прежнему жила здесь, думаешь ты), пока не находишь наконец мятую пачку с одной сломанной и двумя целыми сигаретами в кармане халата, который как раз на тебе, после чего поиски возобновляются, ведь теперь нужны спички или зажигалка, ты заново роешься в карманах брюк, курток, пальто, портфелей и так далее, а также в трех карманах халата, но на сей раз безрезультатно, приходится расширить область поиска и обследовать столы, ящики, шкафы, углы, скребя, так сказать, по сусекам, но опять-таки безрезультатно.
Ты включаешь одну из конфорок (самую маленькую) на полную мощность. В телефонной трубке гудки (ты не знаешь, как выглядит место, где стоит телефон, у тебя нет о нем никаких воспоминаний, ведь ты там ни разу не был, все равно что звать кого-то в темноте), второй гудок, без ответа, третий, без ответа, четвертый, без ответа, пятый, без ответа; на шестой кто-то берет трубку, прерывая гудки. Недовольный, заспанный женский голос произносит лишь: да? – и пока нельзя быть уверенным, что это она, хотя голос похож, ты называешь себя, а она в ответ: только не это! ты! я уж думала, я от тебя отделалась; ты бормочешь что-то о том, как сидел и думал о ней, о том разе, когда ты наблюдал, как безымянное ничто под падающим снегом превращается в нее, а потом ее голос по домофо… тут она перебивает: ты хоть в курсе что я сегодня вернулась домой в пять утра летели отвратно пришлось сесть и ждать шесть часов и только потом лететь дальше из-за долбаной погоды пассажиры ныли как дети малые а какой-то известный урод нализался и устроил скандал ломился в кабину пилота хотел посадить нас прямо в чистом поле ему видите ли надо на конференцию и вот теперь еще и ты в девять пятнадцать какого черта тебе вообще надо, – и ты говоришь: да я тут просто вспоминал какая ты была красивая в тот раз когда пришла из-под снегопада, у тебя были румяные щеки и капельки растаявшего снега в волосах, а другие (ты колеблешься) мои романы были по большому счету так ничего серьезного я хочу сказать что только тебя я, – а она перебивает: страдания и утешения вечно у тебя одни страдания и утешения но меня не волнуют твои страдания и я не собираюсь тебя утешать ты сентиментален все так же сентиментален жестокие люди самые сентиментальные особенно когда фу… ну да с тебя станется нажраться в девять утра это в твои-то двадцать пять ты ведь уже пьян да? у тебя что нет никакой работы? выходной? а с чего это вдруг у тебя сегодня выходной? а вообще-то не мое это дело мое дело сейчас спать понимаешь ты СПАТЬ и чтобы меня не доставали всякие оборзевшие страдальцы вроде тебя и не лили крокодиловы слезы нет уж извиняться бесполезно ты отлично знаешь во всяком случае когда ты трезвый если ты еще помнишь каково это что мне на тебя плевать отстань от меня заткнись, – и вдруг, будто электричество, твое тело пронзает ярость, и ты произносишь: ну ты и стерва слащавая лицемерка сплошная фальшивка ты это… двули… вся из себя милашка и очаровашка с теми с кем тебе есть эгоистическая выгода… а когда ловить нечего ты циничная как хрен знает кто ты кассовый аппарат с, – и твое последнее слово, вульгарное название женского полового органа, успевает долететь лишь до микрофона в трубке, так как на словах «кассовый аппа…» разговор превратился из диалога в монолог, со щелчком, означавшим, что она повесила трубку.
Теперь тебе отчаянно хочется курить. Ты помнишь, что у тебя нет ни спичек, ни зажигалки, но все равно идешь на кухню проверить. Там ты с удивлением обнаруживаешь, что одна из конфорок на плите из черно-серой в ржавых пятнах стала желто-красной. Ты задумываешься. Не выключая горелку, растопыриваешь пальцы и водишь рукой в считаных миллиметрах над раскаленной конфоркой, ощущая, как ладонь и нижнюю поверхность пальцев обдает жаром, пока боль не пересиливает волю. Тогда ты, встряхнув рукой, дуешь на нее, а потом достаешь сигарету (одну из уцелевших) из мятой пачки, суешь в рот и, наклонившись над плитой так, чтобы другой конец сигареты коснулся конфорки (и снова ощущаешь жар, на сей раз обдающий лицо), прикуриваешь короткими повторяющимися вдохами, чувствуя, как горький дым поступает в легкие, сначала мелкими жадными затяжками, потом более глубокими, поднимаешь сигарету и разглядываешь огонек, он хорошо разгорелся, ты выключаешь конфорку, но не отходишь от нее и смотришь, как зачарованный, на пышущий металл, который будто вот-вот расплавится (так раскаленное железо – ты видел – течет в плавильных печах, напоминая сок красного апельсина), но выглядит все еще густым и сиропообразным, пылающее металлическое колесо, плоское, как крышка, красное солнце, тлеющее металлическим блеском сквозь проплывающие облака, то скроется, то появится, с неразборчивой надписью, как истертая медная монета давно сгинувшей империи. Все еще день, но свет уже закатный, ты пришел на конечную остановку кого-то встречать (а кого, забыл), однако там никого не оказалось, потом подъехал трамвай, сделал круг и, тяжело содрогнувшись, остановился, а консервные банки, прицепленные сзади, перестали греметь. Все стихло.
Трамвай был черный и выглядел так, будто внутри случился пожар или взрыв, или и то и другое, остов, в котором не уцелело ни одного стекла, зато остались знаки в виде красных крестов, двери открылись (красные кресты сложились и пропали), и вышел приземистый, коренастый, полный человек без головного убора (и лысый), однако в потрепанном зимнем пальто; его пальцы были унизаны блестящими крупными перстнями с разноцветными камнями. Вид незнакомца наводил на мысли о драке, и ты приготовился защищаться, но при ближайшем рассмотрении его лицо показалось кротким, мягким и немного печальным. Сверкая кольцами, он спросил с утвердительной интонацией: ищешь кого-то? – и ты неуверенно ответил: да, но ее здесь нет, это, наверное, недоразумение, видимо, по ночам ни часы, ни ее сердце не работают (вдруг наступила ночь), – а он сказал: не волнуйся, ты пришел не за этим, это лишь предлог; нет, ты вот что пойми: смысл заключается в бессмысленном, именно в бессмысленных словах содержится все, что тебе нужно знать. Тут он повернулся к тебе спиной и его вырвало на платформу. Потом он зашел обратно в раскуроченный трамвай, двери закрылись (ты обратил внимание, что эмблемы в виде красных крестов сменились черепами), вагон поехал вниз, в сторону города, и исчез.
Не на первом шаге, а на втором, когда спускаешься из автобуса, сапог ступает на лед, уже, конечно, разбитый, ведь давно перевалило за полдень и до тебя через эту остановку успели пройти многие (и кто-нибудь из них раздавил – или скорее разные люди по очереди давили – хрупкий осенний лед, покрывший лужу); матовая, как бы сахарная корка осталась лишь по краям, по-прежнему хрустящим. Ты ожидал, что за день солнце растопит лед на лужах, но он не растаял, а это, думаешь ты, явный предвестник конца осени и приближающейся зимы. Ты схватился было за шарф, чтобы затянуть его потуже, но шарфа на тебе нет. Галстук не греет. Поэтому шея мерзнет, пока ты пересекаешь просторную и довольно пустынную парковку (где почти никогда не бывает машин, непонятно, зачем она вообще нужна, разве что для периодических занятий какой-то автошколы, когда здесь появляются ряды пластмассовых фишек с подсветкой, напоминающих по форме шляпы ведьм, и будущие мотоциклисты медленно, почти со скоростью пешехода, выполняют между них слалом). Парковка кажется больше, чем обычно. Когда мерзнешь, все расстояния увеличиваются, думаешь ты; и чем сильнее мерзнешь, тем дальше идти. В окнах автомойки ты замечаешь огромные щетки из искусственного волокна, как будто для мытья посуды в электрифицированном Бробдингнеге, нарядно рассортированные по цвету: желтые, красные, голубые, черные, они висят там без дела. Раздвижные стеклянные двери ремонтной мастерской тоже закрыты, но внутри ты видишь двух механиков, один наклонился вперед и указывает на что-то инструментом, а другой отмахивается, качая головой. Снег не идет.
Но ведь каждую обезьяну, каждую козу, каждую лягушку зачинают и рождают, сначала они всего лишь сгусток клеток, плевок жизни, необязательно даже быть млекопитающим, чтобы представлять собой сначала всего лишь сгусток клеток, продолжаешь ты прерванный ход мыслей, всех их зачинают и рождают безо всякой метафизики, самым что ни на есть вульгарным биологическим способом, а зачатие и рождение человека ничем принципиально не отличается от зачатия и рождения, допустим, обезьяны, или козы, или лягушки, на самом элементарном уровне. (Впрочем, животные интересуют тебя лишь в качестве примеров.) Кроме того (и это совершенно бесспорно), на протяжении миллиардов лет жизнь развивалась от простых форм к сложным, все более усложняющимся, однако основанным на тех же простейших базовых принципах, состоящим из клеток, в которых, так сказать, угнездилась жизнь, короче говоря, думаешь ты, все то, что живет сейчас, происходит от того, что жило раньше, все сложное живое – от живого попроще, все разумное живое – от неразумного живого. Если учитывать, что обезьяноподобные существа, так называемые приматы, появляются спустя более ста миллионов лет с момента возникновения млекопитающих, подводишь ты итог, глядя (невидящим взглядом) на череду банок с моторным маслом (СКИДКА НА ЗИМНЕЕ МАСЛО), и от этих приматов происходят человекообразные обезьяны, от человекообразных обезьян – первобытные люди, а уже от них – современные (в физиологическом смысле) люди, возникает одна достаточно каверзная проблема, а именно: где в точности, на каком именно этапе бессмертная душа нежданно-негаданно имплантируется или, вернее, вводится человеку посредством божественной канюли, прежде всего в мозг, вероятно; на какой стадии это происходит, если в остальном предполагается биологическая непрерывность? Но, если душа не впрыскивается внезапно, чудесным образом, в более или менее обезьяноподобное, смертное тело, как же она тогда может быть бессмертной и свободной, если она как бы отрастает вместе с клетками мозга? На каком конкретно этапе человек в таком случае стал бессмертным? Должен ли, например, Homo sapiens neanderthalensis издохнуть навсегда самым небожественным образом, будто какая-нибудь гиена или лобковая вошь, тогда как Homo sapiens sapiens, обладая бессмертной сущностью, стяжает по своей физической кончине жизнь вечную? В общем, заключаешь ты (опять-таки), нет у человека никакой бессмертной души, это невозможно, а значит, она не может оказаться в аду.
В сущности, автозаправки для тебя темный лес. Ты никогда не обучался вождению так называемого транспортного средства, поэтому на заправке ощущаешь себя если не непрошеным чужаком, то, во всяком случае, смущенным гостем (ты с неудовольствием вспоминаешь, как однажды тебя подвозили на машине и попросили ее заправить; ты не сумел даже повесить пистолет, или как его там, обратно на колонку, он никуда не влезал, и ты так и стоял с этим пистолетом в руке, будто с диковинным зверьком, не зная, куда его деть, и чувствуя себя посмешищем). Зато в магазине ты держишься увереннее. Тебе не нужны колпаки для колес, стеклоочистители, мочалки, скребки для удаления льда, дорожные аптечки, предупреждающие треугольники, цепи, зарядные устройства, багажники на крышу, зеркала заднего вида, чехлы для сидений, автомобильные шторки, замки на руль, канистры для бензина, домкраты или наборы для ремонта выхлопной трубы, на кой они тебе, равно как и обезжиренное молоко, порнографические журналы, крестовые отвертки, швейцарский сыр, коробки конфет, яблочный сок, ножовки, мороженое, пледы тигровой расцветки, наборы для бадминтона, комиксы, кольца для ключей, шариковые ручки, кофейные кружки, золотистые буквы-наклейки, карманные фонарики, рисовая каша быстрого приготовления, струбцины, апельсины, снюс, бейсболки или леденцы с ментолом. Ты проходишь прямо к кассе и встаешь в конец небольшой очереди. Смотришь на полку с табаком для самокруток (невидящим взглядом) и, пока ждешь, твердо решаешь (еще раз), что не веришь в сны как знаки или предостережения, но все равно не можешь отделаться от воспоминания о сентенции того толстяка, истолковать которую можно двумя совершенно противоположными способами, а именно: 1) что умерло, то умерло, а кто умер, тот умер, и тот, кто умер, пребывает по ту сторону всякого смысла, то есть в сфере бессмысленного, в чем и заключается решение всей проблемы; или 2) самое абсурдное, то есть самое бессмысленное, что можно себе представить, – это существование бессмертной души и вероятность попадания этой души в ад.
Трамвай из сна. Он вызывает у тебя одну и ту же ассоциацию: ты стоял на остановке (наяву, не во сне) теплым, чудесным летним вечером, собираясь в город на встречу с друзьями, и тут молодая женщина (или не такая уж молодая? ее возраст трудно было определить, думаешь ты, но, возможно, слегка за тридцать, как тебе сейчас), стоявшая рядом с тобой, в туго повязанной косынке (из-за выпавших волос?) и со странно темным, красновато-коричневым цветом лица, внезапно отвернулась к стене, и ее вырвало, один раз, другой, третий, а потом она, вытерев рот рукой, продолжила ждать трамвая. Она ничего не сказала, не пошатнулась, не вздрогнула, не улыбнулась. Просто отвернулась, и ее вырвало. Она оставалась абсолютно безмолвной и серьезной, но ее серьезность не была вызвана задумчивостью или соображениями приличия, просто серьезность человека, у которого что-то сильно болит. Ты расплачиваешься мелочью без сдачи за две чистые кассеты по девяносто минут.
Кто-то неподвижно стоит на пешеходном мосту. Подойдя ближе, ты видишь женщину средних лет в сером пальто, которая бросает что-то – трудно сказать, что именно, – через перила и, кажется, провожает брошенный предмет взглядом. Затем, продолжив свой путь, она идет тебе навстречу. Как только вы поравнялись друг с другом, ты замечаешь, что на ее губах как будто играет скрытая улыбка запретного удовольствия. Ты пытаешься затянуть галстук и поднять воротник пальто, поскольку ты без шарфа, а на середине моста, где ты сейчас находишься, стоять холодно, ведь никакой естественной защиты от ветра здесь нет, и вдобавок автомобили, непрестанно проносящиеся внизу, создают что-то вроде искусственного ветра, несколько порывистого, холодного, но ты облокачиваешься на перила и не уходишь, стоя почти на самой высокой точке дугообразного моста, будто это изящный мраморный мостик со статуями львов по обеим сторонам, а не конструкция из бетона, стали и асфальта, а вместо шоссе под тобой спокойная речка, протекающая через тот или иной известный туристический город.
У нее нет души, она умерла, следовательно, ей не больно. Но это не точно, всегда неточно, вечно неточно, и на универсальном, и на индивидуальном уровне, думаешь ты далее, потому что ты не только не можешь положительно и твердо исключить наличие у нее бессмертной души (такова уж природа данного затруднения: если утверждать существование далекой планеты, населенной существами с головами-муравейниками, где каждый муравей всеведущ и бессмертен, а вместо головы у него муравейник поменьше, где каждый муравей всеведущ и бессмертен, и так далее, никто не сможет этого опровергнуть; ну ладно), но даже не вполне уверен, что она мертва; даже сейчас, когда приближается вторая годовщина ее исчезновения (тебе не требуется отмечать эту дату в календаре, она, так сказать, вытатуирована красными чернилами у тебя в мозгу, думаешь ты, или начертана огненными буквами, неугасимыми, светящимися днем и ночью). Теоретически она может взять и объявиться, после невообразимой жизни в каких-нибудь экзотических местах, в джунглях, каких-нибудь жарких джунглях, полных галдящего зверья и липких лиан, все та же, что прежде, только на два года старше, та самая, собственной персоной, она, все та же.
Но ты в это не веришь. Ты не из тех, кто носится с тщетной надеждой по пять, десять, двадцать, двадцать пять лет, ведь ты помнишь, что сказал психиатр: стоит им решиться, как вдруг они приходят в прекрасное расположение духа, приободряются, начинают казаться здоровыми, жизнерадостными, и все считают, что им действительно полегчало, но это не так, они лишь испытывают болезненное и страшное счастье от принятого решения; помнишь ты и одного машиниста, который рассказывал, как в резком свете прожектора вдруг увидел женщину, идущую прямо навстречу поезду с улыбкой на лице, с виду счастливой, последней счастливой улыбкой, а потом ее сбило лобовой частью локомотива, но это была не она, это была документальная передача, которую ты слушал по радио, и слушать ее было невыносимо, но ты не мог оторваться. Это была не она, ведь ее так и не нашли, но ты уверен, что она умерла, и, что хуже всего, не можешь быть до конца уверен, что у нее нет души и, как следствие, она не может попасть в ад, ты в это не веришь, это противоречит всякому здравому смыслу, но тебе не дает покоя невозможность полной и окончательной определенности в этом вопросе. Что толку убеждать себя, что это не свободные, а навязчивые мысли, приходящие вопреки твоей воле, мысли, подобные щипцам палача, впившимся в твои конечности, мысли, которые напирают на тебя, давят, оттесняют в угол, и ты знаешь только, что они хотят загнать тебя в этот угол, а что они там с тобой сделают, понятия не имеешь. Ты вдруг понимаешь, что стоишь, вцепившись, будто когтями, в алюминиевые перила, без перчаток, без варежек, окоченевшими пальцами. Ты прячешь руки в карманы. Хлопая брезентом, трейлер обдает тебя холодным воздухом и исчезает под ногами.
Собака огромная, достает ему до верхней части бедра, шерсть у нее серая, густая, напоминает помесь овцебыка с волком, и, хотя молодой человек в кожаной куртке держит ее на поводке, ты видишь, что второй мужчина, постарше, седобородый, побаивается ее. Молодой говорит негромко, но убежденно; тебе удается расслышать лишь ведь нет ни проблеска жизни… и надо кем-то пожертвовать, чтобы другие… Ты замечаешь, что кусты и деревья возле здания заботливо укутаны мешковиной в преддверии близкой зимы. Разве верующие, думаешь ты, не говорят о земной темнице и освобождении души, а ведь в некотором смысле она теперь свободна, избавлена от всех болезней, всех несчастных случаев, от какого-нибудь рака груди, артрита, псориаза, почечной недостаточности, стенокардии, слепоты, гемиплегии, аппендицита, диабета, опухолей мозга, тромбов, межпозвонковых грыж, мышечной атрофии, переломов бедер, порезов, внутримозговых кровоизлияний – список можно продолжать бесконечно, думаешь ты, можно даже составить полный перечень болезней и травм, подстерегающих человека на протяжении долгой жизни; теперь она, можно сказать, так же неуязвима, как белое летнее облачко, парящее над залитым кровью полем сражения, только она нигде сейчас не парит, думаешь ты, потому что она не на небе, она лежит где-то и ждет, вероятно, в той же или на той же самой земле, которую ты каждый день топчешь, лежит и ждет, ведь если ей суждено попасть в ад, то она все еще не там, она ничего не чувствует, ничего не испытывает, словом, она мертва, и течения времени она не ощущает, но именно поэтому время ожидания – это вообще никакое не время и, даже если бы до Страшного суда и воскресения оставались тысячи лет, это ничего бы не изменило, а тот факт, что ты ходишь по земле, зная, что Судный день и воскресение еще не наступили, ничем ей не поможет, ведь ей об этом неизвестно, а в день воскресения она, очнувшись, сразу окажется в аду, будто никогда никуда и не исчезала, с феноменологической точки зрения переход от последнего мгновения ее земной жизни к пробуждению в аду будет непосредственным, собственно говоря, мертвым безразлично, сколько времени пройдет между моментом смерти и воскресением, десять дней или десять тысяч лет, что весьма наглядно, думаешь ты далее, иллюстрирует всю по меньшей мере смелость религиозных догматов, ведь они упраздняют время как измерение, а потом берут и провозглашают вневременную награду или кару за добрые дела или грехи, совершенные во времени.
Полуоторванная наклейка на окне из армированного стекла снова не отдирается до конца. Намертво приставшая липкая бумага напоминает ворсистые, белые, как бы мохнатые язычки наподобие плесени, и тебя не особенно утешает, что надпись прочитать уже невозможно, а от некогда гладкой поверхности с отпечатанным на ней текстом уцелел единственный клочок снизу (правда, теперь он уменьшился, потому что в этот раз тебе удалось оторвать побольше); эти бездушные городские паразиты, граффити, наклейки, действуют тебе на нервы: не успеешь ликвидировать в одном месте, как они сразу же появляются в другом. Ты сдаешься. Отпираешь дверь. Вид собственной квартиры пробуждает воспоминания. Ты исхудал, по ночам спал часа три-четыре или не спал совсем, тебя трясло, ты рыдал, у тебя едва хватало сил дойти до магазина, дома все заросло грязью, помыться было подвигом, зубная щетка казалась тяжелой, как молоток; ее исчезновение и все более очевидная гибель давили своим совокупным весом, как бы сквозь наждачную бумагу, которая медленно стирала тебя в порошок.
Бульон пока такой обжигающе горячий, что ты пьешь его мелкими глотками, облокотившись на кухонный стол и обхватив чашку, чтобы согреть руки. Ты отодвигаешь пакет с кассетами в сторону. Тебе и самому непонятно, зачем было впервые за долгое время их покупать. Ведь записывать на них больше нечего, думаешь ты; предполагалось, что с их помощью можно будет сберечь воспоминания о тех или иных моментах жизни, но ты не столько живешь, сколько хранишься в холодильнике, а единственный звук внутри холодильника – это гул компрессора, один и тот же гул изо дня в день, не громче, не тише, только гул, гул компрессора, почти жужжание, а еще вечный холод, который на магнитную ленту все равно не запишешь. Забавно, в сущности, думаешь ты, что пищу, чтобы сохранить надолго, приходится сделать несъедобной путем глубокой заморозки. Есть ты не хочешь. Вода кипит.
Две сосиски в кастрюльке лопнули. Ты этому рад. Лопающиеся предметы всегда приносят некое облегчение. Ты поднимаешь голову и смотришь в окно. Снег не идет.
Бенгальские огни. Расставлены изящным кольцом вокруг бутылки шампанского, охлаждавшейся в снегу. Тонкие палочки, купленные ею, горели белым, пульсирующим огнем, потрескивая и рассыпая искры, и ты согревал замерзшие (совсем как сейчас) руки в карманах ее пальто, пока вы любовались фейерверком. Возможно, она плохо ориентировалась в серьезных вещах, нет, в серьезных вещах она не ориентировалась вовсе, могла вдруг забыть, какой теперь год, в какой она живет стране, зато в мелочах у нее был настоящий талант, каждый раз всякие небольшие сюрпризы, подарочки, лучше об этом не думать, думаешь ты, известно же, чем это закончится, но не можешь ничего с собой поделать, покатый склон, ведущий к ровной заснеженной поверхности, был покрыт ледяной коркой, и вы, скользя по нему вниз, крепко держались друг за друга, а потом она, утрамбовав снег вокруг откупоренной бутылки шампанского, воткнула все бенгальские огни и подожгла, кроме тех двух, что были у вас в руках. Два фонтана искр, две сгорающие миниатюрные кометы, молниеносные вспышки света, отраженного в бесчисленных зеркалах, каждый раз с небольшим смещением; под безоблачным, ярко-голубым, пустым и безмятежным небом середины лета узкая, покрытая блестящей зыбью часть моря выглядит чернильной, почти черной, потом, по мере приближения к берегу, вода светлеет (еще одна длинная полоса), потом снова темнеет, но ближе к земле становится зеленоватой, даже с желтым оттенком, и, наконец, прозрачной у самого песчаного берега, где волны, которые несколько минут назад казались сверкающей лентой около мелких островков, набегают теперь, как бы разглаженные, раскатанные ветром с моря, на пляж все новыми тонкими, прозрачными пленками в еще более мелкой, бурлящей и переливающейся ряби, будто в крошечную складку, с краями, изогнутыми дугой, эти водяные пленки лениво наползают на тонкий песок, перемешанный с мелкими, гладко отполированными камешками, гибкими волокнами взморника (которые выше линии прилива окончательно высыхают и чернеют), фрагментами раковин и панцирей моллюсков, омаров, крабов, улиток, морских желудей, всех этих твердых маленьких объектов, которые, чуть только жизнь их покинет, разбивает и перемалывает море, точно так же, как оно непрерывно перемалывает камень в песок, с терпением, которым обладает лишь то, что полностью лишено сознания (и которым не обладает даже управляемое инстинктами животное). Если не считать небольших лодок и вечно беспокойных морских птиц, вся эта картина производит, несмотря на мерцающую рябь и лижущие берег волны, впечатление незыблемого покоя.
Изорвать, надо как следует изорвать и измять газеты, ты это знаешь, в противном случае они лягут слишком плотно и будут плохо гореть или вообще не загорятся, хотя дует ветер, как это почти всегда бывает у моря, челку все время сдувает на глаза, и это тебя раздражает, а чтобы бумагу не унесло, приходится удерживать ее ногой, бросая сверху изрубленный на куски стул из красного дерева и валек, или как его там, а затем остатки рассохшегося шкафа с росписью «русемалинг»[4] и намалеванной датой, превратившегося после знакомства с топором в отличные сухие дрова, уж топором-то ты владеешь хорошо, хоть и не вполне трезв, но и не то чтобы пьян – так, пелена какая-то на душе (как ты это называешь), да и кулаки ты не боишься пускать в ход, тебе не привыкать их мозолить, как гласит твоя ненаписанная биография. Ты еще раз проходишь от площадки для барбекю, вымощенной плиткой, к открытой двери домика.
Лото, моравские звезды, аппараты для измерения артериального давления и пульса, видеокассеты в напоминающих книжные переплеты коробках, кружевные трусы (черные или белые), компьютерные игры для джойстика или светового пистолета, кварцевые часы, радиоприемники на руль велосипеда, горные палатки, надувные тропические острова с пальмами, пиратские флаги, наборы гаечных ключей, часы с кукушкой, солнцезащитные очки, вибраторы (длиной 18 или 25 см), кожаные тапки, бейсболки с бубенчиками, женские бритвы, музыкальные Санта-Клаусы, теннисные ракетки, авиамодели, резиновые лодки и фильмы, фильмы лучше всего, дело вообще здорово пошло, ты помнишь, но фильмы пользовались особенно устойчивым спросом, и на вопрос о роде твоих занятий можно было спокойно отвечать: бизьныс, импорт, – и ты отлично помнишь, что потом сказал (тебе почему-то гораздо проще запоминать свои собственные слова, чем то, что говорят тебе другие): ну хоть какую-то прибыль с этого можно поиметь вон на Востоке например народ впахивает как проклятый не ожидая директорской зарплаты и шелковых подушек под задницу а надо же ты понимаешь хоть че-то зарабатывать.
Все случилось только на третий твой рабочий день, на складе, за двумя коробками с фаллоимитаторами, которые тебе так и не удалось сбыть (они были слишком большие, покупатели возвращали их, требуя отдать деньги); она делала вид, что сопротивляется, и тебе это нравилось, тебе всегда нравились порядочные женщины, думаешь ты и, рассмеявшись, снимаешь со стены фотографию, на которой он в морской форме, одна рука держит штурвал, в другой – бокал шампанского. Рядом с веселым капитаном висит нечто с претензией на художественность; ты бы сказал, какая-то детская мазня, пораженная слоновой болезнью, черные, грубые линии и красные, желтые и голубые пятна краски, местами выступающие за контур, в правом нижнем углу стоит подпись, некоторых облапошить легко, но не тебя, думаешь ты, срываешь картину со стены и разбиваешь стекло об угол соснового стола, заодно с фотографией моряка; рядом висят еще и другие, на которых по крайней мере изображено что-то внятное, но они тебе тоже не нравятся, ты бьешь стекла, трясешь рамы, стучишь по ним, чтобы вытряхнуть осколки, застрявшие по краям, будто прозрачные клыки, которых ты не боишься, не кусаются же они. Так называемую журчащую бутылку[5] и два винных графина ты швыряешь о противоположную стену. Потом без спешки начинаешь рубить последний барный стул. Тряпичные половики и широкие, до блеска начищенные доски пола уже обильно усыпаны щепками, как будто мебель может линять, а это – ее шерсть.