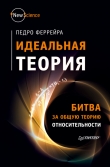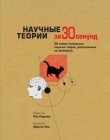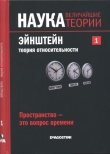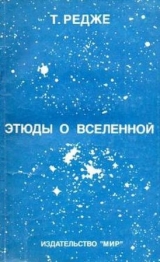
Текст книги "Этюды о Вселенной"
Автор книги: Тулио Редже
Жанры:
Физика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Но где же находится эта отправная точка? Ответ: нигде и в то же время повсюду; указать ее местонахождение невозможно – это противоречило бы космологическому принципу. Еще одно сравнение, возможно, поможет нам понять это утверждение.
Согласно общей теории относительности Эйнштейна, присутствие вещества в пространстве приводит к искривлению последнего. При наличии достаточного количества вещества (мы вернемся к этому позже) можно построить модель искривленного пространства, напоминающего искривленную поверхность Земли. Передвигаясь на Земле в одном направлении, мы в конце концов, пройдя 40000 км, должны вернуться в исходную точку. в искривленной Вселенной случится то же самое, но спустя 40 млрд. световых лет; кроме того, «роза ветров» не ограничивается четырьмя частями света, а включает направления также вверх – вниз, или, лучше, зенит – надир. Итак, Вселенная напоминает надувной шарик, на котором нарисованы галактики и, как на глобусе, нанесены параллели и меридианы для определения местоположения точек; но в случае Вселенной для определения положения галактик необходимо использовать не два, а три измерения. а можно ли взглянуть внутрь надувного шарика? Для этого пришлось бы выйти в четвертое измерение, чего ни один физик не умеет делать; и хотя, вообще говоря, можно использовать и шесть измерений, все мы в общем сходимся на том, что речь здесь идет всего лишь о некой игре слов, а всю физику вполне можно осознать, удобно разместившись или, лучше сказать, будучи нарисованными на поверхности такого воздушного шарика.
Расширение Вселенной напоминает процесс надувания этого шарика: взаимное расположение различных объектов на его поверхности не меняется; на шарике нет выделенных точек; площадь, на которой были выстроены солдаты, теперь представляет всю Вселенную; площадь эта весьма странная: выходим через калитку на север, а, возвращаясь, обнаруживаем, что появляемся на площади с южной стороны, и т.д.
Недостающая масса
Галактики притягиваются друг к другу согласно закону Ньютона, который, если его видоизменить соответствующим образом, будет справедлив также и в теории Эйнштейна и по которому они должны все время почти незаметно замедляться. Измерение этого замедления позволило бы узнать, сколько вещества присутствует во Вселенной. к сожалению, очень трудно выполнить такое измерение, зависящее от наблюдений самых далеких и, следовательно, самых «молодых» галактик (если учесть то длительное время, которое требуется свету, чтобы до нас дойти, то получится, что галактика, удаленная от нас на 5 млрд. световых лет, будет восприниматься такой, какой она была 5 млрд. лет тому назад, т.е. в момент излучения света). Движение молодых галактик должно казаться не столь замедленным, что должно привести к незначительному отклонению от закона Хаббла. Но оценить расстояние до таких галактик очень трудно, в частности потому, что в течение миллиардов лет сами они могут существенно эволюционировать.
Другой способ оценить полное количество вещества во Вселенной состоит в простом подсчете всех галактик вокруг нас.
Поступая таким образом, мы получим вещества меньше (примерно в десять раз), чем необходимо, чтобы, согласно Эйнштейну, замкнуть «воздушный шарик» Вселенной. Но это не такая уж беда. Существуют модели открытой Вселенной, математическая трактовка которых столь же проста (или сложна, в зависимости от точки зрения) и которые объясняют нехватку вещества. с другой стороны, может оказаться, что во Вселенной имеется не только вещество в виде галактик, но и невидимое вещество (например, нейтринный газ, о котором мы будем говорить ниже) в количестве, необходимом, чтобы Вселенная была замкнута; полемика по этому поводу до сих пор не затихает.
Хроника первых миллионов лет
Чтобы получить ответ на этот вопрос, были проведены исследования начальной стадии эволюции Вселенной, наступившей непосредственно за «большим взрывом». Невозможно начать рассказ о «сотворении мира» непосредственно с момента «нуль», т.е. начиная с сакраментального изречения «Да будет свет!». Этот момент есть всего лишь математический образ, присутствующий в уравнениях Эйнштейна; никто не может гарантировать, что законы физики остаются справедливыми для такого состояния вещества, при котором весь космос оказывается сжатым до размеров спичечной головки. Нам придется удовлетвориться тем, что отправной точкой мы будем считать десятитысячную долю секунды после самого начала. из проделанных вычислений следует, что радиус кривизны Вселенной в этот момент равнялся примерно одной тридцатой части светового года, т.е. 300 млрд. км, что в тысячу раз превышает размеры Солнечной системы. Хотя это и колоссальная величина, но она ничтожна по сравнению с размерами современной Вселенной. Таким образом, вещество находилось в крайне сжатом состоянии с плотностью в тысячи миллиардов раз больше, чем плотность воды, и при чрезвычайно высокой температуре порядка одного триллиона градусов. Происходящее в космосе можно было бы сравнить, например, с быстрым расширением воздуха, нагретого при сжатии его в велосипедном насосе. Чем же был заполнен космос в эти мгновения?
Напомним, что температура газа представляет собой не что иное, как меру средней энергии составляющих его частиц. Если эти частицы попытаться нагреть, до триллиона градусов, то они будут сталкиваться друг с другом с такой силой, что атомы разобьются на ядра и электроны; в свою очередь ядра разобьются на нейтроны и протоны, из которых они состоят. Более того, энергия разлетающихся частей будет столь высока, что сможет материализоваться согласно формуле E = mc2 и привести к появлению вещества – антивещества (пар мюонов и электрон-позитронных пар).
Космические соударения сначала происходят в неистовом ритме, который со временем затихает; в конце концов столкновения становятся совсем редкими. Расширяясь, Вселенная охлаждается со скоростью, обратно пропорциональной ее радиусу. в свою очередь радиус Вселенной увеличивается как корень квадратный из прошедшего времени; так, например, при увеличении времени от одной до четырех секунд радиус Вселенной увеличится в два раза, в то время как температура уменьшится вдвое. По прошествии одной секунды после начала пропадают мюоны и начинается образование более стабильных ядер (главным образом ядер гелия, или α-частиц, состоящих из двух протонов и двух нейтронов). в течение последующих трех минут нуклеосинтез по существу заканчивается.
Спустя четверть часа после начала (т.е. примерно через 1000 секунд) радиус Вселенной достигает 100 световых лет, а температура равна «всего лишь» 300 млн. градусов, что сравнимо с температурой, наблюдаемой при термоядерных взрывах. с этого момента наблюдается более медленное охлаждение Вселенной наряду с ее расширением, и пройдет еще миллион лет, прежде чем произойдет новый качественный скачок в картине развития Вселенной. Температура при этом упадет уже до четырех тысяч градусов, и свободные электроны начнут рекомбинировать с ядрами, образуя атомы, которые, наконец, будут способны противостоять уменьшившемуся уровню тепла.
Реликтовое излучение
Что бы мы увидели, если бы могли окинуть взглядом пространство в ту далекую первоначальную эпоху?
Яркость равномерного свечения неба всего в десять раз меньше, чем у поверхности Солнца (что очень близко к яркости свечения солнечных пятен, в свою очередь сравнимой с яркостью дуговой лампы). Жара, как в аду, поддерживает вещество в возбужденном состоянии, не давая ему конденсироваться. После образования атомов вещество становится прозрачным для света, и свет блуждает в течение миллиардов лет по всей Вселенной вплоть до наших дней. Почему же мы его не видим? Ответ состоит в том, что его все-таки удалось увидеть, хотя и не в виде «света» в обычном смысле. Расширение Вселенной приводит к смещению цветов спектра в сторону красного (при удалении источника увеличивается длина волны света). Эффект становится очень заметным, если он накапливается в течение всей предшествующей жизни космоса; излучение становится микроволновым, невидимым для глаза; его, однако, можно зарегистрировать с помощью радиотелескопов, что и сделали Пензиас и Уилсон в 1965 г. (в лабораториях фирмы «Белл»). Результаты этих исключительно важных наблюдений дают наиболее веское подтверждение гипотезы «большого взрыва». Реликтовое излучение (именно так его называют) представляет собой самое древнее из имеющихся свидетельств нашей эволюции; оно было испущено, когда прошло меньше одной тысячной доли всей жизни Вселенной. в те времена динозавры еще маячили как призраки далекого будущего, египетские пирамиды могли бы восприниматься как начало сегодняшнего дня, и все это представляло незначительные события в жизни незначительной планеты, принадлежащей второстепенной галактике.
Роль дейтерия
Существуют ли причины, кроме простого любопытства, по которым следует определять различные численные характеристики «сверхварева» вещества, появившегося вслед за «большим взрывом»? Да, и вот одна из них.
Из вычислений следует, что оставшийся «пепел» должен был состоять примерно на три четверти из водорода; остальная часть – это гелий и очень малые примеси более тяжелых элементов. Не случайно, что такой же начальный состав галактического вещества получается и из данных о эволюции звезд. Кроме того, в этом месиве должен был присутствовать тяжелый изотоп водорода – дейтерий, относительно легкий по сравнению с другими ядрами. По всей видимости, дейтерий не может создаваться в горниле звездных печей, где он бы сразу превращался в гелий или так или иначе разрушался. Поэтому встречающийся в настоящее время дейтерий (даже в стенах домов) должен был сохраниться еще со времени «большого взрыва». Если Вселенная действительно была тогда очень плотной (настолько, чтобы быть замкнутой), то, как показывают расчеты, частые столкновения дейтонов (ядер дейтерия) с другими ядрами чрезвычайно быстро привели бы к их разрушению.
Таким образом, обнаружение значительного количества дейтерия в нынешней Вселенной указывало бы на малую плотность вещества в ней, т.е. на то, что Вселенная открыта. Наблюдения нашей Галактики, судя по всему, подтверждают существование межзвездных облаков, состоящих из дейтерия, что говорит в пользу модели открытой Вселенной, по крайней мере временно, поскольку не исключена возможность того, что будет обнаружен остроумный способ образования дейтерия в звездах, противоречащий нашим рассуждениям.
Образование галактик
Каковы же размеры современной Вселенной и когда появились галактики?
Образование галактик началось только спустя миллиард лет после «большого взрыва». к этому моменту вещество уже успело охладиться до идиллических температур (всего в сотню градусов) и стали появляться стабильные флуктуации плотности среди облаков газа, равномерно заполнявших космос. Локальное увеличение плотности вещества оказывается стабильным, если плотность достаточно велика, так как в этом случае создается локальное гравитационное поле, способствующее сохранению вещества в сжатом состоянии.
Продолжая сжиматься и теряя при этом энергию на излучение, уплотнившееся вещество в результате своей эволюции превращалось в современные галактики. Хотя в общих чертах нам ясно, что тогда происходило, но механизм образования галактик все же понят не до конца и противоречит аккуратным подсчетам наблюдаемых масс галактик и их скоплений. Так что работы осталось много. Проникая с помощью телескопов все дальше в глубь космоса, мы обнаруживаем, что самые далекие объекты перемещаются со скоростями, вплотную приближающимися к скорости света, и поэтому они перестают быть видимыми. Где-то вдалеке существует горизонт, и свет от объектов, находящихся за ним, до нас еще не дошел; находится этот горизонт на расстоянии примерно 12 млрд. световых лет. Насколько можно судить, космос заполнен множеством галактик (десятками миллиардов), объединенных в гигантские скопления, содержащие сотни и тысячи галактик.
Замкнута или открыта Вселенная?
Если Вселенная замкнута, то она должна достичь предельных размеров, после чего расширение сменится сжатием, и примерно через 100 млрд. лет, пройдя в обратном порядке все этапы своего пути, Вселенная снова сожмется в точку.
Если же Вселенная открыта, то она будет расширяться до тех пор, пока галактики не уйдут за пределы видимости друг друга. в конце концов мы дойдем до абсолютно темных небес.
Если бы вся эта колоссальная космическая машина имела единственной целью сотворение Земли, можно было бы удивляться напрасной трате времени или упущенным возможностям, во всяком случае, если, как мы подозреваем, наша планета – единственная, приютившая разумную жизнь.
В действительности Вселенная потратила не слишком много времени на создание жизни: 20 млрд. лет хоть и кажутся целой вечностью, на самом деле представляют собой лишь минимум, необходимый для того, чтобы где-то в недрах звезд начался синтез элементов, нужных для поддержания живых организмов. и если разобраться, то около трех миллиардов лет назад уже существовали водоросли и простейшие.
Должны ли мы доверять теории «большого взрыва»? в общем я бы дал положительный ответ на этот вопрос; или, что еще лучше, можно считать ее захватывающей рабочей гипотезой, которая приподнимает завесу над нашим далеким прошлым вплоть до самых истоков.
9. Нейтрино и космология
Более подробное описание Вселенной на первых этапах ее развития следует предварить некоторыми сведениями о главных (или кажущихся таковыми) составляющих космического вещества. к этой захватывающей теме мы еще вернемся в дальнейшем.
Согласно представлению большинства людей, представлению, давшему жизнь в 30-х годах многочисленным рисованным картинкам и карикатурам, атом похож на маленькую солнечную систему, в которой роль Солнца играет центральное ядро, вокруг которого вращаются по своим орбитам электроны. Число электронов меняется от атома к атому и определяет химический элемент; водород имеет всего один электрон, в то время как в уране их уже 92. Физикам удалось исследовать также и ядро, и выяснилось, что оно состоит из нуклонов двух сортов – протонов и нейтронов. Речь идет о почти одинаковых частицах, отличающихся друг от друга только тем, что электрический заряд протона положителен, в то время как нейтрон заряда не имеет.
Нейтрино
Кроме того (и здесь мы подошли к основному предмету нашего обсуждения), нейтрон, не входящий в состав ядра, распадается меньше чем через двадцать минут на протон, электрон и новую частицу, нейтрино, которую можно грубо представить как «нейтральный электрон», т.е. электрон без электрического заряда.
Нейтрино принесло много хлопот физикам. Оно практически не взаимодействует с веществом и может пройти сквозь бетонную стену толщиной в несколько световых лет, не встретив при этом никаких препятствий. Десятки лет его существование связывали только с исчезновением энергии при распаде нейтрона. Ферми в свое время пришел к правильному выводу, что эта энергия должна быть унесена невидимой частицей, «легким нейтроном», нареченным нейтрино.
Только в послевоенное время создание больших атомных реакторов и позже мощных ускорителей частиц в ЦЕРНе (Европейский центр ядерных исследований в Женеве) и Брукхейвене (США) позволило непосредственно заметить нейтрино. на этих мощных машинах производятся пионы очень высоких энергий, которые рождаются при столкновениях ускоренных протонов с мишенью (обычно состоящей из других протонов или из ядер). Пионы – это частицы с чрезвычайно малым временем жизни, и, родившись, они тут же распадаются, производя на свет, кроме всего прочего, и нейтрино.
Появившиеся нейтрино имеют очень высокую энергию, а с увеличением энергии вероятность взаимодействия нейтрино с веществом также увеличивается. При высоких энергиях нейтрино удается зарегистрировать с помощью детекторов некосмических размеров. в ядерных реакторах же рождается огромное количество нейтрино с низкими энергиями; ничтожная часть их может поглотиться в баке, содержащем несколько десятков тонн жидкости, похожей на глицерин. Нейтрино, попадающие в этот бак, могут вызвать характерные реакции, чем и обнаруживают себя.
Имеют ли нейтрино массу?
В термоядерных реакциях, происходящих в недрах Солнца, также рождаются нейтрино. Попытки экспериментаторов зарегистрировать их по характерным реакциям не привели к успеху: число обнаруженных нейтрино оказалось намного ниже, чем ожидалось, что подорвало веру в правильность современных представлений о процессах, идущих в недрах Солнца. Для разрешения возникших сомнений было предложено провести другие, весьма остроумные (и дорогостоящие) эксперименты с использованием экзотических минералов, таких, как, например, лорандит из Черногории, или редких металлов типа галлия в больших количествах. Поживем – увидим.
Согласно Понтекорво, нехватка солнечных нейтрино объясняется тем, что на пути от Солнца к Земле часть их успевает превратиться в нейтрино другого сорта, а эти другие нейтрино зарегистрировать в обычном эксперименте невозможно. Прямое отношение к этой гипотезе имеет вопрос о массе нейтрино. Имея практически массу, равную нулю, нейтрино перемещается со скоростью света. в действительности нейтрино могло бы иметь массу порядка одной тридцатитысячной массы электрона, что не противоречило бы результатам современных экспериментов. Измерение массы нейтрино, выполненное советскими учеными, дало величину как раз такого порядка. Этот результат ждет своего подтверждения. Другие данные, собранные вместе, также, по-видимому, свидетельствуют в пользу гипотезы массивного нейтрино, хотя каждый отдельный результат сам по себе не выглядит достаточно убедительно.
К этому моменту у читателя мог возникнуть вполне законный вопрос: какова же причина столь большого интереса к такой неуловимой частице и ее исчезающе малой массе?
Причина эта основана прежде всего на соображениях симметрии, по которым нейтрино отводится вполне определенная и важная роль при классификации элементарных частиц. Но к этому вопросу мы еще вернемся.
Реликтовые нейтрино
Мне самому кажется столь же важной и, возможно, понятной для непосвященных другая причина повышенного интереса к массе нейтрино. Согласно теории, в первые минуты жизни Вселенной появилось огромное количество нейтрино, которые до сих пор блуждают в космических просторах и роль и происхождение которых делают их похожими на реликтовое излучение, обнаруженное Пензиасом и Уилсоном.
Не существует разумных доводов в пользу возможности увидеть когда-нибудь эти нейтрино, во всяком случае если это не будет связано с действительно новым и революционным открытием. Если бы нейтрино имели массу, то, как показали вычисления, их общая масса могла бы быть в 30 раз больше, чем вся масса обычного вещества, рассеянного в космосе. Нейтрино могли бы восполнить «недостающую массу», нужную для того, чтобы Вселенная была замкнута, на чем настаивают одни и против чего выступают другие. Согласно этой гипотезе, мы купаемся в «нейтринном море», вовсе не сознавая этого, если не считать наблюдений за самыми далекими галактиками.
Вообще говоря, вся эволюция вещества в нашей Вселенной в конечном счете подвержена влиянию этого нейтринного моря. Возможно, наши потомки научатся регистрировать реликтовые нейтрино и сумеют заглянуть непосредственно в космос времен нескольких минут после «большого взрыва», когда наступал критический момент для синтеза элементов. Таким образом, речь идет не об идее, представляющей лишь академический интерес, а о фундаментальных вопросах, непосредственно связанных с ключевыми направлениями современной космологии, с проблемой наших истоков.
10. Космический корабль будущего
Американская автоматическая станция (зонд), облетевшая Юпитер, послала на Землю изумительные фотографии самой планеты и ее двух спутников. Тот же зонд с помощью поля тяготения Юпитера был далее направлен в сторону Сатурна и достиг его в точно намеченное время после путешествия, длительность которого поражает воображение. об этом сейчас мало кто вспоминает, и, если не считать ссылок вскользь в журнальных статьях, видно, что это событие интересует очень немногих. Похоже, что двери в грандиозный космический цирк, приковавший всех к экранам телевизоров во время первой посадки на Луну, на этот раз оказались закрытыми. Однако действительно интересная страница в исследовании космоса открывается только теперь. Пройдут десятки лет, прежде чем человек отважится – если вообще ему это удастся – отправиться в сторону других планет. Автоматические же станции уже достигают пределов Солнечной системы, и мы наконец начинаем узнавать кое-что о доселе практически незнакомых планетах – достаточно вспомнить пример Венеры.
Максимальное расстояние, достигнутое зондом (несколько миллиардов километров), приблизительно в 10000 раз превышает расстояние до Луны (400000 км), куда смог добраться сам человек. Когда будет закончено исследование Солнечной системы, первой на очереди окажется ближайшая к нам звезда, Альфа Центавра, удаленная на 4,3 светового года, что несколько больше чем 40000 млрд. км. Любопытно, что это расстояние в свою очередь в 10000 раз превышает радиус Солнечной системы.
Сухие цифры на бумаге не могут создать представление об ужасающих размерах пустоты, отделяющей нас от Альфы. Самолет мог бы преодолеть такое расстояние за 4 млн. лет, а космическому кораблю с двигателем на химическом топливе потребовалось бы не менее 40000 лет; при этом надо учесть, что необходимое для путешествия количество горючего намного превосходит возможности современной мировой экономики.
Что же делать? Несмотря на почти безнадежный характер предприятия, уже рассмотрены различные, варианты межзвездных путешествий, причем все они основаны на разумных предположениях о будущих возможностях науки и техники. Имеет смысл проанализировать некоторые из этих проектов, чтобы составить представление об их грандиозности.
Проект «Орион»
Первый серьезный проект, в настоящее время отвергнутый, имел кодовое название «Орион». на первом этапе предполагалось создание космического корабля на ядерном топливе для полетов внутри Солнечной системы (дадим ему название «Орион-1»). Он выглядел бы как большой небоскреб, покоящийся на прочной плите. Под плитой намечалось взорвать некоторое количество маленьких атомных бомб (кажется, около двухсот); при этом ударная волна от взрыва должна была вывести всю конструкцию на орбиту, оставив за собой огромное радиоактивное облако.
Расчеты позволяли надеяться на возможность запуска свыше 100000 тонн полезного веса при затратах, значительно меньших стоимости самого космического корабля.
После завоевания Солнечной системы с помощью транспортных кораблей такого типа предполагалось собрать «Орион-2» прямо в межпланетном пространстве, используя тот же принцип, что и раньше, но уже с королевским размахом. Вместо обычных атомных предполагалось использовать сотни тысяч водородных бомб, для того чтобы подтолкнуть корабль в сторону Альфы со скоростью в одну сотую скорости света (3000 км/с); даже в таком случае путешествие должно занять по крайней мере 400...500 лет. из тех, кто отправился бы в путь с Земли, никто бы не долетел живым до Альфы; таким образом, речь шла об участии многих поколений в установлении «моста» между звездами. Можно, однако, с уверенностью утверждать, что осуществление проекта «Орион-1» вызвало бы ожесточенное и, пожалуй, оправданное, сопротивление не только экологов. с другой стороны, я бы с удовольствием воспринял запуск «Ориона-2»: огромные количества накопленных в арсеналах адских машин были бы разрушены на границах Солнечной системы, далеко от нашего собственного дома.
Другие варианты запуска космического корабля
Вместо закатившегося «Ориона» возникли новые проекты. в одном из них предлагается создать корабль в виде сферического бака, содержащего огромное количество замороженного дейтерия (тяжелого водорода), причем дейтерий должен быть извлечен, как с изрядной долей оптимизма считают авторы проекта, из атмосферы Юпитера. Внутри большого термоядерного реактора дейтерий будет превращаться в гелий, за счет чего корабль получит нужный импульс. Хотя скорость перемещения этого корабля должна быть выше, чем скорость «Ориона-2», в намечаемом путешествии придется принять участие также не одному поколению астронавтов. Проблема, однако, в том, что никто еще не сумел построить такой реактор; и хотя многие считают, что успех в этом деле придет через десяток лет, все равно все мероприятие кажется безнадежным.
Рожденные исключительно богатым воображением следующие идеи, возможно, как раз и приведут к созданию космического корабля будущего. Все межзвездное пространство заполнено водородом, и поэтому кое-кто высказывает мнение, что именно этот водород стоит использовать в качестве горючего, вместо того чтобы брать его с собой из дому. Следовательно, если бы удалось сообщить кораблю достаточно высокую начальную скорость, то, находясь в пути, он мог бы собирать необходимое количество газа для непрерывного пополнения запасов горючего и достигнуть, таким образом, скорости, близкой к скорости света. Путешествие могло бы быть выполнено всего одним поколением астронавтов. Разворот корабля был бы осуществлен с помощью галактического магнитного поля, как остроумно предлагается в одном из недавних проектов. Другая идея, которую стоило бы объединить с предыдущей, предусматривает создание на астероидах мощнейших лазеров, которые должны превращать солнечную энергию в сверхинтенсивные узко направленные лучи света. Свет «дул» бы в громадный, диаметром в сотни километров, «парус» корабля, сделанный из тончайшего алюминированного майлара (лавсана). Давление излучения обеспечило бы необходимый импульс при отправлении в сторону необъятного межзвездного пространства. в этом случае мы также имеем дело с разумным подходом к возможностям современной развивающейся технологии, и речь вовсе не идет о реализации проекта в обозримом будущем.
Что увидели бы астронавты?
Итак, вообразим, что честолюбие, стремление к славе, некоторое отсутствие здравого смысла или, более скромно, стремление к неизведанному заставили кого-то отважиться на рискованное и небывалое путешествие, и вот оно началось. Что же увидели бы астронавты? При увеличении скорости космического корабля релятивистские эффекты все больше давали бы себя знать, становясь все значительнее по мере приближения к роковому пределу 300000 км/с, к скорости света. Такого рода эффекты связаны между собой, и рассматривать их надо как целое.
На больших расстояниях от Солнечной системы Солнце будет выглядеть как очень яркая звезда, интенсивность свечения которой быстро падает с увеличением расстояния. При этом два явления начнут проявляться в виде прекрасного зрелища. о первом из них, «эффекте Доплера», можно составить представление, прислушиваясь к гудку проходящего поезда. Звук гудка становится выше по мере приближения поезда к нам (увеличивается частота) и ниже – при удалении его (частота падает). Что касается света, то этот эффект воспринимается как смещение цвета в сторону синего, когда источник приближается, и к красному, когда удаляется. Свет от Солнца и от ближайших звезд будет постепенно приобретать все более красный цвет; при достижении определенной скорости перемещения корабля весь свет от звезд уже перейдет в область инфракрасного излучения, становясь невидимым. Напротив, свет Альфы, как и всех звезд «по курсу» космического корабля, будет смещаться в сторону синего цвета, чтобы в конце концов тоже исчезнуть, но в ультрафиолетовой области. Останется полоса разноцветных промежуточных звезд, для которых эффект Доплера мал и непостоянен. Эта полоса будет непрерывно перемещаться вперед из-за второго явления, аберрации света. Представим себе, что мы попали в сильный ливень и побежали под укрытие. Капли дождя при этом приобретают относительно нас горизонтальную составляющую скорости, из-за чего у нас создается впечатление, что источник дождя находится впереди, а не вверху над нами. По этой же причине при движении с релятивистской скоростью астронавтам покажется, что свет звезд приходит от источников, смещенных вперед относительно корабля. Звезды не будут видны с кормы: их изображения переместятся к носу корабля. Описанный эффект вполне реален; свыше столетия его наблюдают астрономы при исследовании движения Земли вокруг Солнца. При движении со скоростью, равной 90% скорости света, что представляет собой предел, к которому, возможно, позволит приблизиться техника будущего, звездная панорама станет неузнаваемой, преврати вшись в маленькое светящееся гало по курсу корабля с сильными следами помех, вызванных межзвездным газом на пути света.
Течение времени
Относительность проявится поразительным образом при вычислении времени полета и пройденного расстояния. Такие расчеты выполняются по-разному для жителей Земли и для астронавтов. Для простоты примем расстояние до Альфы в точности равным четырем световым годам, а скорость космического корабля постоянной и равной 240000 км/с, т.е. четырем пятым скорости света. Людям на Земле покажется, что путешествие туда и обратно займет всего десять лет, значит, астронавты прибудут на Альфу через пять лет. Оттуда они пошлют сообщение, которое дойдет до Земли через четыре года, т.е. спустя девять лет после начала путешествия и как раз за год до прибытия астронавтов обратно на Землю.
Чтобы понять, как воспринимают путешествие астронавты, надо учесть замедление времени, приводящее к нарушению синхронности часов на Земле и на космическом корабле, и уменьшение расстояний; оба явления чисто релятивистские. Теория (да и лабораторные эксперименты) предсказывают, что с точки зрения астронавтов весь путь будет короче на две пятых, т.е. будет равен 2,4 светового года, и, следовательно, время в пути уменьшится до шести лет.
Таким образом, время путешествия для тех, кто в пути, отличается от времени, измеряемого оставшимися на Земле. Речь идет не о какой-то фантазии в духе Азимова; уже в 1971 г. описанный эффект получил прямое подтверждение на Земле в опытах, в которых время, показанное часами на борту самолета, сравнивалось с показаниями часов, оставшихся на Земле в Американской морской обсерватории.
Проследим еще раз более внимательно, как путешествуют часы в нашем воображаемом случае. Пока корабль удаляется со скоростью в четыре пятых скорости света, два сигнала, посланные с Земли с интервалом в одну секунду, настигнут корабль, разделенные уже тремя секундами; по соображениям симметрии верно и обратное. Следовательно, три года потребуется космонавтам, чтобы принять сигналы, посылаемые с Земли в течение девяти лет, а при возвращении на Землю соотношение в точности обратное, и три года сожмутся в один год. Но давайте посмотрим на вещи с точки зрения астронавтов на космическом корабле. Предположим, что Земля посылает сигнал один раз в год. Сообщение, посланное в конце первого года, придет на корабль тогда, когда на нем уже прошло три, т.е. по прибытии на Альфу. Оставшиеся девять земных лет сожмутся в три года обратного пути корабля, так что всего окажется шесть, как мы и говорили.