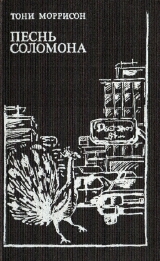
Текст книги "Песнь Соломона"
Автор книги: Тони Моррисон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
ГЛАВА 2
Только Магдалина, именуемая Линой, и Первое Послание к Коринфянам радовались от души, когда большой «паккард» съезжал, плавно и бесшумно, с подъездной дороги. Из всех, сидевших в машине, только они блаженно замирали, прикасаясь к плюшевым сиденьям. Каждая устраивалась у окна, и ничто не мешало им видеть несущийся навстречу летний день. И каждая была уже достаточно взрослой и в то же время достаточно юной, чтобы поверить, будто они и впрямь едут на королевской колеснице. Устроившись на заднем сиденье, так что Мейкон и Руфь не могли следить за каждым их движением, девочки сбрасывали туфли, спускали чулки и во все глаза глядели па прохожих.
Эти воскресные поездки превратились в ритуал, для Мейкона приятный, а главным образом – важный. Они помогали ему убедиться, что он действительно достиг успеха. Руфь не испытывала столь горделивых чувств, тем не менее и ей хотелось показать людям свое семейство. Малыш же просто маялся. Зажатый между родителями на переднем сиденье, он видел только крылатую женщину на радиаторе. Сидеть во время поездки у матери на руках ему не разрешалось-не потому, что мать не позволяла, а потому, что возражал отец. Только став коленями на обтянутое сизым плюшем сиденье и глядя в заднее оконце, он мог увидеть что-нибудь, кроме рук и ног своих родителей, «паккарда» и накренившейся навстречу ветру серебряной крылатой женщины на радиаторе. Но он скверно чувствовал себя, когда ехал задом наперед. Словно летишь вслепую и не знаешь, что будет впереди, а знаешь только, что осталось позади, и от этого становится не по себе. Ему не хотелось видеть деревья, мимо которых он уже проехал, видеть, как дети и дома уплывают в оставшееся позади пространство.
«Паккард» Мейкона Помера медленно катил по Недокторской, пересекал плебейскую часть города (известную впоследствии под названием Донорский пункт, ибо там нередки были кровопролития) и, объехав стороной центр, направлялся к кварталам предместья, где жили богатые белые. Кое-кто из чернокожих, увидев машину, с благодушной завистью вздыхал – красота, высокий класс. В 1936 году среди них было мало таких зажиточных, как Мейкон Помер. Другие провожали взглядом катившую мимо семью, чуть-чуть завидуя, но прежде всего забавляясь, потому что этот широченный зеленый «паккард» противоречил всем их представлениям о том, каким положено быть автомобилю. Мейкон никогда не делал больше двадцати миль в час, никогда не газовал и никогда не вел машину один-два квартала на первой скорости, дабы всласть покрасоваться перед пешеходами. Ни разу у него не лопнула шина, ни разу не вышел в дороге бензин, после чего пришлось бы обращаться к дюжине сияющих оборванных мальчишек с просьбой подтолкнуть машину в гору или подвести к обочине тротуара. Никогда он не привязывал отваливающуюся дверцу веревкой, и ребятишки никогда не вскакивали на подножку его машины, чтобы прокатиться. Сидя за рулем, он никого не окликал, и никто не окликал его. Ему ни разу не случилось вдруг затормозить и дать задний ход, чтобы поболтать и посмеяться с приятелем. В открытых окнах машины никогда не виднелись пивные бутылки и вафельные стаканчики с мороженым. Никогда не выставляли к окну помочиться мальчугашку. И дождь не капал на крышу машины, если Мейкону удавалось этого избегнуть, а к «Магазину Санни» он ходил пешком – «паккардом» же пользовался только для парадных выездов. Мало того, люди даже сомневались, сидела ли когда-нибудь хоть одна женщина на заднем сиденье этой машины, а ведь ходили слухи, что Мейкон посещает «нехорошие дома» и что ему случается порой переспать со сговорчивой или одинокой жилицей. А потому сверкающие глаза Магдалины, называемой Линой, и Первого Послания к Коринфянам были единственным проблеском подлинной жизни в унылом и мрачном «паккарде». Вот люди и прозвали его катафалком Мейкона Помера.
Первое Послание к Коринфянам запустила пальцы себе в волосы и провела ими по голове. Волосы у нее были длинные и пушистые, цвета сырого песка.
– Мы куда-то едем или просто катаемся? – Она внимательно разглядывала из окна прохожих.
– Осторожней, Мейкон. Каждый раз на этом месте ты неправильно поворачиваешь, – раздался справа тихий голос Руфи.
– Может быть, ты поведешь машину? – сказал Мейкон.
– Ты знаешь, я не умею водить.
– Тогда позволь мне самому этим заняться.
– Пожалуйста, только пеняй на себя, если… Мейкон мягко свернул на левую развилку шоссе, ведущую через центр в одно из фешенебельных предместий.
– Папа! А куда мы едем?
– В Онор #233;,-ответил Мейкон.
Магдалина, именуемая Линой, еще ниже опустила чулки.
– Это на озере? А что там? Там же никого и ничего нет.
– Там загородные участки на берегу. Твои отец хочет взглянуть на них, Лина. – Руфь взяла себя в руки и опять вступила в разговор.
– А зачем? Там только белые живут, – сказала Липа.
– Там не всюду белые живут. Есть и пустые участки. Незастроенные. На той стороне, если проехать немного подальше. Там можно разбить участки для цветных. Построить летние домики. Ты понимаешь, что я имею в виду? – Мейкон взглянул в зеркальце на лицо дочери.
– Но кто там будет жить? Цветные ведь не могут иметь два дома сразу, – возразила Лина.
– Преподобный Коулс может, и доктор Синглтон, – заметила Коринфянам.
– И еще этот адвокат… забыла, как его фамилия? – Руфь поглядела на Коринфянам, но та молчала.
– А еще, наверное, Мэри. – Лина засмеялась. Коринфянам устремила на сестру холодный взгляд.
– Папа не станет продавать участок официантке. Папа, неужели ты позволишь нам жить рядом с официанткой?
– Но если ей принадлежит этот участок, Коринфянам, – сказала Руфь.
– Мне все равно, что ей принадлежит. Кто она такая – вот что важно. Да, папа? – В поисках поддержки Коринфянам повернулась к отцу.
– Ты слишком быстро едешь, Мейкон. – Руфь упиралась носком туфли в пол.
– Если ты не прекратишь учить меня водить машину, то отправишься домой пешком. Я не шучу.
Магдалина, именуемая Линой, наклонилась вперед и положила на плечо матери руку. Руфь молчала. Мальчуган брыкнул ногой.
– Прекрати! – сказал Мейкон.
– Мне нужно в туалет, – ответил сын. Коринфянам схватилась за голову:
– О господи!
– Но ты же был там, перед тем как мы вышли, – сказала Руфь.
– Мне нужно! – В его голосе послышались плаксивые нотки.
– Ты уверен? – спросила мать. Он посмотрел на нее. – Пожалуй, придется остановиться, – сказала, ни к кому не обращаясь, Руфь. Она мельком глянула в окно – городские улицы остались позади.
Мейкон ехал, не снижая скорость.
– А себе мы тоже купим участок на берегу или ты просто продаешь землю?
– Я ничего не продаю. Собираюсь купить и сдавать ее в аренду, – ответил дочери Мейкон.
– Ну, а мы сами…
– Мне нужно выйти, – снова перебил малыш.
– …тоже будем там жить?
– Возможно.
– Одни? Или кто-то еще? – с любопытством спрашивала Коринфянам.
– Не могу сказать. Но через несколько лет… скажем, лет через пять, а может, десять, многие цветные разбогатеют так, что смогут покупать себе там участки. Многие, попомни мое слово.
Магдалина, именуемая Линой, глубоко вздохнула.
– Вон там можно было бы остановиться, папа. А то он напрудит на сиденье.
Мейкон посмотрел на нее в зеркальце и замедлил ход.
– Кто с ним выйдет? – Руфь нерешительно взялась за ручку двери.
– Только не ты, – сказал ей Мейкон.
Руфь подняла глаза на мужа. Хотела что-то сказать, но промолчала.
– И не я, – это заявила Коринфянам. – У меня туфли на высоких каблуках.
– Пошли, – вздохнула Лина. Они вышли из машины, маленький мальчик и взрослая сестра, и скрылись среди деревьев, которые подступали в этом месте к самому шоссе.
– Так ты в самом деле думаешь, в нашем городе есть много цветных – я говорю о приличных людях, – которые бы захотели купить там участок?
– Им совсем не обязательно жить в нашем городе, Коринфянам. В летний домик можно ездить на машине. Белые всегда так делают. – Мейкон побарабанил пальцами по рулю – он не выключил мотор, и руль слегка подрагивал.
– Негры не любят воду, – хихикнула Коринфянам.
– Полюбят, когда она станет их собственностью, – сказал Мейкон. Он выглянул в окно и увидел, как из-за дерева показалась Магдалина, именуемая Линой. В руке она держала большой и яркий букет цветов, но лицо было сердито насуплено. На подоле ее голубого платья темнели мокрые пятна, похожие на следы от пальцев.
– Он меня обрызгал, – сказала она. – Он меня обрызгал, мама. – Она чуть не плакала.
Руфь сочувственно причмокнула языком. Коринфянам засмеялась:
– Я же говорила, негры не любят воду.
Мальчик сделал это не нарочно. Лина отошла в сторонку и стала рвать цветы, потом вернулась, а он, хотя еще и недоделал, быстро повернулся, услыхав у себя за спиной звук шагов. Так уж он привык – он все время был сосредоточен на том, что происходит у него за спиной. Словно будущего для него не было.
Но если будущее так и не объявилось, зато раздвинуло свои пределы настоящее, и малыш, так неуютно чувствовавший себя в «паккарде», пошел в школу и в возрасте двенадцати лет встретил мальчика, который не только освободил его от наваждения, но и привел в дом женщины, связанной с его будущим, в такой же мере как и с прошлым.
Гитара сказал, что он ее знает. Даже был у нее в доме.
– Ну и как там? – спросил Молочник.
– Свет… прямо глаза слепит, – сказал Гитара. – Свет и все коричневое. А еще запах.
– Скверный запах?
– Не знаю. Ее запах. Узнаешь сам.
Все невероятные и в то же время вполне правдоподобные истории о сестре его отца, о женщине, к которой отец запретил ему даже подходить близко, вскружили голову обоим мальчуганам. И тому и другому хотелось немедленно, сейчас же все узнать – у них и право есть все выяснить, и причина. Если на то пошло, Гитара с ней знаком, а Молочник – ее племянник.
Она сидела на ступеньке своего дома, широко расставив ноги, одетая в длинное черное платье с длинными рукавами. Голова у нее тоже была повязана чем-то черным, и единственным ярким пятном – они заметили его еще издали – был апельсин, который она чистила. Она вся состояла из острых углов, вспомнил он впоследствии, – колени, локти. Стопа одной ноги нацелена на восток, второй – на запад.
Потом, когда они подошли ближе и смогли разглядеть медную коробочку, прицепленную к мочке ее уха, Молочник понял, что и эта странная серьга, и апельсин, и нелепое черное одеяние так притягивают к ней, что перед этой притягательной силой пасуют и все предостережения, и отцовская мудрость.
Гитара заговорил первым: он был постарше, ходил уже в среднюю школу, и в отличие от приятеля ему не нужно было преодолевать себя и делать над собой усилие.
– Э-эй! – сказал он.
Женщина окинула мальчиков взглядом. Сперва Гитару, потом Молочника.
– Что это за слово ты сказал?
Ее голос звучал мягко, но в то же время что-то как бы постукивало в нем. Молочник не сводил глаз с ее пальцев, продолжавших чистить апельсин. Гитара усмехнулся и пожал плечами.
– Я хотел сказать: здрасьте.
– Тогда и говори то, что хотел сказать.
– Ладно. Здрасьте.
– Так-то лучше. Что вам нужно?
– Ничего. Мы просто мимо шли.
– Не шли, а пришли – так мне сдается.
– Если вы хотите, чтобы мы ушли, мисс Пилат, мы уйдем, – негромко проговорил Гитара.
– Я-то ничего не хочу. Это вы чего-то хотите.
– Мы хотим спросить у вас про одну вещь. Гитара сбросил напускное безразличие. Прямота этой женщины требовала и от него, чтобы в разговоре с ней он высказывался определенно и точно.
– Спроси про эту вещь.
– Кто-то сказал, у вас нет пупка.
– Это и есть твой вопрос?
– Да.
– Что-то непохоже на вопрос. Скорей, похоже на ответ. А ты задай вопрос.
– Он есть у вас?
– Что есть?
– Пупок.
– Нету.
– А куда он девался?
– Понятия не имею. – Она сбросила на подол платья оранжевую кожуру и неторопливо отделила одну дольку. – Теперь, может, мой черед задать вопрос?
– Само собой.
– Кто твой приятель?
– Этот-то? Молочник.
– Он умеет разговаривать? – Пилат проглотила кусочек.
– Да, умеет. Скажи что-нибудь. – Не сводя глаз с Пилат, Гитара подтолкнул Молочника локтем.
Молочник глубоко втянул в себя воздух, задержал дыхание и сказал:
– Э-э… эй!
Пилат засмеялась.
– Из всех неповешенных негров вы, наверное, самые тупые. И чему вас только в школе учат? «Э-эй!» кричат овцам и свиньям, когда их куда-то гонят. А если ты человеку говоришь «э-эй!», ему бы надо встать да треснуть тебя хорошенько.
Он вспыхнул от стыда. Вообще-то он ожидал, что ему будет стыдно, но не так, а по-другому: он думал, он сконфузится, конечно, это да, но такое ему в голову не приходило. Ведь все же не он, а она – грязная, уродливая, нищая пьяница. Чудачка тетка, из-за которой его изводили одноклассники и которую он ненавидел, ощущая, что каким-то образом он сам в ответе за ее уродливость, за нищету, за грязь, за пьянство.
И вдруг оказывается, это она насмехается над ним, над его школой и учителями. И хотя у нее в самом деле совершенно нищенский вид, взгляд у нее совсем не такой, как бывает у нищих. И не грязная она вовсе; неряшливая – да, но не грязная. Лунки ногтей как слоновая кость. Кроме того, или он совсем уж ничего не смыслит, или эта женщина абсолютно трезва. Разумеется, красивой ее никак не назовешь, но он чувствовал, что мог бы смотреть на нее целый день: на ее пальцы, обчищающие апельсиновые дольки, на ежевичные губы, словно накрашенные темной помадой, на эту странную серьгу… Женщина встала, и он чуть не вскрикнул. Он увидел, что она ростом с его отца, а он сам глядит на нее снизу вверх и плечи у него гораздо ниже, чем у нее. Платье же ее казалось таким длинным, лишь пока она сидела; на самом деле оно только прикрывало икры, и сейчас, когда она стояла, он видел незашнурованные мужские ботинки и серебристо-коричневую кожу на лодыжках.
Она стала подниматься по ступенькам, прижимая к себе рукой кожуру от апельсина, которую, еще сидя, уронила на подол, и выглядело это так, будто она держится за низ живота.
– Твоему папаше это не понравилось бы. Он тупых не любит. – Тут она посмотрела Молочнику прямо в лицо, одной рукой держась за ручку двери, а другой прижимая к себе кожуру. – Я твоего папашу знаю. И тебя я знаю.
Тут опять подал голос Гитара:
– Вы ему сестра?
– Единственная сестра. На всём белом свете трех Померов не наберется.
И вдруг Молочник, не способный вымолвить ни слова после своего злосчастного «э-э-эй!», неожиданно для себя закричал:
– Я тоже Помер! И моя мама Помер! И мои сестры! Вы с ним вовсе не единственные!
Но, еще не закончив вопить, удивился, что это на него вдруг накатило, почему он с таким пылом отстаивает свое право на эту фамилию. Он всегда терпеть ее не мог, а до того, как подружился с Гитарой, терпеть не мог и свою кличку. Но в устах Гитары она зазвучала как-то осмысленно, по-взрослому. А вот сейчас, разговаривая с этой странной женщиной, он так разволновался, словно он бог весть как гордится своей фамилией, словно Пилат вознамерилась изгнать его из узкого круга избранных, принадлежать к которому не только его право, но и особая, законнейшая привилегия.
Едва умолкли его вопли и наступила тишина, как Пилат засмеялась.
– Хотите, я сварю вам яйца всмятку? – спросила она мальчиков.
Они переглянулись. Она сразу переключила их на другой ритм. Яиц они не хотели, зато хотели здесь остаться, войти в дом, где гонит вино эта женщина с одной серьгой, без пупка и похожая на высокое черное дерево.
– Нет, спасибо, нам бы только водички напиться, – улыбаясь, ответил Гитара.
– Ладно, заходите.
Она распахнула дверь, и они вошли вслед за ней в большую солнечную комнату, которая в одно и то же время казалась и захламленной, и пустой. С потолка свисал мшисто-зеленый мешок. Повсюду свечи, вставленные в бутылки; к стенам приколоты кнопками вырезанные из журналов картинки и газетные статьи. Но обстановки никакой – только кресло-качалка, два стула с прямыми спинками, большой стол, раковина и печка. И все вокруг пропитано смолистым запахом хвои и перебродивших фруктов.
– Я вам все-таки сварю по штучке. Я хорошо варю их, как раз как надо. Белок должен быть твердоватым, ясно? А желток – мягким, но ни в коем случае не жидким. Когда в самый раз, он будто влажный бархат. Нет, попробуйте, правда, от вас не убудет.
Кожуру от апельсина она бросила в большой горшок, который, как почти все в этом доме, служил совсем не для той цели, для какой был поначалу предназначен. Потом подошла к раковине и стала наливать воду в синюю с белым узором миску, употребляемую вместо кастрюли.
– Значит, вода и яйцо должны встретиться между собой как бы на равных. Ни той, ни другому никаких преимуществ. Совершенно одинаковая температура. Сейчас я холодную воду чуть подогрею, а согревать не буду. Теплая вода мне ни к чему, ведь яйца-то комнатной температуры. Ну, а самый главный секрет – как кипятить. Когда с донышка начнут подниматься маленькие пузырьки, с горошинку величиной, сразу же снимай кастрюлю, пока они не стали как мраморные шарики. Улови этот момент и снимай ее с огня. Только надо не огонь гасить, а снять кастрюлю. А потом накрой кастрюлю сложенной газетой и делай что-нибудь, что много времени не занимает. Ну, пойди, скажем, отопри дверь или выбрось мусор на помойку, а потом внеси ведро с переднего крыльца. Я обычно хожу в туалет. Только долго не сижу там, заметьте. Справлю малую нужду, вот и все. И если сделаете все в точности, как я рассказала, у вас получатся самые замечательные яйца всмятку.
Помню, никудышная я была стряпуха, когда готовила нашему отцу. Ну, а твой отец, – она ткнула большим пальцем в сторону Молочника, – совсем готовить не умел. Я как-то испекла ему сладкий пирог с вишнями, а верней, попробовала испечь. Мейкон был очень хороший мальчик и ко мне прекрасно относился. Жаль, что ты не знал его тогда. Он стал бы тебе другом, настоящим добрым другом, таким, каким был для меня.
Слушая ее голос, Молочник представлял себе гальку. Маленькие кругленькие камешки, которые ударяются друг о друга, подхваченные волной. То ли говорила она хрипловато, то ли как-то по-особенному произносила слова – и протяжно, и в то же время отрывисто. Смешанный хвойно-винный дух дурманил, как наркотик, дурманило и солнце, мощные потоки которого вливались в комнату без всяких преград, потому что на окнах не было ни штор, ни занавесок, окон же было множество – на каждой из трех стен по две штуки: по окну справа и слева от двери, по окну справа и слева от раковины и печки, и два окошка в противоположной от двери стене. За четвертой стеной у них, наверное, спальня, подумал Молочник. От голоса, похожего на позвякиванье гальки, от солнца, от дурманящего запаха вина мальчиков разморило, и они сидели в блаженном полузабытьи и слушали, а она все говорила, говорила…
– Если бы не твой папаша, я бы не стояла сейчас тут. Умерла бы в чреве матери. И еще раз умерла бы – потом, в лесу. Этот лес да непроглядная тьма наверняка бы меня убили. Но он спас меня, и вот пожалуйста, разговариваю с вами, яйца варю. Наш папа умер, вот ведь что. Бабахнули, и он взлетел в воздух на пять футов вверх. Он сидел на своем заборе, их дожидался, а они подкрались сзади, и он взлетел на пять футов вверх. Мы немного пожили в большом доме у Цирцеи, а потом нам некуда было идти, и мы пошли себе, куда глаза глядят, и стали жить в лесу. Городов там нет, одни фермы. Но однажды папа возвратился к нам. Мы его сперва не узнали, ведь мы оба видели, как он в воздух взлетел. Мы тогда заблудились. Темнотища – ужас! Вы думаете, темнота всегда одного цвета, нет, куда там! Черный цвет – он разный. Можно пять, шесть видов его насчитать. Бывает шелковистый, а бывает вроде бы шерстистый. Бывает просто пустой. А еще бывает как пальцы. И все время разный. Чернота смещается, меняется. Назвать что-то черным – все равно как что-то назвать зеленым. Зеленый, говорят… а какой зеленый? Зеленый, как мои бутылки? Зеленый, как кузнечик? Зеленый, как огурец, как салат, или зеленый, как небо перед бурей? Так вот, с темнотой ночью точно так же обстоят дела. И то же самое с радугой.
Значит, заблудились мы, и ветер воет вовсю, и впереди маячит спина нашего папы. А мы дети, перепуганные дети. Мейкон все твердил мне, мол, мы боимся того, чего на самом деле не существует. А какая разница, существует то, чего мы боимся, или нет? Помню, как-то я стирала для мужа с женой, а было это в Виргинии. И вот однажды входит муж на кухню, весь дрожит и спрашивает, не сварила ли я кофе. Я говорю, что это вас так скрутило, уж больно вид у вас скверный, а он говорит, что и сам, мол, ничего не поймет, только ему почему-то кажется, что он вот-вот упадет со скалы. А под ногами у него линолеум, желтый, белый и красный, ровнехонький и гладкий, как утюг. Он сперва за дверь цеплялся, потом за стул, все старался не упасть. Я уж было чуть не брякнула, мол, нет никаких скал на кухне. И тут вдруг вспомнила, как мы шли по лесу тогда. Я как бы заново все это почувствовала. И спросила, может, его поддержать, чтобы не упал? А он посмотрел на меня с такой благодарностью. «Вот спасибо вам», – говорит. Я подошла к нему, обхватила руками, сцепила пальцы у него на груди и держала крепко-крепко. Сердце колотилось у него под жилеткой, как брыкается измученный зноем мул. Но успокоилось мало-помалу.
– Вы спасли ему жизнь, – сказал Гитара.
– Ничего подобного. Он не успел еще в себя прийти, как в кухню вошла его жена. Она меня спросила, что я делаю, а я ответила.
– Ответили… что? Что вы сказали ей?
– Сказала правду. Мол, я его держу, чтобы он не упал со скалы.
– Голову наотрез, ему тут самому захотелось спрыгнуть с этой скалы. Быть того не может, чтобы его жена вам поверила.
– Сначала нет. Но как только я разжала руки, он рухнул на пол. Очки вдребезги, лицо разбил. Он ничком упал, прямо в пол лицом. И вот что я скажу вам. Падал он медленно, долго. Даю слово. Три минуты, целых три минуты ушло на то, чтобы человек свалился на тот самый пол, что был у него под ногами. Не знаю уж, была ли там скала, но он целых три минуты с нее падал.
– Он умер? – спросил Гитара.
– Сразу же дух вон.
– Кто застрелил вашего отца? Вы ведь сказали, его кто-то застрелил? – Глаза мальчика горели любопытством.
– Да, он взлетел на пять футов вверх…
– Кто в него стрелял?
– Кто – я не знаю, и почему – не знаю. Знаю только то, что вам сказала: что, где, когда.
– Вы не сказали где, – не отставал Гитара.
– Нет, сказала. На заборе.
– А где был забор?
– На нашей ферме.
Гитара расхохотался, но его сверкающие глаза особого веселья не выражали.
– А где была ферма?
– В округе Монтур.
Вопросы по поводу «где?» исчерпались.
– Ну ладно, а когда?
– Когда он там сидел, на том заборе.
Гитара почувствовал то же, что чувствует сыщик, все усилия которого потерпели крах.
– В каком году это было?
– В том самом году, когда прямо на улицах стреляли ирландцев. Револьверы поработали неплохо в том году, и могильщики тоже, это уж точно. – Пилат положила на стол крышку от бочонка. Потом вынула из миски яйца и принялась счищать с них скорлупу. Губы ее шевелились: она передвигала языком во рту апельсиновое зернышко. И только очистив яйца и разломив их, так что мальчики смогли убедиться: оранжевая сердцевинка и в самом деле была как влажный бархат, – Пилат продолжала рассказ. – Как-то утром мы проснулись, когда солнце прошло примерно четверть своего пути по небу. До чего же солнце было яркое. А небо – голубое. Как ленты на маминой шляпке. Видите ту полоску в небе? – Она указала в окно. – Вон там, за ореховыми деревьями. Видите? Прямо над ними.
Они глянули в окно и увидели за домами и деревьями полоску уходящего вдаль неба.
– Такой же цвет, – сказала она, будто сделав очень важное открытие. – Точно такого же цвета были ленты на маминой шляпке. Я запомнила эти ленты на всю жизнь. А вот как ее звали, не знаю. Когда мама умерла, папа никому не позволял называть вслух ее имя. Так вот, выстрел, значит, глаза нам запорошило песком, и не успели мы их протереть и хорошенько оглядеться, как видим, он сидит на пне. Сидит себе прямо на солнышке. Мы давай кричать да звать его, а он как-то мимо глядит, словно смотрит он на нас и в то же время не смотрит. И в лице у него что-то этакое, прямо жуть берет. Словно под водой его лицо, так оно выглядит. А потом немного погодя встает наш папа и уходит в тень и дальше в лес идет. И мы стоим и на тот пень глядим. И дрожим, как листья на ветру.
Пилат неторопливо собирала в кучку яичную скорлупу, осторожно сгребая ее растопыренными пальцами. Мальчики напряженно замерли: они боялись сбить ее неосторожным словом и боялись все время молчать – а вдруг она перестанет рассказывать дальше.
– Как листья на ветру, – пробормотала она, – совсем как листья.
Внезапно она встрепенулась, и у нее вырвался крик, напоминавший уханье совы:
– У-у-у! Иду, сейчас иду.
Ни Молочник, ни Гитара не слышали, что к дому кто-то подошел, но Пилат уже вскочила и бросилась к двери. Не успела она до нее добежать, как кто-то распахнул ее ударом ноги, и Молочник увидел согнутую девичью спину. Девушка тащила, ухватившись за край, большую, на пять бушелей, корзину, наполненную ягодами, похожими на ежевику, а какая-то женщина подталкивала корзину с другой стороны, приговаривая: «Осторожно, детка, тут порожек».
– Все уже, – ответила ей девушка. – Толкай.
– Самое время, – сказала Пилат. – Вот-вот стемнеет.
– У Томми грузовик сломался, – тяжело дыша, пояснила девушка. Когда они наконец втащили в комнату корзину, девушка выпрямилась и повернулась к ним лицом. Но Молочнику совсем не обязательно было видеть ее лицо: он влюбился в нее, еще когда она стояла к нему спиной.
– Агарь, – Пилат обвела взглядом комнату, – это Молочник, твой брат. А это его друг. Как тебя звать-то, красавец?
– Гитара.
– Любишь, что-ли, на гитаре играть?
– Он ей вовсе не брат, мама. Они двоюродные, – сказала женщина, толкавшая корзину.
– Это все равно.
– Совсем не все равно. Верно, детка?
– Верно, – сказала Агарь. – Есть разница.
– Вот видишь. Разница есть.
– А какая же разница, Реба? Ты у нас все знаешь.
– Реба посмотрела в потолок:
– Брат называется братом, если у вас обоих одна и та же мать или если оба вы…
Тут Пилат ее перебила:
– Я спрашиваю, есть ли разница в том, как ты относишься к родным и к двоюродным? Разве ты не одинаково к ним относишься?
– Не в этом дело, мама.
– Замолчи, Реба. Я говорю с Агарью.
– Верно, мама. И к родным и к двоюродным нужно относиться одинаково.
– Ну, а тогда зачем понадобилось их неодинаково называть, если никакой разницы нет? – Реба подбоченилась и сделала большие глаза.
– Пододвиньте-ка сюда качалку, – сказала Пилат. – Если хотите помочь нам, мальчики, вам придется встать с места.
Женщины волоком подтащили на середину комнаты корзину, полную коротеньких колючих веточек ежевики.
– Что нужно делать? – спросил Гитара.
– Оборвать с этих проклятых веток ягодки и постараться их не раздавить. Реба, давай сюда второй чугунок.
Агарь, пышноволосая, с огромными глазами, оглядела комнату.
– Может, внести сюда кровать из спальни? Тогда мы все усядемся.
– Для меня и пол сгодится, – заметила Пилат и, присев на корточки, осторожно вытащила веточку из корзины. – Это все, что вы раздобыли?
– Нет, не все. – Реба катила по полу огромный чугун. – Там еще две корзины во дворе остались.
– Внесли бы вы их в комнату. А то мухи налетят. Агарь направилась к двери, махнув Молочнику рукой:
– Пойдем, братик. Ты мне поможешь.
Молочник вскочил со стула, опрокинув его, и кинулся вслед за Агарью. Ему казалось, он никогда еще не видел такой красавицы. Она намного, очень намного старше его. Она, наверное, ровесница Гитары, а может, ей уже и все семнадцать. Ему казалось, будто он парит. Буквально парит в воздухе – он никогда еще не был таким оживленным. Вдвоем с Агарью они втащили обе корзины по ступенькам крыльца, а затем в комнату. Девушка была такая же крепкая и сильная, как он.
– Осторожно, Гитара. Не торопись. Ты их все время давишь пальцами.
– Оставь его в покое, Реба. Пусть он сперва приноровится. Я тебя спрашивала, любишь ли ты па гитаре играть. Тебя поэтому прозвали Гитарой?
– Нет, играть я не умею. Я научиться хотел. Когда был еще маленьким-маленьким. Мне про это рассказали потом.
– А где ты ее увидел, гитару?
– В одном магазине был объявлен такой приз, еще когда я жил во Флориде. Мать пошла раз в город и меня с собой взяла. Я был совсем малышом. Там и устроили состязание, вы, верно, знаете, когда нужно угадать, сколько горошинок в большой стеклянной банке, и за это выиграешь гитару. Ох, разревелся я тогда, просто ужас, говорят. И потом все время ее требовал.
– Тебе бы нашу Ребу попросить. Получил бы свою гитару.
– Нет, ее нельзя было купить. Надо было угадать, сколько горошин в банке.
– Слышу, слышала уже. Реба и сказала бы тебе, сколько горошин. Реба всегда выигрывает. Ей еще ни разу не случалось проиграть.
– В самом деле? – Гитара заулыбался, хотя и недоверчиво. – Везет ей, значит?
– Еще как везет, – усмехнулась Реба. – Ко мне откуда только не приходят попросить, чтобы вытащила за кого-нибудь лотерейный билет или сказала, на какой помер поставить. Люди часто выигрывают по моим подсказкам, а я вообще всегда. Если захочу что-нибудь выиграть, выиграю непременно, и еще многое, чего и выиграть то не хочу.
Словом, дошло до того, что ей теперь совсем не продают лотерейных билетов. Только просят: потяни вместо меня.
– Это видел? – Реба сунула руку за вырез платья и вытащила привязанное к шнурку бриллиантовое колье. – Я его выиграла в прошлом году. Я была… как это говорится, мама?
– Пятисоттысячная.
– Пятьсот… нет, не так. Они мне как-то по-другому сказали.
– Полмиллионная – вот как они сказали.
– Правильно. Полмиллионный покупатель, который зашел в магазин Сирса и Робака. – Она захохотала, весело и гордо.
– Ей не хотели его отдавать, – вмешалась Агарь, – вид у нее неподходящий.
Гитара удивился:
– Я помню, как присуждали этот приз, но, хоть убейте, я ни звука не слышал, что его выиграла цветная женщина. – Он шатался по улицам целые дни напролет и был уверен, что ему известны все городские события.
– Никто этого не слышал. Они все ждали, и фотографы уж были наготове, когда в дверь следующий войдет, кому приз получать. Только фотографию мою так и не напечатали в газете. На ней я была, а сзади еще мама глядит, верно? – Как бы ожидая подтверждения, она взглянула на Пилат и продолжала: – Напечатали они фотографию человека, которому дали второй приз. Он выиграл облигацию военного займа. Он был белый.
– Второй приз? – переспросил Гитара. – Как это – второй? Тут одно из двух: или ты полмиллионный, или нет. Не может же выиграть следующий за полмиллионным.
– Может – если это Реба, – сказала Агарь. – Они только потому и придумали второй приз, что Реба оказалась первой. А кольцо ей дали только потому, что ее успели сфотографировать.







