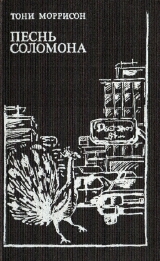
Текст книги "Песнь Соломона"
Автор книги: Тони Моррисон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Следуя примеру отца, он всем своим детям, кроме первенца мужского пола, выбрал имена, ткнув наугад пальцем в Библию. И куда уж ткнулось, туда ткнулось, он ничего не менял, досконально зная обстоятельства, при которых получила имя его сестра. Мать их умерла родами, а отец, растерянный, удрученный ее кончиной, водил пальцем по Библии и, так как не умел читать, выбрал слово, которое ему показалось красивым и значительным на вид: ему представилось, что это нечто большое, нечто вроде дерева, которое величественно и покровительственно возвышается над порослью деревьев пониже. Он переписал все эти буквы на клочок коричневой бумаги – переписал, как переписывают все неграмотные люди: каждый изгиб, наклон, завитушку, – и вручил акушерке:
– Так назовем ребенка.
– Вы что, хотите так ее назвать?
– Я хочу назвать так ребенка. Прочитайте это.
– Да нельзя ее так называть.
– Прочитайте.
– Это мужское имя.
– Прочитайте.
– Пилат.
– Как?
– Пилат. Вы написали тут: Пилат.
– Это вроде бы тот, кто пилит?
– Нет. Ничего он не пилит. Пилат, который убил Христа, вот это кто. Уж подыскали имя, хуже не придумаешь. Особенно для девочки.
– Я просил Христа спасти мою жену.
– Думайте о том, что говорите, Мейкон.
– Я просил его всю ночь.
– Он вам послал ребенка.
– Да. Послал. Я назову ее Пилат. Ребенка будут звать Пилат.
– Господи боже, помилуй нас.
– Вы зачем уносите мою бумажку?
– А ей место там, откуда она изошла. В адском пламени.
– Отлайте ее мне. Она изошла из Библии. В Библии и останется.
И она осталась там, пока девочке не исполнилось двенадцать лет, и тогда она скатала бумажку в крохотный комочек и положила ее в маленькую медную коробочку, которую стала носить в левом ухе, как серьгу. И если в двенадцать лет ее не волновало полученное благодаря случайности имя, то Мейкон мог предполагать, насколько мало оно волновало ее потом. Зато он знал наверняка: с той же почтительностью, с тем же благоговением, с каким она отнеслась к рождению третьего Мейкона Помера, отнеслась она и к имени, которым он был наречен.
Мейкон Помер помнил: рождение его сына занимало ее, пожалуй, больше, чем рождение собственной дочери и даже дочери этой дочери. Еще долгое время после того, как Руфь оправилась и вновь смогла – не бог весть как – вести хозяйство, Пилат продолжала ходить к ним на кухню в ботинках с распущенными шнурками, в вязаной шапке, низко натянутой на лоб, и с дурацкой серьгой в ухе. От нее всегда чем-то пахло. В последний раз он видел ее, когда ему было шестнадцать, а потом она появилась в их городе примерно за год до рождения его сына. Вела она себя по-родственному, как положено тетке, иногда помогала хозяйничать Руфи и девочкам, но с прохладцей, без умелости и не рвалась эту умелость приобрести. А под конец просто сидела около детской кроватки и пела. Ничего особенно плохого в этом не было, только Мейкону врезалось в память выражение ее лица. Оно было удивленное и вдумчивое. И такая напряженная пытливость была написана на нем, что Мейкону становилось не по себе. Хотя нет, дело, наверное, не только в этом. Вероятно, на него действовало, что вот она сидит перед ним через столько лет после того, как они расстались у входа в пещеру, а он до сих пор помнит ее предательство и свой гнев. Как же низко она скатилась! Потеряла всякое представление о порядочности. А ведь когда-то она была для него самым дорогим существом в мире. Сейчас же стала хмурой, чудаковатой и, что хуже всего, неопрятной. Такой дай только волю, и вечно будешь попадать в неловкое положение. Но он не собирался давать ей волю.
Кончилось тем, что он ей запретил появляться у них в доме, пока она не начнет достойнее себя вести. Могла бы подыскать себе приличную работу, а не держать кабак.
– Ты бы хоть одевалась как женщина, – говорил он, стоя у кухонной плиты. – Напялила зачем-то на голову матросский берет. А чулок у тебя просто нет, так, что ли? Хочешь сделать меня посмешищем всего города? – Его бросало в дрожь при мысли, что белые владельцы банка – те, кто помогал ему покупать дома и их закладывать, – вдруг обнаружат, что эта оборванка-бутлегерша его родная сестра. Что у богатого негра, который так умело распоряжается своим капиталом и живет в большом доме на Недокторской улице, есть сестра, имеющая дочь, но не имеющая мужа, а у этой дочери тоже есть дочь, а мужа нет. Вот семейка, форменные психопатки: гонят спиртное и распевают прямо на улице песни. «Как уличные женщины! Ну прямо как уличные женщины!»
Пилат сидела и слушала, разглядывая его с интересом. Потом сказала:
– А я о тебе тоже очень беспокоюсь, Мейкон.
Вне себя от ярости, он бросился к дверям.
– Убирайся, Пилат. Сию же минуту. Я на пределе, я за себя не ручаюсь.
Пилат встала, завернулась в одеяло, бросила на младенца прощальный нежный взгляд, ушла и больше уж не возвращалась.
Когда Мейкон Помер приблизился к своей конторе, он заметил в нескольких шагах от дверей полную женщину и двух мальчуганов. Мейкон отпер дверь, прошествовал к письменному столу и уселся. Он начал просматривать счетную книгу, когда в комнату вошла поджидавшая его женщина, только уже без детей.
– День добрый, мистер Помер, сэр. Я миссис Бэйнс. Живу в номере третьем на Пятнадцатой улице.
Мейкон Помер помнил – не женщину, а обстоятельства, связанные с номером третьим. Туда въехала то ли бабушка, то ли тетка жилицы и давно уже не вносила квартирную плату.
– Да, миссис Бэйнс. Вы что-нибудь мне принесли?
– Вообще-то я как раз об этом и хотела с вами потолковать. Сенси, понимаете ли, оставила на меня всех ребятишек. А пособия по безработице хватает разве что на то, чтобы дворовую собаку прокормить, да и ту, пожалуй что, придется держать впроголодь.
– Вам нужно ежемесячно платить четыре доллара, миссис Бэйнс. А вы задолжали уже за два месяца.
– Знаю я все это, мистер Помер, сэр, но детишки же не могут ничего не есть.
Разговаривали они тихо, вежливо, отнюдь не сердито.
– А на улице они могут жить, миссис Бэйнс? Именно это им предстоит, если вы не изыщете способ платить мне, что положено.
– Нет, они не могут жить па улице, сэр. Им и крыша над головой нужна, и кормить их нужно. Все им нужно. Так же, пожалуй, как и вашим.
– В таком случае будьте пооборотистей, миссис Бэйнс. Даю вам время до… – он круто повернулся, чтобы взглянуть на настенный календарь, – до следующей субботы. Субботы, миссис Бэйнс. Не воскресенья. И не понедельника. До субботы.
Будь она помоложе, сохранись в ней былой задор, у нее разгорелись бы от гнева и глаза, и щеки. Но она уже состарилась, поэтому только глаза ее сердито сверкнули. Она оперлась ладонью о стол и, не спуская с Мейкона тускло мерцающего взгляда, поднялась со стула. Чуть повернула голову, взглянула сквозь витринное стекло на улицу и вновь перевела взгляд па Мейкона.
– Вам-то какой прибыток, мистер Помер, сэр, если вы вышвырнете меня на улицу с детишками?
– До субботы, миссис Бэйнс.
Опустив голову, она что-то прошептала и вышла из конторы, медленно и тяжело ступая. Когда она закрыла за собой дверь, ведущую в «Магазин Санни», внуки ее, стоявшие на солнцепеке, перешли в тень, туда, где остановилась женщина.
– Что он сказал, бабушка?
Миссис Бэйнс положила руку на голову мальчика, что был повыше, и рассеянно перебирала его волосы, нащупывая пятна лишая.
– Он, наверное, сказал нет, – догадался второй мальчик.
– Нам что же, придется съезжать? – Тот, что был повыше, высвободил голову и искоса взглянул на бабку. Его кошачьи глаза сверкали, как золотые ранки.
Миссис Бэйнс безвольно уронила руку.
– Когда негр занимается бизнесом, это ужас, вот это что. Ужас, просто ужас, вот и все.
Мальчики переглянулись и опять посмотрели на бабку. Они даже приоткрыли слегка рты, словно услышали нечто очень важное.
Едва за миссис Бэйнс закрылась дверь, Мейкон Помер снова принялся просматривать счетную книгу и, водя пальцем по столбикам цифр, успевал одновременно вспоминать, как он впервые посетил отца Руфи Фостер. В ту пору у него в кармане было только два ключа, и, если бы он давал потачку таким, как та женщина, которая только что ушла, у него и совсем бы ключей не осталось. Если бы не эти два ключа, которые уже тогда лежали у неге в кармане, он не посмел бы появиться на Недокторской улице (тогда еще она называлась Докторской) и войти в дом к самому уважаемому негру в городе. Взяться за дверной молоток – он был в виде львиной лапы – и помышлять о браке с докторской дочкой он осмелился лишь потому, что каждый из ключей символизировал принадлежащий ему дом. Без этих ключей он испарился бы при первом же «да?», произнесенном доктором. Или растаял, как свежий воск, под тусклым мерцанием его взгляда. Зато, имея ключи, он вполне мог сказать, что был представлен его дочери, мисс Руфи Фостер, и почтительно просит доктора разрешить им время от времени встречаться. Намерения у него честные, и лично он, несомненно, заслуживает внимания в качестве искателя руки мисс Фостер, поскольку к двадцати пяти годам, к тому же будучи цветным, он приобрел уже собственность.
– Мне о вас ничего не известно, – сказал доктор, – кроме имени, которое мне не нравится, но если дочь испытывает к вам склонность, я не буду противиться.
В действительности доктор знал о нем немало, он просто не считал возможным показать этому высокому молодому человеку, насколько он ему благодарен. Хотя доктор любил свое единственное дитя и после смерти матери она была незаменима в доме, ее обожание в последнее время начинало его все больше сердить. Руфь буквально затопила его своей нежностью; ласковость, когда-то восхищавшая его в ребенке, в полной мере сохранилась и сейчас. Поцелуй, которым она каждый вечер его награждала, прощаясь на ночь, свидетельствовал и о редкостном терпении доктора, и о незаурядной неповоротливости ее ума. В шестнадцать лет она требовала, как прежде, чтобы он садился к ней на кровать, потом ласкалась к нему и целовала его. То ли умершая жена была для него все еще жива до боли, то ли Руфь уж слишком напоминала мать. А скорей всего, его сердил восторг, каждый раз озарявший лицо Руфи, когда он наклонялся к ней, чтобы поцеловать, – восторг, который он считал неуместным.
Ничего подобного он, разумеется, не стал излагать молодому человеку, явившемуся к нему с визитом. Благодаря этому обстоятельству Мейкон Помер сохранил незыблимую веру в магическую силу ключей.
Тут размышления Мейкона были прерваны: кто-то торопливо барабанил в окно. Он поднял голову, увидел Фредди, заглядывавшего к нему в комнату сквозь золотые буквы, и кивнул, чтобы тот вошел. Фредди, золотозубый, щуплый, в весе петуха, был наилучшим глашатаем города, которого выдвинуло из своих рядов Южное предместье. Точно так же торопливо барабанил он в зеркальное стекло, так же сверкали в улыбке его золотые зубы, когда он выкрикнул слова, ныне известные всем: «Мистер Смит о землю шмякнулся!» Не приходилось сомневаться, что и сейчас Фредди явился с вестями о новом бедствии.
– Портер в стельку напился! Вытащил дробовик!
– А кого он собирается ухлопать? – Мейкон тут же принялся закрывать счетные книги и выдвигать ящики письменного стола. Портер был его жильцом, и как раз на следующий день ему предстояло внести квартирную плату.
– Так чтобы специально – вроде никого. Просто высунулся из чердачного окна и дробовиком размахивает. Говорит, до завтрашнего утра уж кого-нибудь да убьет.
– Он ходил сегодня на работу?
– Ходил. Получил десятку.
– Всю пропил?
– Нет. Купил одну только бутылку, у него еще денег навалом.
– Кто же продал ему спиртное, ненормальный какой-то, что ли?
Фредди ощерил в улыбке золотые зубы, но промолчал, и Мейкон понял: Пилат. Он запер все ящики, кроме одного – этот же, единственный, он отпер и достал оттуда небольшой револьвер 32-го калибра.
– Полиция ведь предупредила всех бутлегеров окрест, и все равно он где-то достает спиртное. – Мейкон все еще продолжал делать вид, будто не знает, что Портер и все остальные – взрослые, дети, собаки – всегда могут купить вино у его же собственной сестры. И он в сотый раз подумал, что ей самое место в тюрьме и он с удовольствием бы засадил ее туда, если бы не опасался, что она опозорит его перед всеми и к нему утратят уважение те, кто служит в суде и в банках.
– Умеете обращаться с этой штукой, мистер Помер, сэр?
– Умею.
– Портер ведь совсем как сумасшедший, когда напьется.
– Знаю я, какой он.
– Как вы хотите до него добраться?
– Я не хочу до него добираться. Добраться я хочу до своих денег. А потом пусть отправляется в пекло, если ему так угодно. Но вот если он сперва не сбросит вниз причитающуюся мне квартирную плату, я его тут же пристрелю.
Фредди хихикнул совсем негромко, но так сверкнул золотыми зубами, что было ясно: он в восторге. Прирожденный лакей, он обожал всякие сплетни. Он был ухом, которое улавливало любой намек на жалобу, любое имя; и глаз его замечал все: тайные взгляды, драки, новые платья.
Мейкон знал, что Фредди дурак и лжец, но лжец надежный. События он всегда излагал верно, искажал лишь обстоятельства, послужившие причиной этих событий. В данном случае, к примеру, он не врал, что Портер схватил ружье и сидит возле чердачного окна, в стельку пьяный. Но вот убивать кого-то там, точней – кого угодно, Портер вовсе не намерен. Мейкон совершенно точно знает, кого Портер собирается убить – себя, но тем не менее уже начал словесную подготовку – орет с чердака во все горло.
– Женщину мне дайте! Пришлите сюда бабу! Слыхали? Сказано вам, пришлите мне кого-нибудь сюда, не то я вышибу себе мозги!
Приближаясь к двору, Мейкон и Фредди слышали, как откликаются на эту просьбу женщины из соседнего меблированного дома:
– А почем будешь платить?
– Ты сперва застрелись, тогда пришлем тебе кого-нибудь.
– Что это тебе так приспичило?
– Больше ты ничего не хочешь?
– Убери свою игрушку и сейчас же сбрось мне вниз квартирную плату, скотина! – Крик Мейкона перекрыл гомон женских голосов. – Переправь мне мои доллары, холера, а потом стреляйся на здоровье.
Портер тут же повернулся к ним и прицелился в Мейкона.
– Если ты уж собрался жать на курок, – крикнул Мейкон, – не дай тебе бог промахнуться. Постарайся уложить меня на месте, а не то я сам пристрелю тебя как собаку! – Тут он вытащил свое оружие. – Отойди от окна, сукин сын, отойди, да побыстрее, слышишь?
Портер колебался лишь одну секунду, затем повернул ружье к себе дулом, вернее, попытался повернуть. Ружье было длинное, что затрудняло его задачу; сам же он был пьян, и это делало задачу невозможной. Он старался повернуть его так, чтобы удобней было выстрелить под нужным углом, и вдруг отвлекся. Прислонил ружье к подоконнику, расстегнул брюки и стал мочиться прямо на головы стоящих внизу женщин; те с криком разбежались – дробовик такого ужаса у них не вызвал. Мейкон поскреб в затылке, а Фредди скорчился от смеха.
Больше часа промытарил их Портер: он пригибался, прятался, орал не своим голосом, грозил, мочился и все время требовал себе женщину.
То вдруг его начинали сотрясать горькие рыдания, и он выкрикивал:
– Да ведь люблю я вас! Всех вас люблю! Чего же вы-то со мной так? Бабы! Ну будет вам. Не надо. Неужто вы не видите, я вас люблю. Я помереть за вас готов или кого угробить. Говорю вам, я всех вас люблю. Говорю же вам. Господи, смилуйся надо мною. Ну чего мне делать? Жизнь ты моя распроклятая, ну чего, чего мне дела-а-ать?
По его лицу струились слезы, и он нежно прижимал к себе дуло дробовика, словно это та самая женщина, которую он себе просит, которую разыскивает всю жизнь.
– Боже, пошли мне ненависть, – всхлипывал он. – Ненависть я приму хоть сейчас. Только любви мне больше не посылай. Любви я больше не могу принять, господи. Я ее не вынесу. Совсем как мистер Смит. Он не смог ее вынести. Больно тяжела она. Уж ты-то знаешь, Иисусе. Ты знаешь о ней все. Тяжела, ведь верно, Иисусе? Верно ведь, любовь тяжела? Неужто ты не видишь, господи? Собственный твой сын не смог ее вынести. И если уж она его убила, как ты думаешь, что она сотворит со мной? Что? Ну что? – Он снова начинал сердиться.
– Да спускайся ты наконец, зараза! – гаркнул Мейкон все так же громко, но в его голосе звучала усталость.
– А ты, ты недоношенный бабуин. – Портер безуспешно пробовал в него прицелиться. – Ты хуже всех. Вот тебя надо убить, вот тебя-то уж убить надо. Знаешь почему? Ладно, я тебе скажу. Я-то знаю. Все знают…
Бормоча: «Все знают», Портер рухнул на подоконник и тут же уснул. Ружье выскользнуло у него из руки, грохоча покатилось по крыше, ударилось о землю и выстрелило. Пуля чиркнула по ботинку какого-то зеваки и продырявила шину ободранного «доджа».
– Ступай и принеси мне деньги, – сказал Мейкон.
– Я? – ужаснулся Фредди. – А вдруг он…
– Ступай и принеси мне мои деньги.
Портер громко храпел. Его младенческого сна не потревожили ни выстрел, ни шаривший по его карманам Фредди.
Когда Мейкон вышел со двора, солнце уже скрылось за зданием хлебной компании. Раздраженный, усталый, он шел по Пятнадцатой улице и, проходя мимо одного из своих домов, бросил взгляд на его силуэт, таявший в полусумерках. То здесь, то там на улицах маячили у него за спиной его дома, как призраки с подслеповатыми глазами. Он не любил глядеть на них, когда сгущалась темнота. Днем они внушали ему чувство уверенности, но сейчас казалось, они ему вовсе не принадлежат, чудилось даже, будто дома, вступив между собой в сговор, хотят, чтобы он ощутил себя здесь чужаком, безземельным, неимущим бродягой. Ему стало так сиротливо, что он решил выйти на Недокторскую напрямик, пусть даже для этого надо будет пройти мимо сестриного дома. Становилось все темнее, и он не сомневался, что Пилат его не заметит. Он пересек проходной двор и двинулся вдоль изгороди, упиравшейся в Дарлинг-стрит, где жила Пилат в узком одноэтажном доме, фундамент которого, казалось, не был заложен в землю, а вырастал из нее. В доме не было электричества, так как Пилат не желала за него платить. Газа тоже не было. По вечерам они с дочкой зажигали керосиновые лампы и свечи, стряпали и топили на угле и дровах, воду в кухню перекачивали шлангом из колодца, то есть жили так, будто слова «прогресс» не существует.
Дом стоял немного в глубине, в восьмидесяти футах от тротуара, а за ним росли четыре огромные сосны; иглами с этих сосен Пилат набивала матрасы. Он взглянул на сосны и тут же вспомнил ее рот; в детстве она любила жевать сосновые иглы, и от нее даже тогда пахло лесом. Целых двенадцать лет он относился к ней не как к сестре, а словно к своему ребенку. После того как испустила дыхание мать, Пилат выбралась из ее чрева, не подталкиваемая пульсацией мускулов и быстрым током вод. А в результате живот у нее был гладкий и упругий, как спина, – пупка на нем не было. Отсутствие пупка внушило всем окружающим мысль, что Пилат явилась в этот мир иным путем, чем все прочие люди, что она никогда не лежала, не колыхалась, не росла в чем-то теплом и жидком, связанная тоненькой трубочкой с телом матери, питающим ее. Мейкон то знал, что это не так, ведь он во время родов стоял тут же, рядом, он видел глаза акушерки, когда ноги матери вдруг вытянулись и застыли, и он слышал ее крик, когда дитя, как они оба полагали, умершее тоже, выбралось мало-помалу головкой вперед из неподвижной, тихой, теперь ко всему безразличной пещеры – материнской плоти – и вытащило собственную пуповину и послед. Остальное же все правда. Как только отрезали пуповину, то, что от нее осталось, высохло, съежилось и отпало, не оставив следов, и брат-подросток, нянчивший малышку, считал ее живот не более странным, чем безволосую головку. И лишь когда ему исполнилось семнадцать и он безвозвратно расстался с сестрой и пустился уже в погоню за богатством, он понял, что такого живота, как у нее, по всей вероятности, нет больше ни у кого на свете.
Приближаясь к ее дворику, он уповал, что никто из находящихся в доме не увидит его в темноте. Он даже не глядел в сторону дома, поравнявшись с ним. Но тут до его слуха донеслась мелодия. Они пели. Пели все. Пилат, Реба и Агарь, дочь Ребы. На улице ни души; все, наверное, сейчас сидят за ужином, слизывают с пальцев подливку, дуют на блюдечки с кофе и, несомненно, судачат о том, какой номер выкинул сегодня Портер и как бесстрашно его утихомирил Мейкон. В этой части города не было уличных фонарей, только луна освещала путь. Мейкон шел и шел, стараясь не замечать несущиеся вслед ему голоса. Шел он быстро – еще немного, и пения не будет слышно, – как вдруг увидел, словно картинку па обороте почтовой открытки, то, что ожидает его там, куда он так спешит, – свой дом: узкую, упрямую спину жены; дочерей, перекипевших досуха за годы подавляемых надежд; сына, к которому он обращается только тогда, когда нужно что-то приказать или отругать его за что-то. «Здравствуй, папа». – «Здравствуй, сын, заправь рубашку в брюки». – «Я нашел мертвую птичку, папа». – «Не таскай домой всякую дрянь…» Там нет музыки, а ему хотелось в этот вечер чуть-чуть музыки – и услышать ее он мог от сестры, от самого первого существа, предоставленного его заботам.
Он повернулся и медленно зашагал к дому. Оттуда доносилось пение, а запевала Пилат. Сначала слышался ее голос, а два других подхватывали мелодию, вели ее дальше. Ее звучное контральто, потом вторящее ему резкое сопрано Ребы и тихий голос девочки, Агари, которой сейчас, вероятно, лет десять-одиннадцать, тянули его к себе, как магнит притягивает гвоздик.
И, покоряясь звукам мелодии, Мейкон придвигался все ближе. Ему не хотелось, чтобы его заметили, не хотелось ни с кем говорить, ему хотелось только слушать, да, вероятно, еще видеть всех троих – источник этой мелодии, слушая которую он почему-то вспоминал поля, диких индеек, ситцевые платья. Стараясь двигаться бесшумно, он подобрался к крайнему окну, у которого мерцал самый маленький огарок, и украдкой заглянул туда. Реба обрезала ногти па ноге то ли кухонным ножом, то ли перочинным, и ее длинная шея клонилась чуть не до колен. Девочка, Агарь, заплетала косы, а Пилат, стоявшая спиной к окну, что-то помешивала в горшке. По всей вероятности, фруктовую массу, из которой она гонит вино. Мейкон знал: она готовит не еду, ведь в этом доме все питаются как дети. Что захочется, то и едят. Здесь не думают заранее, какую еду приготовить, что сегодня купить в лавке, здесь не накрывают на стол. Да и за стол всей семьей тут никогда не садятся. Испечет Пилат свежего хлеба, вот каждая и отрезает себе по куску, мажет маслом и ест, пока не наестся. Или останется, скажем, виноград, из которого давили вино, или персики, и они только их и едят. А то одна из них купит галлон молока, и они пьют его, пока все не выйдет. Потом другая принесет полбушеля помидор или дюжину початков кукурузы, и опять же – пока все не выйдет – едят. Едят то, что оказалось в доме, что случайно попалось, или то, что вдруг захотелось купить. Все, что давала торговля вином, испарялось, как вода морская под порывами жаркого ветра, – на дешевые украшения для Агари, на подарки, которые Реба дарит своим мужчинам, и еще черт знает на что.
Скрытый темнотой у окна, он ощущал, как его покидает накопившаяся за день раздраженность, и наслаждался безыскусственной красотой женских голосов, звучащих в комнате, освещенной свечами. Нежный профиль Ребы, руки Агари, перебирающие пряди густых, волос, и Пилат. Ее лицо он знает лучше, чем свое. Когда она поет, ее лицо как маска: все чувства, все страсти покинули его, влились в голос. Но он знает, что, когда она не разговаривает и не поет, лицо ее оживляют постоянно движущиеся губы. Потому что она вечно что-то жует. И ребенком, и совсем молоденькой девушкой она всегда что-то совала в рот: соломинку от веника, хрящик, пуговицы, зерна, листья, кусочек бечевки и самое любимое – Мейкон специально их для нее добывал – аптечную резинку или ластик. Ее губы постоянно находились в движении. Стоя рядом с ней, никогда не поймешь, то ли она хочет улыбнуться, то ли просто выковыривает языком соломинку, застрявшую между зубами. Перекладывает ли резинку за другую щеку или в самом деле улыбается. Со стороны кажется, она шепчет себе что-то под нос, а на самом деле разгрызает передними зубами какие-то мелкие зерна. Губы у нее темнее кожи – от вина, от сока ежевики, и кажется, она накрасилась, намазала губы очень темной помадой, а потом, чтоб не блестели, промокнула клочком газеты.
Воспоминания и льющаяся за окном мелодия постепенно успокаивали, смягчали его, а тем временем пение смолкло. Кругом безветренно, тихо, а Мейкону почему-то все не хочется уходить. Ему нравится смотреть вот так на них. Они не сдвинулись с места. Просто перестали петь, и Реба продолжает стричь ногти, Агарь расплетает и заплетает косы, а Пилат помешивает в горшке, покачиваясь, словно ива.







