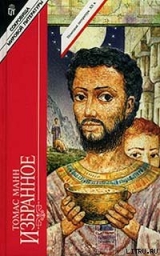
Текст книги "Иосиф-кормилец"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 39 страниц)
Иаков учит и видит сон
Огромный этот тамариск, осенявший первобытный каменный стол и прямой каменный столп – массеву, стоял в стороне от многолюдного селения Беэршивы, в котором наши путники даже не побывали, на небольшом холме, и был, строго говоря, не посажен отцом Иакова, а преемно принят им как божье дерево элон морех, то есть дерево прорицаний, у сынов этой земли и превращен из бааловской святыни в главное святилище его единственного и высочайшего бога. Даже, возможно, зная об этом, Иаков тем не менее продолжал считать, что беэршивское дерево посажено Авраамом. В духовном смысле оно им и было посажено, а мышленье патриарха было мягче и шире нашего, которое допускает либо одно, либо другое и сразу же спешит заявить: «Если это дерево уже было бааловским, – значит, посадил его не Авраам!» Такое раденье об истине скорее запальчиво и упрямо, чем мудро, и молчаливое объединенье обоих аспектов, удававшееся Иакову, гораздо достойнее.
Да и внешне то, как служил Израиль под этим деревом богу вечностей, почти не отличалось от обрядов, свойственных культу детей Ханаана, – за исключением, разумеется, всяких бесчинств и непристойных шуток, в которые неизбежно выливалось богослуженье этих детей. Вокруг священного холма, у его подножья, были разбиты палатки, и тотчас начались приготовленья к закланьям, которые предстояло совершить на дольмене – упомянутом уже каменном столе первобытных времен, и к жертвенному обеду, который затем полагалось съесть сообща. Разве дети баалов поступали иначе? Разве и они не заливали алтарь кровью ягнят и козлят и не кропили ею торчавший рядышком камень? Да, они поступали так же; но дети Израиля делали это в духе иного, более просвещенного благочестия, что выражалось главным образом в том, что после трапезы они не шутили друг с другом попарно, – по крайней мере, не шутили публично.
Кроме того, Иаков наставлял их в боге под этим деревом, что отнюдь не нагоняло на них скуки, а казалось очень важным и занимательным делом даже подросткам, ибо все они обладали большими или меньшими способностями в этом отношенье и с удовольствием вникали в самое заковыристое. Он поучал их, в чем различие между многоименностью баала и многоименностью бога их отцов, всевышнего и единственного. Первая и вправду означала множественность, ибо не было баала, а были только баалы, то есть владельцы, хозяева и защитники священных мест, рощ, площадей, родников, деревьев, великое множество леших и домовых, – разобщенные и связанные с определенным местом, они в совокупности своей не имели ни лица, ни индивидуальности, ни собственного имени и назывались самое большее «Мелькарт», то есть градодержцами, если таковыми считались, как, например, тирский баал. Этот назывался «баал Пеор» по своему месту, тот – «Баал Гермон», третий – «баал Меон», был, правда, и «баал Завета», что следовало использовать в Авраамовой работе над богом, а одного, курам на смех, звали даже «баал Плясун». Достоинства тут было мало, а величия всеобщности и вовсе не было. Совершенно иначе обстояло дело со множественностью имен бога отцов, которая не наносила ни малейшего ущерба личной его цельности. Его звали Эль-эльон, «всевышний бог», Эль ро'й, «бог; который видит меня», Эль олам, «бог вечностей», или, после того великого, рожденного униженьем виденья Иакова, Эль вефиль, «бог Луза». Но все это лишь меняющиеся обозначения одного и того же высочайшего божества, не связанного, как разменная множественность леших и градодержцев, с определенным местом, а присутствующего во всем, чем порознь и по частям владели баалы. Плодородие, которое те посылали, родники, которые они охраняли, деревья, где они жили и в которых слышался их шепот, грозы, в которых они бушевали, благодатная весна, губительный суховей с востока – Он был всем, чем те были каждый в отдельности, все это находилось в Его веденье. Он был вседержителем всего этого, ибо все это исходило от Него, Он вбирал все это в свое «я», бытие всякого бытия, Элохим, многообразие как единство.
Об этом имени, Элохим, Иаков, к великому интересу семидесяти, рассуждал очень увлекательно и не без хитроумия. Ясно было, откуда шла эта черта Дана, пятого его сына; хитроумие Дана было лишь мелким сыновним ответвлением более высокого хитроумия старика. Вопрос, который разбирал Иаков, состоял в том, каким числом считать слово «элохим» – единственным или множественным и как, следовательно, говорить – «Элохим хочет» или «Элохим хотят». Признавая важность правильного оборота речи, необходимо было найти какое-то решение, и, по-видимому, Иаков нашел его, высказавшись в пользу единственного числа. Бог был один, и было бы ошибкой считать, будто «элохим» – это множественное число от «эль», «бога». Ведь множественное число от «эль» звучало бы «элим». «Элохим» было нечто совсем другое. Это слово так же не предполагало множественности, как не предполагало ее имя Авраам. Человека из Ура звали Аврам, а потом его имя путем почетного удлинения превратилось в «Авраам». То же самое и с «элохим». Это была величальная, почетно удлиненная форма, и ничего больше, – в этом слове не содержалось ни малейшего намека на то, что подходило бы под бранное определение «многобожие». Иаков неустанно твердил об этом в своих поучениях. Элохим был один. А потом все-таки получалось, что их больше, не менее трех. Три мужа явились Аврааму у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. И эти три мужа, как тотчас узнал побежавший навстречу им Авраам, были господом богом. «Владыка», – сказал он, поклонившись им до земли, «Владыка» и «ты». Но время от времени он говорил также «вы» и «ваши». И попросил их сесть в тень и подкрепиться молоком и телятиной. И они ели. А потом они оказали: «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году». Это был бог. Он был один, но он был определенно втроем. Он являл многобожие, но при этом он неизменно и принципиально говорил «я», тогда как Авраам говорил то «ты», то «вы». Значит, если послушать Иакова дальше, то, вопреки предшествующему его утверждению, кое-какие резоны считать имя «Элохим» множественным числом все-таки были. Да, если послушать его дальше, то становилось заметно, что и его представленье о боге было, как Авраамово, тройственно и складывалось из троих мужей, трех самостоятельных и тем не менее совпадающих в едином «я» лиц. Он говорил, во-первых, об отцовском боге, или боге-отце, во-вторых, о Добром Пастыре, который пасет овец своих – нас, и, в-третьих, о том, кого он называл «ангелом» и о котором у семидесяти складывалось впечатленье, что тот осеняет нас голубиными крыльями. Они составляли элохим, тройное единство.
Не знаю, волнует ли это вас, но тем, кто слушал Иакова под уже известным нам деревом, это было очень занятно и любопытно; такой уж у них был дар. Расходясь и даже уже улегшись, на сон грядущий они долго и увлеченно рассуждали об услышанном, о почетном удлиненье и тройном Авраамовом госте, о необходимости не впадать в многобожие перед лицом единого божества, чья множественность, с другой стороны, содержала в себе известный соблазн, но этот искус в роду Иакова был нипочем даже подросткам.
Самому главе рода на каждую из трех проведенных им в Беэршиве ночей расстилали постель под священным деревом. В первые две ночи он снов не видел, зато третья принесла ему тот сон, ради которого он спал и в котором нуждался для успокоенья и подкрепленья сил. Он боялся земли Египетской, и ему крайне необходимо было заверение, что бояться ехать туда ему не следует, потому что бог его отцов не связан с определенным местом и пребудет с ним, Иаковом, в этой преисподней в точности так же, как был с ним в царстве Лавана. Во что бы то ни стало требовалось ему подтвержденье, что бог не только спустится с ним, но и возвратит его или – сделав его многочисленным народом – вернет хотя бы его, Иакова, племя в землю отцов, в эту страну между Нимродовыми царствами, которая при всей своей непросвещенности, при всем неразумии коренных своих жителей, Нимродовым царством все-таки не была, так что там лучше, чем где-либо, можно было служить духовному богу. Короче говоря, душе его требовалось уверение, что его разлука с этой землей не отменит обетовании великого сна о лестнице, приснившегося ему на вефильском гилгале, и что бог-вседержитель будет верен слову, прозвучавшему тогда под звуки арф. Чтобы узнать это, он спал, и во сне он узнал это. Святым своим голосом бог ободрил его, как в том нуждалась его душа, и самыми приятными словами бога были слова, что Иосиф «положит руки на глаза Иакова» – проникновенно-многозначительные слова, которые могли означать, что его могучий в мире сын защитит и пригреет старика в стране язычников, а также что некогда любимец его собственноручно закроет ему глаза, а подобного сновиденья наш сновидец давно уже не мог себе позволить.
А тут ему приснилось и это, и то, первое, и спящие глаза его увлажнились под веками. И когда он проснулся, он почувствовал прилив сил и бодрости и захотел сняться с этой стоянки, чтобы продолжить путь со всеми семьюдесятью. Теперь он сел в изящный египетский паланкин с ветрозащитной каморкой, который водрузили на спины двух белых, украшенных сольником ослов, и выглядел в нем еще лучше, еще величественней, чем на верблюде.
О любви отказывающей
Северо-восток Дельты соединялся с Хевроном торговой дорогой, проходившей через Беэршиву и сухие земли ханаанского юга. По ней-то и двигались дети Израиля, следуя, таким образом, несколько иным путем, чем тот, которым следовали братья в своих деловых поездках. Места здесь шли поначалу обжитые, со множеством мелких и крупных селений. Затем, правда, с умножением дней, края пошли окаянные, без единой травинки, и увидеть здесь можно было только мелькавших вдалеке разбойных скитальцев пустыни, так что боеспособные мужчины Израиля не расставались с луками. Но и в самых скверных местах цивилизация исчезала не вовсе, она сопровождала их примерно так же, как бог, хотя и с жутковатыми перерывами, где она прекращалась и бог оставался уже единственным утешеньем, – сопровождала то в виде защищенных колодцев пустыни, то в виде заложенных и хранимых духом передвиженья дорожных знаков, смотровых башен и мест для привала – до самой цели, подразумевая под ней покамест ту область, где драгоценная земля Египетская продвинула свою военную силу далеко на чужбину, область, предшествующую неприступной границе Египта и стенам крепости Зел, придирчивого ее стража.
Их они достигли через семнадцать дней – или, может быть, дней прошло больше? Они считали, что дней их пути – семнадцать, и не стали бы спорить по этому поводу с любителями точных подсчетов. Порядка семнадцати эта цифра безусловно была, если даже она была чуть выше или чуть ниже – вполне возможно, что дней прошло немного больше: учтем хотя бы пребывание в Беэршиве; да и лето еще давало себя знать, и для передвиженья, щадя Иакова, отца, пользовались только вечерними и утренними часами. Да, добрых семнадцать дней прошло с тех пор, как они покинули Мамре и отправились в путь, то есть на некоторое время перешли на положенье кочевников, разбивающих шатры то там, то сям. И вот дни доставили их к крепости Зел, проходу в царство Иосифа.
Есть ли у кого-нибудь хоть малейшее опасение, связанное с этой грозной пограничной твердыней и нашими путниками, неужели кто-нибудь думает, что у них тут возникнут какие-то трудности? Того, кто так думает, впору поднять на смех. У них были и фирман, и пропуск, и удостоверенье – господи боже мой! Никогда ничего подобного наверняка не имелось ни у каких сынов горемычной чужбины, стучавшихся в ворота земли Египетской, а для этих не существовало ни ворот, ни стен, ни оград, бастионы и башни Зела были для этих как воздух и пар, а придирчивость контролеров оборачивалась для них улыбчивой услужливостью. Ведь, конечно, пограничные офицеры фараона получили особые указанья насчет этих людей; указанья, которые не могли не смягчить их! Ведь как-никак дети Иакова были приглашены в эту страну самим менфийским владыкой хлеба, Тенистой Сенью Царя, Джепнутеэфонехом, исключительным другом фараона, приглашены на кормленье и на жительство! Опасенья? Трудности? Паланкин, в котором несли старого главу рода, говорил, надо думать, сам за себя и сам представлял своего владельца, на паланкине этом были уреи, уреи из фараоновой сокровищницы. А того, кто сидел в нем, этого величаво усталого и кроткого старика, – его несли не так-то и далеко, на свиданье с сыном, весьма высоким начальником, который мог сделать бледным трупом любого, кто хотя бы только задержит этих сынов чужбины расспросами.
Одним словом, пограничные офицеры были как нельзя более любезны и слащаво-угодливы – бронзовые решетки взлетели вверх, люди Иакова проследовали между рядами поднятых рук, с обозом и семенящим скотом хлынули они по плавучему мосту на фараоновы пажити и оказались в болотистой, удобной для пастбищ местности с купами деревьев, плотинами, каналами и разбросанными кругом селеньями; это была земля Госен, которую именовали также Косен, Несем, Госем и Гошем.
Так по-разному звучало это названье в устах людей, трудившихся у запруды, по которой проходила дорога, на небольшом поле, окруженном поросшими камышом канавами, когда наши путники стали расспрашивать их, чтобы убедиться в правильности избранного направленья. Пробыв в пути от силы день, сказали они, путешественники уже к вечеру доберутся до Пер-Бастетского рукава Нила и до самого Пер-Бастета, Дома Кошки. Но еще ближе был богатый съестными припасами городок Па-Кос, – по-видимому, столица и рынок этой округи, которому она, вероятно, и была обязана своим названием: заглянув далеко за ее луга, за камыши болот, блестящие зеркала луж, кустистые острова и сочные равнины, можно было увидеть, как в утреннем свете на горизонте вырисовывается пилон па-косского храма. Ибо было раннее утро, когда Израиль вступил в эту землю, переночевав перед пограничной крепостью; они ехали еще несколько часов, углубляясь в день и держа путь к маячившему на горизонте строенью, а потом остановились, и снятый со спин ослов паланкин Иакова был временно поставлен на землю; ибо где-то близ па-косского рынка, неподалеку отсюда находилось место, которое Иосиф назначил для свиданья и избрал местом встречи, заявив, что прибудет туда встретить своих родных.
За то, что все делалось именно так, мы ручаемся, и если слова: «Иуду послал он перед собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Госем» – соответствуют истине, то неверно было бы толковать их в том смысле, что, поехав вперед, Иуда добрался до города Закутанного и лишь тогда Иосиф велел запрягать и отправился навстречу отцу в Госен. Нет, возвысившийся был давно поблизости, он ждал здесь и вчера уже и позавчера, и послан был Иуда вперед, только чтобы разыскать его в этой округе и, указав ему местонахожденье отца, помочь обоим, Иосифу и отцу, друг друга найти. «Здесь Израиль подождет господина сына, – сказал Иаков. – Спустите меня! А ты, Иегуда, сын мой, возьми трех рабов и поезжай отсюда на поиски своего брата, первенца Рахили, чтобы объявить ему место, где мы находимся!» Иуда повиновался.
Мы можем заверить слушателей, что отсутствовал он недолго, всего какой-нибудь час-другой, и потом возвратился, исполнив порученное; ибо что прибыл он не с Иосифом, а вернулся раньше, чем тот явился к отцу, явствует из вопроса, с которым обратился к нему Иаков при приближенье Иосифа и который мы сейчас услышим.
Место, где ждал Иаков, было довольно приятно: он сидел в тени трех пальм, выросших как бы из одного корня, и прохладой веяло здесь от небольшого пруда, где розовыми и голубыми цветами цвел лотос и возвышались над водой тростинки папируса. Он сидел здесь в окружении своих сыновей, сначала десяти, но вскоре, когда вернулся Иуда, снова одиннадцати, а перед ним открывалась земля лугов и оград, над которой летали птицы, и старые глаза его могли издалека увидеть двенадцатого.
Они увидали, что Иуда возвращается рысью с тремя рабами, что он только кивает головой и, не говоря ни слова, указывает куда-то назад. Поэтому они стали глядеть мимо него вдаль: там что-то копошилось, издали еще маленькое, но блестевшее, ослеплявшее и переливавшееся красками; оно стремглав приближалось, и вот это были уже колесницы с конями в сверкающей упряжи и пестрых султанах, а впереди и в промежутках – скороходы, и позади и по бокам – тоже скороходы; весь Израиль, повернувшись к ней лицами, глядел на переднюю колесницу, над которой поднимались шесты опахал. Все это приблизилось и приобрело свои истинные размеры, и стало различимо для тех, на кого неслось. Но Иаков, который глядел вперед из-под стариковской своей руки, позвал одного из сыновей, того, что снова стоял рядом с ним, и сказал:
– Иуда!
– Вот я, отец, – отвечал тот.
– Кто, – спросил Иаков, – этот человек умеренной полноты, облеченный знатностью этого мира и вылезающий сейчас из своей колесницы и из золотого кузова своей колесницы, – его ожерелье подобно радуге, а его платье – просто как свет небесный?
– Это твой сын Иосиф, отец, – отвечал Иуда.
– Если это он, – сказал Иаков, – то я встану и пойду навстречу ему.
И хотя Вениамин и другие пытались его удержать, прежде чем помогли ему, он с трудом, но с достоинством поднялся и один, хромая сильнее обычного на бедро свое, ибо преувеличивал почетную свою хромоту, пошел навстречу идущему, который ускорил шаги, чтобы сократить ему путь. Улыбающиеся губы этого человека складывали слово «отец», и он широко распростер руки; Иаков же вытянул руки вперед, словно шел ощупью, как слепец, и шевелил кистями их, как будто чего-то требовал и в то же время от чего-то оборонялся; когда же они сошлись, он не позволил Иосифу, как тот хотел, броситься ему на шею и спрятать лицо на его плече, а отстранил его от себя за плечи и, откинув голову, долго и настойчиво, с любовью и страданием, глядел и вглядывался усталыми глазами в лицо египтянина, которого сначала не узнавал. Но покуда он так глядел, глаза Иосифа медленно наполнялись слезами и переполнились ими; и когда чернота его глаз расплылась в их влаге, это оказались глаза Рахили, с которых когда-то, в похожих уже на сон далях жизни, Иаков поцелуями стирал слезы, и он узнал его, он уронил голову на плечо ставшего таким чужим Иосифа и горько заплакал.
Они стояли особняком на лугу, ибо братья боязливо держались в стороне во время их встречи, а свита Иосифа, его дворецкий, конюшие при колесницах, скороходы и опахалоносцы, а также любопытные из соседнего городка, уже сбежавшиеся, тоже ждали поодаль.
– Отец, простишь ли меня? – спросил сын, и чего только он не имел в виду своим вопросом – бесцеремонность, с какой он с ним обошелся и натворил дел на его голову; заносчивость любимца и скверное свое озорство, преступное доверие и слепую требовательность, сотни глупостей, за которые он платился молчанием мертвых, живя тайком от платившегося вместе с ним старика. – Отец, простишь ли меня?
Совладав с собой, Иаков оторвался от его плеча.
– Бог нас простил, – ответил он. – Ты видишь, он вернул мне тебя, и теперь Израиль может спокойно умереть, потому что ты – предо мной.
– А ты предо мной, – сказал Иосиф. – Папочка… можно мне тебя снова так называть?
– Если ты ничего не имеешь против, сын мой, – ответил Иаков чинно и даже, несмотря на старость свою и степенность, отвесил легкий поклон молодому человеку, – то я предпочел бы, чтобы ты называл меня «отец». Пусть наше сердце блюдет достоинство и не унижается до балагурства.
Иосиф понял это вполне.
– Слушаю и повинуюсь, – ответил он и поклонился в свою очередь. – Незачем, однако, говорить о смерти! – прибавил он горячо. – Жить, отец, надо нам вместе теперь, когда наказание отбыто и долгое ожидание кончилось.
– Очень уж оно было долгим, – кивнул старик, – ибо Его гнев неистов, а Его ярость – это ярость могучего бога. Видишь ли. Он настолько велик и могуч, что может испытывать только такой гнев, никак не меньший, и карает нас, слабых, так, что вопли наши льются водой.
– Его можно понять, – словоохотливо заметил Иосиф, – если в своем величии он не способен держаться какой-то меры и, не имея себе подобных, не в силах представить» себя на нашем месте. Возможно, что у Него несколько тяжелая рука, отчего даже Его прикосновенье уже сокрушительно, хотя у Него вовсе нет таких жестоких намерений и Он просто хотел дать шлепка.
Иаков не мог удержаться от улыбки.
– Я вижу, – сказал он, – что мой сын даже среди чужих богов сохранил очаровательную тонкость своих суждений о боге. В том, что тебе угодно было сказать, есть, видно, доля правды. Еще Авраам часто ставил Ему на вид Его необузданность и, бывало, урезонивал Его: «Тише, господи, не надо так горячиться». Но каков уж Он есть, таков и есть, и не станет умереннее ради наших нежных сердец.
– Дружеское увещание, – отвечал Иосиф, – со стороны тех, кого Он любит, все-таки не повредит. Но теперь воздадим хвалу Его милосердию и Его миролюбию, хотя Он и не торопился их проявить! Ибо под стать Его величию только Его мудрость, то есть богатство Его мысли и глубокий смысл Его деяний. Решенья Его имеют всегда много последствий – вот что замечательно. Наказывая, Он, действительно, имеет в виду наказанье, но, не переставая быть своей суровой самоцелью, оно оказывается и ступенью к событиям большей важности. На тебя, отец мой, и на меня Он жестоко обрушился, Он отнял нас друг у друга, и я для тебя умер. Это Он и имел в виду, и Он это сделал. Но вместе с тем Он имел в виду выслать меня, спасенья ради, вперед, чтобы я прокормил вас, тебя, братьев и весь твой дом, во время голода, который был послан Им неспроста и, в свою очередь, явился ступенью ко многому, а прежде всего к тому, что мы встретились снова. Все это замечательно в мудром своем сплетенье. Это мы бываем пылки или холодны, а Его страсть – это провидение, и Его гнев – это дальновидная доброта. Высказался ли твой сын о боге наших отцов примерно так, как то подобает?
– Примерно, – подтвердил Иаков. – Это бог жизни, а жизнь можно выразить, разумеется, только примерно. Говорю это тебе и в похвалу, и в оправданье. Но в моей похвале ты не нуждаешься, ибо тебя наперебой хвалят цари. Хотелось бы, чтобы жизнь, которую ты вел в отрешенье, не слишком нуждалась и в оправданье.
Когда он это говорил, взгляд его озабоченно скользил по египетскому облаченью Иосифа, спускаясь от полосатого желто-зеленого убора на его голове к сверкающим украшеньям, к дорогому, диковинного покроя платью, к драгоценностям на его наборном поясе и на его руке и, наконец, к золотым пряжкам его сандалий.
– Дитя, – сказал он тревожно, – сохранил ли ты свою чистоту среди народа, чья похоть подобна похоти жеребцов и ослов?
– О папочка, то есть я хочу сказать: отец, – ответил, несколько смутившись, Иосиф, – какие заботы у моего господина! Оставь это, дети Египта такие же, как другие дети, они не лучше и не хуже других. Поверь мне, только Содом в свое время особенно отличился в пороках. С тех пор как он исчез в смоле и сере, в этом отношенье дела обстоят везде примерно одинаково, то есть в общем-то сносно. Тебе, наверно, случалось урезонивать бога и говорить ему: «Не надо так горячиться!» Так вот, не будет грехом, если я, дитя твое, обращусь к тебе с исполненным любви увещаньем и посоветую тебе, поскольку ты здесь: не показывай людям этой страны, какого ты о них мненья, и в осужденье им не изображай их нравов такими, какими они видятся твоей вере, не забывай, что мы здесь чужеземцы и герим и что фараон сделал меня великим среди этих детей, и займи среди них, повинуясь воле бога, достойное положение.
– Я знаю, сын мой, я знаю, – ответил Иаков и снова сделал легкий поклон. – Не сомневайся в моем почтении к миру! У тебя, – прибавил он вопросительно, – есть, говорят, сыновья?
– Конечно, отец. От моей девушки, дочери Солнца, женщины очень знатного рода. Их зовут…
– Девушки? Дочери Солнца? Это меня не смутит. У меня есть внуки от Шекема, внуки от Моава и внуки от Мидиана. Почему бы мне не иметь внуков и от дочери Она? А родоначальник их все-таки я. Как зовут твоих мальчиков?
– Манассия, отец, и Ефрем.
– Ефрем и Манассия. Это хорошо, сын мой, это очень хорошо, агнец мой, что у тебя есть сыновья, два сына, и что ты доброчестно назвал их такими именами. Я хочу поглядеть на них. Представь их мне как можно скорее, будь добр.
– Ты велишь, – сказал Иосиф.
– А знаешь ли ты, дорогое дитя, – продолжал Иаков тихо и с влажными глазами, – почему это так хорошо и так кстати пред господом?
Обняв одной рукой Иосифа за шею, он говорил ему на ухо, а сын, отвернув лицо, склонил одно ухо к губам отца.
– Иегосиф, однажды я отдал и завещал тебе разноцветное платье, потому что ты выклянчил его у меня. Ты знаешь, что оно не означало первородства и преемничества?
– Я знаю это, – ответил Иосиф так же тихо.
– А я, в глубине сердца, пожалуй, считал, что означало или почти означало, – продолжал Иаков. – Ибо сердце мое любило тебя и всегда будет любить тебя, мертв ли ты или жив, больше, чем твоих товарищей. Но бог разорвал твое платье и осадил мою любовь могучей десницей, с которой спорить нельзя. Он отделил и отдалил тебя от моего дома; он оторвал побег от ствола и пересадил его в мир – тут остается только повиноваться. Повиноваться в своих поступках и решеньях, ибо сердце не может повиноваться. Он не может отнять у меня сердце и пристрастие сердца, не отняв у меня жизни. Если твои поступки и решенья не определены любовью твоего сердца, то это повиновенье. Ты понимаешь?
Иосиф повернул голову к нему и кивнул. Он увидел слезы в этих старых карих глазах, и его собственные глаза тоже увлажнились опять.
– Я слышу и я знаю, – прошептал он и снова наклонил ухо.
– Бог дал тебя, и бог тебя отнял, – тихо говорил Иаков, – и снова дал тебя, но не сполна; Он вместе и удержал тебя. Хотя Он и выдал кровь животного за кровь сына, ты все же не как Исаак, неугодная жертва. Ты говорил мне о богатстве Его мысли, о высокой двузначности Его советов – ты говорил умно. Ибо мудрость – Его удел, а человеку дан ум, чтобы тщательно вдумываться в Его мудрость. Он и возвысил тебя и отверг в то же время; я говорю это тебе на ухо, любимое дитя, и ты достаточно умен, чтобы это услышать. Он возвысил тебя над твоими братьями, как тебе снилось, – я всегда, мой любимый, хранил сны твои в сердце. Но возвысил Он тебя по-мирски, не в смысле спасения и наследованья благословенья – спасения ты не несешь, наследье тебе заказано. Ты знаешь это?
– Я слышу и знаю, – повторил Иосиф, на мгновение отвернув от отца ухо и повернув к нему взамен шепчущий рот.
– Ты благословен, мой любимый, – продолжал Иаков, – благословен от неба и от бездны, что внизу, благословен весельем и ударами судьбы, остроумьем и снами. Но это благословенье мирское, а не духовное. Слышал ли ты когда-либо голос отказывающей любви? Так услышь же его, повинуясь, у самого уха. Бог тоже любит тебя, дитя, хотя он сейчас и отказывает тебе в наследье и наказал меня за то, что я предназначал его тебе втайне. Ты первороден в земных делах, ты благодетель и для чужеземцев, и для отца и братьев. Но спасутся народы не благодаря тебе, и водительствовать тебе не дано. Ты знаешь это?
– Я знаю, – отвечал Иосиф.
– Это хорошо, – сказал Иаков. – Это хорошо – глядеть на судьбу с веселым и восхищенным спокойствием, и на собственную судьбу тоже. А я поступлю, как бог, который одарил тебя, тебе отказав. Ты отщепенец. Ты отделен от рода и родом не будешь. Но я возвышу тебя и произведу в отцы тем, что первородные твои сыновья будут как мои сыновья. Те, которые еще у тебя родятся, будут твои, а эти мои, ибо я их приму вместо сына. Ты не похож на отцов, дитя мое, ибо ты не духовный вождь, а мирской. И все же ты будешь сидеть рядом со мною, отцом племени, как отец племен. Доволен ли ты?
– Нижайше тебя благодарю, – ответил Иосиф тихо, снова повернув к отцу рот вместо уха.
И тут Израиль перестал его обнимать.








