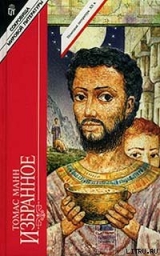
Текст книги "Иосиф-кормилец"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 39 страниц)
Девушка
В начале когда-то бог навел крепкий сон на человека, которого поместил в саду Востока, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотию. А из ребра бог создал женщину, рассудив, что негоже человеку быть одному, и привел ее к человеку, чтобы она была около него спутницей его и помощницей. И сделано это было от чистого сердца.
Привод женщины расписан учителями куда как подробно – все происходило так-то и так-то, учат они, делая вид, будто они это знают, – возможно, впрочем, что они знают это и вправду. Бог, уверяют они, вымыл женщину, отмыл ее дочиста (ведь как бывшее ребро, она была, вероятно, немного липкой), умастил, подрумянил ей лицо, завил волосы и по сильному желанию ее украсил ей голову, шею и руки жемчугами и драгоценными камнями, в том числе сердоликом, топазом, алмазом, яшмой, бирюзой, смарагдом и ониксом. В таком приукрашенном виде, в сопровождении тысяч ангелов, под песнопенья и звуки лютен, привел он ее к Адаму, чтобы вверить ее человеку на будущее. Тут начался праздник и пир, вернее сказать, праздничный пир, в котором, кажется, и сам бог участвовал запросто, и планеты водили хоровод под собственную же музыку.
То было первое свадебное торжество, хотя нигде не сказано, что это была уже и свадьба. Бог создал женщину помощницей Адаму, просто чтобы она была около него, и ни о чем другом явно не помышлял. Родить в муках детей он обрек ее лишь после того, как она вместе с Адамом поела от дерева и у них обоих открылись глаза. Между праздником привода жены и тем, что Адам познал ее и она родила ему хлебопашца и овчара, по чьим стопам ходили Исав и Иаков, – в этом промежутке очередь еще истории о дереве, о плодах и о змее, о познанье добра и зла, – и для Иосифа она была тоже раньше на очереди. Он тоже познал женщину лишь после того, как узнал, что хорошо и что дурно, – узнал от змеи, которая рада была научить его очень и очень хорошему, но все же дурному. Он устоял перед ней и сумел дождаться поры, когда хорошее перестало уже быть злом.
Никак нельзя снова не вспомнить о бедной змее и теперь, когда солнечные часы показывают час свадьбы Иосифа, свадьбы, которую он сыграл с другой, так что ноги и головы он соединил с ней – а не с той. Чтобы не было так грустно, мы нарочно упомянули о той, другой, уже раньше, в подходящем для этого месте, сообщив, что она снова стала холодной лунной схимницей и что ей давно уже ни до чего не было дела. Пусть гордая набожность, вновь ею овладевшая, прогонит ту горечь, которая иначе мучила бы сегодня при мысли о ней нас всех. Душевному ее покою способствовало и то, что свадьба Иосифа происходила не рядом, в Фивах, а в далеком его доме, в Менфе, куда фараон, который с самого начала горячо взялся за это дело, специально пожаловал, чтобы лично участвовать в праздничном пире и в хороводе планет. Он довольно точно сыграл роль бога в этом деле, начиная с рассуждения, что негоже человеку быть одному; ведь он сразу же сообщил Иосифу, как это приятно быть женатым, хотя, правда, в отличие от бога, мог сослаться на собственный опыт, ибо у него была Нофертити, утреннее его облачко с золотым краем. А бог всегда был одинок и заботился только о человеке. Зато заботился фараон об Иосифе совсем как бог и, едва возвысив его, стал искать ему достаточно представительную партию, то есть очень благородную и политически выгодную, но при этом приятную, а такие сочетания встречались не так уж часто. Но как бог Адаму, он подобрал своему созданью невесту, привел ее к нему под звуки арф и кимвалов и принял сам участие в свадьбе.
Кто же была эта невеста, супруга Иосифа, и как ее звали? Все это знают, но это нисколько не уменьшает удовольствия, доставляемого нам нашим сообщением, и, как мы уверены, не может уменьшить радости слушателей по поводу того, что им сообщают об этом снова. К тому же многие, вероятно, это забыли и, не зная, что знают это, не смогут ответить на поставленный нами вопрос. То была девушка Аснат, дочь онского жреца Солнца.
Вот как высоко хватил фараон, делая выбор, – выше он не смог бы хватить. Жениться на дочери первосвященника Ра-Горахте считалось чем-то неслыханным, чуть ли не святотатством, – хотя, с другой стороны, ни брак, ни материнство не были этой девушке, конечно, заказаны и никто не хотел, чтобы она век вековала безмужней девственницей. Тем не менее тот, кому она доставалась, казался каким-то, пусть необходимым и желанным, но все-таки темным, близким к злодейству разбойником. Ее не отдавали, ее умыкали – так верилось, так думалось, если дело касалось ее, даже тогда, когда все происходило самым законным, самым полюбовным образом, и не было на свете родителей, которые, выдавая свое дитя замуж, поднимали бы столько шуму, сколько ее родители. Особенно, искренне или притворно, отчаивалась и выходила из себя мать; она неустанно подчеркивала непостижимость происходящего, ломала руки и с таким видом, словно ее самое не то изнасиловали, не то собираются изнасиловать, по обычаю пересыпала свои жалобы клятвенными обещаниями мести – больше, правда, ритуальными, чем искренними.
А происходило это все оттого, что девичество солнечной дочери облекалось особой броней святости и неприкосновенности – неприкосновенности, по сути, однако, ждущей прикосновенья. Храня девственность строже, чем любая другая, она была девой из дев, девушкой в первую очередь, воплощением девичества. Нарицательное имя «девушка» стало даже собственным ее именем: так звали и называли ее всю жизнь, и, лишая ее девственности, супруг, по всеобщему понятию, совершал божественное преступление – причем существительное в этом словосочетании смягчалось, облагораживалось и в какой-то степени стиралось прилагательным. Однако отношения между зятем и родителями девушки, особенно ее ломающей руки матерью, даже будучи в частной жизни самыми дружескими, оставались внешне всегда напряженными; в известном смысле те так никогда и не признавали принадлежности их дочери мужу, и в брачном договоре, как правило, оговаривалось, что дочь не обязана находиться при мрачном своем умыкателе безотлучно, а может на определенную, не такую уж малую часть года возвращаться к солнечным своим родителям, чтобы снова жить у них девой, – условие это выполнялось не всегда буквально, чаще лишь символически, когда супруга, как то и вообще водится, гостила в родительском доме.
Если у первосвященнической четы было несколько дочерей, то все это относилось по преимуществу к старшей и в меньшей мере к младшим. Шестнадцатилетняя же Аснат была единственной дочерью, и можно себе представить, какое это было божественное кощунство, какое злодейство – жениться на ней! Отцом ее. Великим Пророком Ра-Горахте, был, конечно, уже не тот кроткий старик, что в первый, вместе с измаильтянами, приезд Иосифа в Он занимал золотой престол у подножья большого обелиска перед крылатым солнечным диском. Отцом ее был избранный его преемник, человек тоже добродушно-веселый – таковым каждый служитель Атума-Ра обязан был быть по своей должности, и если в его натуре этого не было, то благодаря необходимому притворству это постепенно становилось его натурой. Как известно, по воле случая его звали так же, как того царедворца света, что когда-то купил Иосифа, то есть Потифаром, или Петепра, – и какое имя могло бы больше подойти человеку его положения, чем это, означавшее «Его подарило Солнце»? Имя его свидетельствует о том, что он был рожден для этой должности и что его заранее готовили к ней. Вероятно, он был сыном того старика в золотой скуфейке, а Аснат, следовательно, его внучкой. Что касается ее имени, которое она писала «Нс-нт», то оно было связано с богиней Нейт из Саиса, города в Дельте; оно значило «Принадлежащая Нейт», и следовательно, «девушка» была явно подопечной этой воительницы, чей фетиш представлял собой щит с двумя крест-накрест пригвожденными к нему стрелами и которая также в человеческом облике носила на голове связку стрел.
Носила ее и Аснат. Ее волосы или искусно стилизованный парик, выделка которого в этой стране всегда оставляла немного неясным, платок это или прическа, были всегда украшены стрелами, либо прикрепленными сверху, либо воткнутыми; что же касается щита, точного образа ее чрезвычайной девственности, то он часто встречался в ее украшениях, которые на шее, на кушаке и на руках изображали этот знак неприступности со скрещенными стрелами.
Но при всей этой внешне подчеркнутой готовности к боевому отпору Аснат была не только очаровательным, но и очень благонравным, кротким и послушным ребенком, до безволия покорным воле своих знатных родителей, фараона, а потом и супруга, и отличительной чертой ее характера было как раз это сочетание священно-чопорной замкнутости с явной уступчивостью и терпимым приятием женского своего жребия. Лицо у нее было типично египетской вылепки, тонкокостное, с несколько выдающейся вперед нижней челюстью, но и не лишенное своеобразных черт. Щеки ее еще сохраняли детскую полноту, полными были и губы с плавным углубленьем между подбородком и ртом, лоб у нее был чистый, носик несколько полноватый, а большие, красиво подведенные глаза глядели каким-то странно пристальным, словно она прислушивалась, взглядом, похожим немного на взгляд глухих, хотя глуха она отнюдь не была: взгляд этот выражал лишь внутреннюю сосредоточенность, настороженное ожидание приказа, который, может быть, скоро раздастся, смутно-внимательную готовность услыхать зов судьбы. Оправдывающе противоречила этому выражению глаз ямочка на щеке, всегда появлявшаяся, когда Аснат говорила, – и в общем лицо ее было неповторимо приятно.
Приятным и в известной мере неповторимым было и сложенье ее тела, проглядывавшего сквозь тканый воздух одежды и отличавшегося необычайно тонкой от природы, поистине осиной талией при соответственно широком тазе и удлиненном животе, то есть лоне, вполне способном родить. Тугая грудь и равномерно тонкие, с большими кистями, руки, которые она обычно держала вытянутыми во всю их длину, довершали этот девичий, янтарного цвета портрет.
Среди цветов и жизнью цветов жила девушка Аснат до того, как ее похитили. Любимым ее местопребыванием был берег Священного Озера в округе отцовского храма, холмистые, богатые цветами луга. Как ковер, росли там нарциссы и анемоны, и ничего на свете она так не любила, как бродить со своими подругами, дочерьми онских жрецов и сановников, по этим лугам у зеркальной воды, рвать цветы, сидеть в траве, плести венки, устремив из-под высоко поднятых бровей прислушивающийся взгляд вдаль, отчего на щеке у нее появлялась ямка, и ждать того, что должно было прийти. И это пришло; однажды явились гонцы фараона и потребовали от тяжело кивавшего головой отца Потифара, от ломавшей руки и совсем обезумевшей матери, чтобы они отдали щитоносную деву в жены Джепнутеэфонеху, наместнику Гора, Тенистой Сени царя. Покорная идее своего существования, она сама воздела руки к небу, призывая его на помощь, словно похититель схватил ее за ее тонкую талию и тащит в колесницу.
Все это было лишь маскарадом, лишь данью условностям; мало того что воля и сватовство фараона были приказом, брак с его фаворитом, с Верховными Устами Царя, считался почетным, желанным браком; родители невесты не могли бы сделать для своей дочери большего, чем то, что сделал для Иосифа фараон, не могли бы хватить выше, чем хватил царь, и не было никаких причин не то что для отчаяния, но даже для огорчения, выходящего за пределы естественной грусти родителей, выдающих замуж единственное дитя. Просто так полагалось – поднять по поводу девичества Аснат и ее похищения как можно больше шума и выставить жениха в самом темном свете, хотя родители могли радоваться и, вероятно, действительно радовались тому совпадению (об этом недвусмысленно уведомил их фараон), что девственность встречалась тут с девственностью и что жених был тоже по-своему девой, сберегшим себя предметом упорной ревности, невестой, из которой теперь грядет жених. Свое жениховство он должен был согласовать с богом своего отца, женихом своего племени, с богом, чью ревность он так долго щадил, а теперь, Значит, перестал щадить или щадил лишь постольку, поскольку вступал в особый, образцово девственный брак – если это можно считать ограничением. Пожалуй, нам незачем тревожиться по поводу этого шага, несмотря ни на какие осложнения, которыми он был чреват; ведь Иосиф вступал в брак с египтянкой, в брак с Шеолом, в брак измаиловского толка, имевший, стало быть, прецедент, хотя и прецедент сомнительный, требующий всяческого снисхождения, на которое он, Иосиф, видимо, твердо рассчитывал. Учители и толкователи неоднократно на это досадовали и пытались замолчать этот факт. Чистоты ради они представляли дело так, будто Аснат была не родная дочь Потифара и его жены, а найденыш, брошенное в корзине и потом прибившееся к берегу дитя Дины, поруганной некогда дочери Иакова, и значит, женою Иосифа оказывалась его же племянница, но это не ахти как поправляло дело, поскольку племянница-то была кровью и плотью вертлявого Сихема, поклонявшегося баалам ханаанитянина. Кроме того, никакое почтение к учителям не помешает нам считать историю о найденном в камышах ребенке Дины тем, чем она является, а именно – благочестиво-хитроумной интерполяцией. Девушка Аснат была родной дочерью Потифара и его жены, чистокровной египтянкой, и сыновья, которых она потом подарила Иосифу, его наследники Ефрем и Манассия, были самыми обыкновенными полуегиптянами, – и пусть думают об этом все, что угодно. Но и это еще не все. Благодаря своей женитьбе на дочери Солнца сын Израиля приблизился к храму Атума-Ра, приблизился как жрец, что тоже входило в намерения фараона, когда он затевал этот брак. Было почти немыслимо, чтобы человек, занимающий такой высокий, как у Иосифа, государственный пост, не подвизался одновременно в качестве высокопоставленного жреца и не получал доходов от храма, и как супруг Аснат, Иосиф тоже делал то и другое, что бы там ни говорили по этому поводу: он стал, грубо выражаясь, владельцем идолопоклоннического прихода. В парадном его гардеробе была теперь леопардовая шкура, и при случае, как лицу официальному, ему приходилось кадить кумиру, соколу Горахте с солнечным диском на голове.
С тех пор мало кто вникал в эти вещи, и многие, наверно, поразятся, услыхав, как их называют своими именами. Но для Иосифа явно наступила пора дозволений, и можно не сомневаться, что он сумел уладить все это с тем, кто отторг его от семьи, переселил в Египет и там вознес. Может быть, Иосиф предполагал в нем приверженность к философии треугольника, согласно которой жертва, принесенная на алавастровый стол предупредительного Горахте, не наносит ущерба никакому другому божеству. В конце концов речь шла не о первом попавшемся храме, а о храме владыки широкого горизонта, поэтому Иосиф мог повернуть дело так, что, мол, ошибкой и глупостью, то есть грехом, было бы как раз навязывать богу его отцов более узкий горизонт, чем Атуму-Ра. И наконец, нельзя забывать, что из этого бога недавно вышел Атон, которого, – как соглашался Иосиф с фараоном, – молясь, нужно было называть не Атоном, а владыкой Атона и не «отче наш на небесех», а «отче наш в небесех». Вот на что мог сослаться отторгнутый от дома и вознесшийся на чужбине Иосиф, когда в определенных, не частых, впрочем, случаях надевал свою леопардовую шкуру и шел кадить.
Своеобразен был жребий первенца Рахили, отчужденного любимца Иакова. Дарованная ему индульгенция была уступкой мирским обстоятельствам, которые, со своей стороны, помешали образоваться «колену Иосифа», как образовались колена Иссахара, Дана и Гада. Его роль и задача в замысле были ролью и задачей перенесенного в большой мир хранителя, кормильца и спасителя рода, как мы увидим, и все говорит за то, что он сознавал или, во всяком случае, чувствовал эту миссию, видя в мирской своей отчужденности не отверженность, а лишь целенаправленную обособленность, и что на этом-то и основывалась его вера в снисходительность владыки замыслов.
У Иосифа свадьба
Итак, девушка Аснат была послана с двадцатью четырьмя особо отобранными рабынями вверх в Менфе, в дом Иосифа, на девственную свадьбу, куда из Она поднялись и ее высокопреподобные, убитые непостижимым разбоем родители и куда из Новет-Амуна спустился сам фараон, чтобы, участвуя в таинствах этого бракосочетания, собственноручно передать своему фавориту его редкостную невесту и, как опытный супруг, снова заверить его, что женитьба сулит много приятного. Надо заметить, что из двадцати четырех молодых и красивых служанок, прибывших с Аснат и вместе с ней перешедших в собственность Темного Жениха, что невольно наводит на мысль о приближенных царя, которых прежде заживо с ним хоронили, – что двенадцать из них обязаны были ликовать, рассыпать цветы и играть на музыкальных инструментах, а другие двенадцать – плакать и колотить себя в грудь; ибо свадебные церемонии, происходившие в доме славы Иосифа и особенно в освещенном факелами квадрате фонтанного двора, куда выходили все комнаты, – эти обряды очень смахивали на похороны, и если мы не описываем их во всех подробностях, то причиной тому некая оглядка на старого Иакова, который так ошибочно считал своего любимца, навек семнадцатилетнего, сокрытым смертью и при виде многого из того, что сейчас учинялось на его свадьбе, всплеснул бы руками. Это подтвердило бы его достопочтенные предубеждения против «Мицраима», Страны Ила, и их-то мы и надеемся до некоторой степени пощадить, описывая эти обряды без обстоятельности, которая была бы равнозначна их одобрению.
За его спиной можно признать, что между свадьбой и смертью, брачным ложем и могилой, лишением девственности и убийством существует известное родство – отчего в каждом женихе есть что-то от умыкающего свою жертву бога смерти. Сходства между судьбой девушки, закутанной жертвы, переступающей важный жизненный рубеж между девичеством и замужеством, и судьбой зерна, брошенного в недра земли, чтобы оно там истлело и вышло из тленья на свет таким же девственным, как прежде, зерном, – сходства этого, конечно, нельзя отрицать; и срезанный серпом колос – это печальная аллегория насильственной оторванности дочери от матери, – которая, впрочем, тоже когда-то была девой и жертвой и тоже была срезана серпом, так что в судьбе дочери оживает заново ее собственная судьба. Поэтому в продуманном управляющим Маи-Сахме убранстве дома, вернее, окаймленного колоннадой фонтанного двора, серп играл заметную роль; столь же значительную роль играли в зрелищах, показанных гостям перед свадебным пиром и после него, зерно, семена: мужчины высыпали его на каменные плиты и под определенные возгласы поливали из заранее приготовленных кувшинов водой; женщины носили на голове сосуды, один отсек которых был наполнен семенами, тогда как в другом горела свеча. Ведь праздник этот протекал вечером, и что в увешанных пестрыми тканями и украшенных миртовыми ветками помещениях горело много факелов, было в порядке вещей. Но этих огней, почти неизбежно создающих представление, будто они должны освещать покои, куда дневному свету нет доступа, было здесь такое подчеркнутое обилие, что оно, конечно же, не вызывалось практической необходимостью и находилось в прямой связи с упомянутым представлением. В каждой руке по факелу или в одной руке два носила время от времени мать невесты, жена Потифара, если ее можно назвать так, не вызвав недоразумения, трагического вида женщина, с головы до ног закутанная в темно-фиалковую одежду, и факельщиками были все мужчины и женщины, участвовавшие в большом шествии, главном акте праздника, которое следовало сначала через все комнаты дома, а затем, в фонтанном дворе, где как высочайший гость, в самой небрежной позе, между Иосифом и закутанной в такое же, как у матери, фиалковое покрывало Аснат, сидел фараон, – развертывалось или, вернее, свертывалось в искусную и действительно достопримечательную факельную пляску; двигаясь налево девятью витками спирали, хоровод дымящих огней кружился вокруг фонтана; и то, что через руки пляшущих, повторяя все изгибы вращающегося лабиринта, пробегала красная лента, не помешало им увенчать свой выход подлинным фейерверком ловкости, когда они стали перебрасывать факелы из центра винта к его краям и обратно, без единого промаха.
Нужно увидеть это воочию, чтобы представить себе весь соблазн поведать об этом подробнее, чем того требует наше намерение соблюдать при описании свадьбы Иосифа сдержанность – из бережного уважения к старику, которого, окажись он здесь, многое, конечно, повергло бы в ужас. Но ведь он был далеко и был защищен представлением о вечной семнадцатилетнести Иосифа. К тому же с чисто зрелищной стороны ловкая игра факелами, несомненно, доставила бы ему удовольствие, если бы даже остальное и не пришлось ему по душе. Его склад ума был отцовским, и он, мягко сказать, не одобрил бы той заметной роли, которую играло на свадьбе его сына начало материнское, мнимоограбленная и сама в лице своей дочери похищенная, гневная и грозная мать девушки Аснат. Сказывалось это, в числе прочего, и в том, что мужчины и юноши, участвовавшие в спиральной пляске и в шествии, по крайней мере большинство их, были одеты по-женски, точнее говоря, так же, как невеста-мать, – а это в благочестивых глазах Иакова было бы, конечно, бааловской мерзостью. Они явно отождествляли себя с ней, мысленно перевоплощались в нее; закутанные в такие же фиалковые покрывала, как негодующая родительница, они тоже изображали негодование, время от времени беря факел в левую руку и грозно размахивая кулаком правой руки, что казалось особенно страшным из-за надетых ими масок, непохожих, правда, на почтенное лицо супруги Потифара, но леденивших сердце выражением злости и скорби – а тут еще размахиванье кулаками. Кроме того, у многих под покрывалом были поддельные, большие, как у беременных, животы – что изображало не то мать, все еще или снова уже носящую под сердцем девушку-жертву, не то дочь с новой девушкой-жертвой под сердцем, – они, наверно, и сами толком не знали, кого именно.
Мужчины и юноши с поддельными животами – это, конечно, было не для Иакова бен Ицхака, да и мы не хотим, чтобы в обстоятельности нашего отчета об этом усматривали одобренье подобных обрядов. Но для Иосифа, обособленного и пущенного в мир Иосифа, наступило время вольностей; сама его свадьба была одной из больших вольностей, и в определяющем этот час духе дозволенья и снисходительности повествуем мы о ее подробностях.
А они были, таким образом, отчасти веселого и озорного, отчасти же похоронного свойства – подобно тому как листья мирта, которыми, помимо покоев, были украшены все участники празднества (у иных были целые пучки миртовых веток в руках) – это принадлежность богов любви и мертвецов одновременно. Ликовавших и веселившихся под звуки кимвалов и бубнов в большом шествии было столько же, сколько таких, которые по всем правилам изображали горе и скорбь, ведя себя в точности так, словно они шагали в похоронной процессии. Надо, однако, добавить, что радость и скорбь участников праздника имели определенную градацию. Что касается скорби, то некоторые группы ограничивались, например, намеком на состояние неприкаянности и скитальчества: с заплечными мешками, опираясь на посохи, довольно-таки безутешно ковыляли они мимо царского кресла, мимо новобрачных и мимо высокопреподобных родителей, но при этом не голосили и не выжимали из себя слез. Различные степени наблюдались и в изображенье веселья. Оно принимало отчасти импозантные, полные достоинства формы, и приятно было глядеть, например, как люди расставляли перед почетными креслами прекрасные глиняные кувшины и торжественно опрокидывали их на восток и на запад, хором выкликая при этом – одни: «Излейся!», другие: «Восприми благодать!» Это было прекрасно. Но очень часто, и в течение вечера все больше и больше, радость и смех приобретали иную окраску, где задняя мысль всякого свадебного торжества, мысль о естественно-предстоящем, грубо прибивалась наружу; иными словами, идея мерзостного разбоя и убийства и идея плодородия смыкались друг с другом в своем непристойном аспекте, так что не было недостатка ни в прозрачных намеках, ни в подмигиваньях, ни в скользких недомолвках, ни в громком смехе над негромкими сальностями. Были в свадебном шествии и животные: лебедь и конь, при виде которых невеста-мать плотнее закутывалась в пурпуровое свое покрывало. Но что сказать по поводу того, что среди этих тварей имелась и супоросая свинья, к тому же со всадницей – толстой, полуобнаженной старухой самого двусмысленного вида, не перестававшей отпускать бесстыдные шутки? Неприличная эта наездница играла в свадебной церемонии хорошо знакомую, популярную и важную роль, да и раньше она уже играла ее, поскольку прибыла с матерью Аснат из Она и уже в дороге, чтобы развеселить убитую горем, прожужжала ей уши непристойными шутками. Такова были ее роль и обязанность. Она звалась «утешительницей» – этим прозвищем, выполняя обычай, величали ее со всех сторон, и она отвечала на него грубыми жестами. В течение всего вечера она почти не отходила от принципиально безутешной матери, стараясь ее все же утешить, то есть нашептывая скабрезности, запас которых был поистине неистощим, рассмешить. И это ей удавалось, потому что должно было удаваться: слушая ее шепот, оскорбленная, охваченная отчаянием и гневом мать нет-нет да и прятала смех в складках своего скорбного покрывала, и когда это случалось, все разражались смехом и шумно приветствовали искусную «утешительницу». Но поскольку горе и гнев матери были в основном лишь традиционно-показными, то надо полагать, что и смех ее был всего-навсего уступкой обычаю и что, дай она волю своим чувствам, нашептыванья «утешительницы» вызвали бы у нее лишь отвращенье. Непритворной веселость ее могла быть разве только в той мере, в какой непритворна естественная, а не мифически преувеличенная грусть матери, отдающей замуж дочь.
После всего этого, во всяком случае, понятно наше намерение не слишком распространяться насчет подробностей свадьбы Иосифа. Если мы своему намерению не верны, то вовсе не потому, что одобряем такие обряды. Да и на самих молодых, подавших друг другу руки на коленях у фараона, весь этот спектакль почти не произвел впечатления, и они куда больше глядели друг на друга, чем следили за неизбежным ритуалом праздника. Иосиф и Аснат очень понравились друг другу и прониклись взаимным расположением с первого взгляда. Разумеется, при таком, решенном другими представительном браке любовь отнюдь не первое дело; она должна прийти, и со временем, при доброй воле обеих сторон, приходит. Ей очень помогает уже одно сознание заданной связанности, но в этом случае условия для ее возникновения были просто на редкость благоприятны. Не только по терпеливому своему безволию с готовностью принимала Аснат свой жребий, то есть похитителя и убийцу ее девственности, который, схватив ее за специально для этого созданную тонкую талию, уносил ее в свое царство. Темно-прекрасный, умный и приветливый фаворит фараона внушал ей приязнь, способность которой перерасти в более глубокую близость не вызывала у нее сомнений, и мысль, что он должен стать отцом ее детей, была подобна раковине, выращивающей жемчужину любви. Так же обстояло дело и с обособленным от своего клана Иосифом в его состоянии чрезвычайной вольности. Он восхищался богом, поражаясь щедро мирской непредубежденности этого повеленья – как будто вечная мудрость не отдавала просто-напросто должного его собственной открытости миру – и предоставлял Ему уладить вытекающий из этого повеленья щекотливый вопрос об отношении детей Шеола к избранному народу. Но не нужно сетовать на вышедшего из девы жениха за то, что мысли его были заняты не столько ожидаемыми детьми, этой смесью бога и мира, сколько запретными доселе неизведанностями, которым они, во всяком случае, должны быть обязаны своим появленьем на свет. Что было некогда злом и не могло состояться, было ныне добром. Но погляди на существо, благодаря которому зло становится добром, погляди на него, когда у него такие прислушивающиеся глаза и такое милое, янтарного цвета лицо, как у девушки Аснат, и ты почувствуешь, что полюбишь, нет, что ты уже любишь его.
Фараон шагал между ними, когда в конце праздника новообразованное факельное шествие, к которому присоединились теперь все гости, направилось под ликованье и плач масок, рассыпавших миртовые ветки и размахивавших кулаками, к спальне, где новобрачным были постелены цветы и тонкие ткани. Когда родители, бормоча заклинания, прощались у порога с Аснат, всадница-утешительница стояла позади жены Потифара, чуть наискось от нее, и шептала через плечо охваченной отчаянием и гневом матери такое, что та и сквозь слезы смеялась. И разве действительно не смешно и не грустно то, чего по шаблону требует от людей телесное естество – скрепить любовь печатью, а в случае представительного брака – научиться любить? Колеблющимися тенями при свете лампады сливались смешное и возвышенное и в эту брачную ночь, когда девственность встретилась с девственностью и венец и покрывало наконец порвались – не без труда порвались. Ибо щитоносицей, упрямой девственницей была та, кого обнимали темные руки, «девушка», как ее называли, и с кровью и болью зачат был первенец Иосифа, Манассия, что значит: «Бог заставил меня забыть все мои узы и отчий дом».








