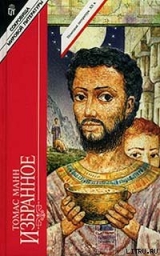
Текст книги "Иосиф-кормилец"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 39 страниц)
– Значит, ты юноша-прорицатель, так называемый вдохновенный агнец? – осведомился Аменхотеп. – Кажется, тебя можно отнести к этой категории. Испустишь ли ты дух с последними своими словами, в самозабвенном восторге предсказав царю будущее, чтобы царь торжественно похоронил тебя и записал твои пророчества на память потомству?
– Нелегко, – сказал Иосиф, – ответить на вопрос Великого Дома, на него нельзя ответить ни «да», ни «нет», а можно разве только «и да, и нет». Твой раб удивлен и до глубины сердца тронут тем, что ты благоволишь видеть в нем агнца, вдохновенного агнца. К этому имени я приучен с детства моим отцом, другом бога, называвшим меня «агнец» потому, что мою миловидную мать, ради которой он служил в Синеаре, за попятным потоком, звездную красавицу, что родила меня под знаком Девы, звали Рахиль, что значит «объягнившаяся овца». Это, однако, еще не дает мне права решительно подтвердить твое. Великий Господин, предположение, сказавши: «Да, это я», или «Да, таковым я являюсь»; ибо таковым я являюсь и вместе с тем не являюсь, поскольку являюсь им я как таковой, иными словами, поскольку, осуществляясь в частном, общая форма до неузнаваемости видоизменяется, так что знакомое становится незнакомым. Не жди, что с последним своим словом я испущу дух, потому что так положено. Твой раб, вызванный тобою из ямы, этого не ждет, ибо это имеет отношение только к форме, но не ко мне, в котором она видоизменяется. Не стану я, в отличие от образцового юноши-прорицателя, впадать и в самозабвенный восторг, если бог сподобит меня предсказать фараону будущее. Когда я был мальчиком, мне действительно ничего не стоило прийти в восторг, и я доставлял много забот отцу, закатывая глаза точь-в-точь как это делают всякие там рогатые и голые ведуны и гадатели. С годами сын от этого отучился и, даже толкуя сны, он верен разуму бога. В самом истолковании снов есть уже достаточная доля восторга; так незачем еще и бесноваться. Толкование должно быть толковым и ясным, а не какой-то авласавлалакавлой.
Говоря, Иосиф не глядел на мать, но краешком глаза он увидел, что она одобрительно кивает головой со своего высокого кресла. Раздался даже почти мужской, низкий и энергичный голос ее изящного тела:
– Чужеземец говорит фараону дельные и достойные внимания слова.
Иосифу ничего не осталось, как продолжать, ибо царь промолчал и повесил голову, надув губы, как мальчик, которого слегка отчитали.
– А спокойствие при толкованье и гаданье, – продолжал он после похвалы, – связано, по мнению этого ничтожного раба, с тем, что форма и традиция осуществляются не иначе как через «я», не иначе как через единично-частное, которое, по-моему, и накладывает на них печать божьего разума. Ибо традиционные образцы идут из глубины, что внизу, и нас связывают. А «я» от бога и принадлежит духу, а дух свободен. Для цивилизованной жизни связывающие нас дольние образцы должны преисполниться божественной свободы нашего «я», и не может быть цивилизации без того и другого.
Аменхотеп, высоко подняв брови, взглянул на мать и стал аплодировать, похлопывая двумя пальцами одной руки по ладони другой.
– Ты слышишь, маменька? – заговорил он. – Мое величество пригласило очень рассудительного и одаренного молодого человека. Вспомни, пожалуйста, что именно я, и притом по собственному усмотрению, призвал его ко двору! Фараон тоже очень одарен и развит для своих лет, но он не уверен, что сумел бы так складно сопоставить вяжущий образец глубины с достоинством небес. Ты, значит, – спросил он, – не связан вяжущим образцом беснующегося агнца и не станешь надрывать фараону сердце традиционными предсказаниями ужасной беды и вторжения чужеземных народов, когда все, что было внизу, окажется наверху?
Он вздрогнул.
– Это известно, – сказал он бледнеющими губами. – Но мое величество должно щадить себя, оно плохо переносит все дикое и нуждается в приятном и нежном. Страна погибла, она охвачена мятежом, бедуины рыщут по ней, богатые стали бедными, а бедные богатыми, законов больше нет, сын убивает отца, а брат – брата, звери пустыни пьют из водоотводов, люди смеются смехом смерти, Ра отвернулся, никто не знает, когда полдень, ибо не видно тени солнечных часов, нищие поедают жертвенные дары, царя волокут в плен, и остается только одно утешение, что придет спаситель и все поправит! Так вот, этой песни фараон не услышит? Можно ли надеяться, что обновление традиционного единично-особенным исключит подобные страсти?
Иосиф улыбнулся. Именно сейчас он произнес те запечатленные слова, которые так часто хвалили как пример вежливости и находчивости:
– Бог даст ответ во благо фараону.
– Ты говоришь «бог», – продолжал допытываться фараон. – Ты уже много раз говорил «бог». Какого бога ты имеешь в виду? Поскольку ты родом из Аму и Захи, ты, по-видимому, имеешь в виду быка полей, которого на Востоке называют Баалом, господом?
Улыбка Иосифа стала загадочной. Он покачал головой.
– Мои отцы, мечтатели бога, – ответил он, – заключили союз с другим господом.
– Тогда это может быть только Адонаи, – быстро сказал царь, – воскресающий жених, о котором плачет флейта в ущельях. Ты видишь, фараон хорошо разбирается в богах человеческих. Он должен все испытать и узнать, он должен, как золотоискатель, добывать из груды нелепиц крупицы истины, чтобы они помогали ему усовершенствовать учение о его достопочтенном отце. Фараону тяжело, но ему и хорошо, очень хорошо, и такова доля царя. Я понял это благодаря своей одаренности. Кому тяжело, тому должно быть и хорошо, но только ему. Ибо если тебе только хорошо, то это тошнотворно; но если тебе только тяжело, то это тоже не годится. Так же как во время большого праздника дани мое величество сидит рядом со своей Сладчайшей супругой в прекрасном Павильоне Присутствия, а посланцы народов – мавры, ливийцы и азиаты – проходят мимо меня нескончаемой вереницей с приношениями со всего мира, с золотом в слитках и кольцах, со слоновой костью, серебром в виде ваз, страусовыми перьями, коровами, виссоном, гепардами и слонами, – точно так же сидит Владыка Венцов в прекрасном своем дворце посреди мира, с подобающими ему удобствами, принимая в дар мысли всей населенной земли. Как мне было уже угодно упомянуть, певцы и пророки чужих богов, сменяя друг друга, прибывают к моему двору отовсюду – из славной своими садами Персии, где считают, что земля станет некогда плоской и ровной, а у всех людей будут одинаковые обычаи, законы и язык; из Индии, страны, где родится ладан, из сведущего в звездах Вавилона и с островов моря. Они все навещают меня и проходят мимо моего престола, и мое величество беседует с ними, как сейчас оно беседует с тобой, недюжинным агнцем. Они докладывают мне о раннем и о позднем, о старом и о новом. Иногда они оставляют на память замечательные подарки и божественные регалии. Видишь эту штуку?
И он поднял с колен выпуклый струнный инструмент и показал его Иосифу.
– Лютня, – определил тот. – Фараону и впрямь подобает держать в рунах знак прелести и доброты.
А сказал он это потому, что письменным знаком египетского слова «ноферт», которое переводится как «прелесть» или «доброта», служит лютня.
– Я вижу, – ответил царь, – что ты разбираешься в искусствах Тота и что ты писец. Я думаю, что это связано с достоинством «я», в котором осуществляется вяжущий образец глубины. Но эта штука обозначает не только прелесть и доброту, но и нечто другое, а именно лукавство одного чужеземного бога, который доводится не то братом, не то другой ипостасью Ибисоголовому и еще ребенком изобрел этот инструмент, встретившись с одним животным. Ты знаешь, что это за раковина?
– Это панцирь черепахи, – сказал Иосиф.
– Верно, – подтвердил Аменхотеп. – С этим мудрым животным и встретился в детстве этот хитрый, родившийся в пещере среди скал бог, и оно пало жертвой его хитроумия. Дерзко отняв у него полый панцирь, он натянул на панцирь струны и прикрепил к нему, как видишь, два рога: так получилась лира. Я не говорю, что это именно тот инструмент, который был изготовлен лукавым богом. Не утверждал этого и тот, кто привез его мне и подарил, один мореплаватель с Крита. Просто, наверно, в шутку и в знак благочестивой памяти эта лютня сделана по образцу той, да и была она лишь придачей ко множеству историй, которые критянин рассказал фараону об этом младенце пещеры. Ибо малыш то и дело выпрастывался из пеленок и убегал из пещеры, чтобы выкинуть какую-нибудь штуку. Так, например, хоть в это и не верится, он увел с холма, где они паслись, говяд своего брата, бога Солнца, когда тот закатился. Их было пятьдесят, и он гонял их во всех направлениях, чтобы их следы спутались; а собственные свои следы он изменил, подвязав к ногам огромные, из плетеных веток сандалии, – он оставил исполинские следы и в то же время вообще не оставил следов, и это, видимо, правомерно; ибо он был хоть и ребенком, но богом, и детству его вполне подобали какие-то непонятные следы исполинских размеров. Угнав говяд, он укрыл их в пещере, – не в той, где родился, а в другой, благо пещер там множество, – но двух коров он по дороге зарезал и зажарил у реки на сильном огне. Он съел их, грудной младенец, и эта исполинская трапеза ребенка вполне подходила к его следам.
– Сделав все это, – продолжал в той же, более чем удобной позе Аменхотеп, – вороватый младенец улизнул в свою родную пещеру и улегся в пеленки. Когда же бог Солнца снова взошел и хватился своих говяд, он принялся гадать себе, ибо он был богом-гадателем, и узнал, что это мог натворить только его новорожденный брат. Он вошел к нему в пещеру, пылая гневом. При звуке его шагов разбойник сжался в комок в своих божественно благоухавших пеленках и притворился, что спит сном невинности, обняв одной рукой лиру. И как ловко лгал этот лицемер, когда его солнечный брат, которого никакие уловки не могли ввести в заблуждение, с угрозами призвал его к ответу за воровство! «У меня, – лепетал он, – совсем другие заботы: сладкий сон, материнское молоко, пеленки, чтобы укутать плечи, да теплые омовенья». А потом, по словам мореплавателя, он поклялся великой клятвой, что о говядах и знать не знает. – Я тебе не наскучил, маменька? – прервал себя царь, повернувшись к восседавшей на престоле богине.
– С тех пор как я избавилась от заботы об управлении странами, – отвечала она, – у меня много лишнего времени. Я могу убить его на истории чужеземных богов с таким же толком, как на что-либо другое. Только мир, кажется мне, вывернулся наизнанку: обычно царь слушает рассказы, а твое величество рассказывает само.
– А почему бы и нет? – возразил Аменхотеп. – Фараон должен учить. И если он чему-то научился, ему не терпится научить этому других. Моя матушка недовольна, конечно же, тем, – продолжал он с движением пальцев, как бы объясняя ей ее же слова, – что фараон не спешит рассказать этому разумно-вдохновенному агнцу свои сновиденья, чтобы услыхать наконец правду о них. Ибо в том, что я получу от него правдивое истолкование, меня уже почти уверили его утешительная внешность и некоторые его высказывания. Кроме того, мое величество не боится его прорицаний, ибо он обещал мне, что гадать будет не по образцу бесноватых юношей, не ужасая меня пророчествами вроде того, что нищие станут пожирать жертвенные дары. И разве ты не знаешь удивительного свойства души человеческой добровольно оттягивать исполнение самого большого желания, когда это желание должно наконец-то сбыться? Оно и так исполняется, говорит себе человек, и окончательное его исполнение зависит лишь от меня; поэтому я с таким же успехом могу еще немного помешкать, ибо само желанье и ожиданье мне как-то даже полюбилось, и его до некоторой степени жаль. Такова человеческая природа, и поскольку фараон считает важным быть человеком, он поступает так же.
Тейе улыбнулась.
– Как бы твое дорогое величество ни поступило, – сказала она, – мы найдем это прекрасным. Поскольку этот прорицатель не имеет права задавать тебе вопросы, задам вопрос я: сошло ли с рук злокозненному младенцу его клятвопреступление или дело на этом не кончилось?
– Не кончилось, – отвечал Аменхотеп, – не кончилось, если верить моему рассказчику. Связав вора, солнечный брат привел его к отцу, великому богу, чтобы младенец признался в содеянном, а отец его наказал. Но и там этот хитрец стал отрицать свою вину в лукавых, мнимоблагочестивых речах. «Я, – лепетал он, – высоко чту Солнце и всех других богов, я люблю тебя и боюсь брата… А ты защити младшего, помоги мне, ребенку!» Так притворялся он, хитро выпячивая прекрасные преимущества младшего, но при этом одним глазом подмигивал отцу, который в конце концов громко рассмеялся и только приказал наглецу показать и выдать брату украденных говяд, чем тот и удовлетворился. Правда, когда старший обнаружил недостачу двух коров, гнев его вспыхнул с новой силой. Но покуда он угрожал и бранился, младший играл на своей черепахе – вот на этой – и под бряцанье струн его песни звучали так сладостно, что брань утихла и солнечный бог загорелся одним желаньем: завладеть лирой. И она досталась ему; ибо они заключили между собой договор: говяда остались разбойнику, а лиру получил его брат – и получил навеки.
Фараон умолк и с улыбкой поглядел на памятный дар, лежавший у него на коленях.
– Весьма поучительным образом, – сказала мать, – отсрочил фараон исполнение самого заветного своего желания.
– Поучительно это постольку, – отвечал царь, – поскольку доказывает, что боги-дети только притворяются детьми, и притворяются из озорства. Ведь и этот сын пещеры, стоило лишь ему захотеть, оказывался ловким и сведущим юношей, находчивым помощником богов и людей. Каких только неведомых прежде вещей он не изобрел: письмо и счет, маслоделие и убедительно-хитроумную речь, которая не чурается и лжи, но лжет с обаяньем! Мой знакомец, мореплаватель, почитал его как своего покровителя. Ибо это, по словам критянина, бог благоприятного случая и счастливой находки, даритель благословения и благоденствия, полученного тем честным или даже немного нечестным путем, какой предоставит жизнь, вожатый и устроитель, который ведет людей извилистыми дорогами мира, с улыбкой оглядываясь назад и подняв жезл. Даже мертвых, сказал мореплаватель, он уводит в их лунное царство и управляет даже сновиденьями, ибо ко всему прочему он владыка сна, закрывающий этим своим посохом глаза людей, и в общем, при всей своей хитрости, добрый волшебник.
Взгляд фараона упал на Иосифа – тот стоял перед ним, откинув назад и одновременно немного склонив к плечу свою красивую и прекрасную голову, и глядел наискось вверх, на расписную стену, с ненапряженной и рассеянной улыбкой, как бы говорившей, что всего этого ему можно и не слушать.
– Известны ли тебе истории этого плутоватого бога, прорицатель? – спросил Аменхотеп.
Иосиф поспешно переменил позу. В виде исключения он вел себя неподобающим при дворе образом и теперь показал, что отдает себе в этом отчет. Показал он это даже несколько подчеркнуто, так что у фараона, который всегда все замечал, создалось впечатление, что испуг спохватившегося Иосифа был наигранным и что именно этого впечатления Иосиф и добивался. Фараон продлил свой вопрос, направив на Иосифа свои серые, с поволокой, как можно шире раскрытые глаза.
– Известны ли, высочайший государь? – отозвался тот. – И да, и нет – разреши твоему рабу ответить надвое!
– Ты довольно часто просишь о таком разрешении, – заметил фараон, – вернее, ты его даешь себе сам. Все твои речи содержат утвердительный и вместе с тем отрицательный ответ. Должно ли это мне нравиться? Ты являешься Бесноватым Юношей и вместе с тем не являешься им, потому что им являешься ты. Бог проделок известен тебе и вместе с тем неизвестен, потому что – что? Известен он тебе или нет?
– И тебе, владыка венцов, – отвечал Иосиф, – он в известном смысле известен издавна, поскольку ты назвал его далеким братом и даже другой ипостасью Джхути, ибисоголового писца и друга Луны. Так что же, известен он тебе или нет? Он тебе знаком. А это больше, чем известен, и благодаря знакомству мои «да» и «нет» тоже взаимно уничтожаются и становятся равнозначны. Нет, я не знал сына пещеры. Владыки проделок. Никогда мудрый Елиезер, Старший Раб моего отца и мой учитель, который вправе был говорить о себе, что земля скакала ему навстречу, когда он отправился за невестой для отвергнутой жертвы, отца моего отца… прости! Это долгая история, сейчас твоему слуге не время рассказывать тебе обо всем на свете. И все же ему запомнились, у него стоят в ушах слова божественной матери: так уж ведется в мире, что царь слушает рассказы, а не рассказывает сам. Я знаю множество проделок, которые доказали бы тебе, тебе и Великой Владычице, что дух плутоватого бога всегда был присущ людям и мне знаком.
Аменхотеп шутливо кивнул головой матери, словно бы говоря: «Ну и ну!»
– Богиня разрешает тебе, – сказал он затем, – поведать нам о какой-нибудь проделке, если ты думаешь, что сумеешь позабавить нас этим перед толкованием снов.
– Ты даруешь людям дыхание, – с поклоном сказал Иосиф. – Я воспользуюсь им, чтобы тебя развлечь.
И со скрещенными руками, выпрастывая порой одну кисть для большей живости описаний, он принялся рассказывать фараону:
– Космат был Исав, мой дядя, горный козел, близнец отца моего, заставивший его пропустить себя вперед при рожденье, – это был увалень красношерстный, а тот был гладок и тонок, шатролюбивый баловень матери, радетель бога, пастух, а не зверолов, как Исав; Иаков всегда был благословен, задолго до того часа, когда мой дед, отец обоих, решил передать дальше наследственное благословение, ибо жизнь его шла на убыль: старик был слеп, старые глаза уже не хотели его слушаться, никак не хотели, и видел он уже только руками, ощупью, а не взглядом. Вот он и призвал к себе своего старшего. Красного, любить которого себя заставлял. «Возьми, – сказал он, – свой лук, доброчестный мой сын, косматый мой первенец, и настреляй мне дичи, и свари мне из своей добычи острое кушанье, чтобы я поел и благословил тебя, на славу подкрепившись для благословенья едой!» Тот к пошел охотиться. А тем временем мать обложила гладкие члены младшего шкурой козленка и дала ему кушанье из мяса козленка, остро приправленное. И с этим кушаньем он вошел в шатер к господину своему и сказал: «Вот и я, отец мой, Исав, твой космач, который настрелял и наварил тебе дичи; поешь и благослови первенца своего!» – «Дай мне оглядеть тебя зрячими моими руками, – сказал слепец, – действительно ли ты космач мой Исав, ибо сказать это может каждый!» И он ощупал его и нащупал шкуру – повсюду, где не было платья, Иаков был космат, как Исав, хотя и не красен – но руки этого не могли видеть, а глаза не хотели. «Да, сомнений нет, это ты, – сказал этот старик, – я узнаю твою шерсть. Важно знать, гладок ты или космат, и как хорошо, что не нужно глаз, чтобы определить эту разницу: достаточно рук. Ты Исав, а потому накорми меня, и я тебя благословлю!» И он понюхал сына и поел и дал не тому, но именно тому, кому следовало, всю полноту не подлежащего отмене благословения. С ним Иаков и удалился. А потом пришел с поля Исав, он кичился и хвастался великим своим часом. У всех на виду сварил и приправил он свою дичь и понес ее отцу, но не в добрый час вошел этот простофиля в шатер, ибо его, неправедно праведного, незаконно заслуженного наследника, встретили как обманщика, потому что благодаря материнской хитрости его давно опередил наследник законно незаслуженный. Исав получил только проклятие, он был обречен жить в пустыне, ибо ничего другого, после того как Иаков унес благословение, для него не осталось. Ну и смех это был, ну и потеха, когда он сидел и вопил с высунутым языком, роняя в пыль крупные слезы, пентюх несчастный, которого околпачил дух многоопытности и ловкости.
Сын и родительница засмеялись: она – звучно, альтом, он – пронзительно и даже, пожалуй, фальцетом. Оба при этом качали головами.
– Подумать только, какая гротескная история! – воскликнул Аменхотеп. – Варварская побасенка – превосходная по-своему, хотя и несколько удручающая, так что даже не знаешь, как к ней и отнестись, и тебя разбирает и смех и сочувствие. Незаслуженно законный, говоришь ты, и незаконно заслуженный? Это, право, недурно, это замысловато и остроумно. Не дай бог никому обладать незаслуженно законными правами, чтобы ему в конце концов не пришлось вопить с высунутым языком, роняя в пыль крупные слезы! А как тебе нравится мать, маменька? Козлиные шкурки на гладкие места – вот как она помогла старику и его зрячим рукам, чтобы он благословил не того, но именно того, кого следовало! Признай, что я призвал ко двору весьма оригинального агнца!.. Еще об одной проделке, хабир, тебе разрешается рассказать моему величеству, дабы я мог судить, не была ли первая хороша лишь случайно и действительно ли дух ловкого бога тебе не только известен, но и близок. Говори же!
– Фараон молвит слово, – сказал Иосиф, – и дело готово. Благословенному пришлось бежать от ярости околпаченного, ему пришлось уехать, уехать в Нахараим, в страну Синеар, где у него жили родственники: Лаван, персть земная, хмурый деляга, и его дочери, одна красноглазая, а другая миловиднее, чем звезда, и она стала единственным, кроме бога, сокровищем беглеца. Но суровый дядя заставил его служить за звездную свою дочь семь лет, и они промелькнули для него как семь дней, а когда он отслужил их, Лаван подсунул ему в темноте сначала другую свою дочь, которой тот не хотел, но потом, правда, отдал ему и обещанную, Рахиль, объягнившуюся овцу, ту, что родила меня в сверхъестественных муках, и меня назвали Думузи, праведным сыном. Это между прочим. Когда же звездная дева оправилась от родов, отец захотел уйти со мной и с десятью сыновьями, рожденными ему неправедной женой и служанками, – или, вернее, притворился, что хочет уйти, притворился перед дядей, которому это не улыбалось, потому что ему шло на пользу благословение Иакова. «Отдай мне весь крапчатый скот своего стада! – сказал Иаков Лавану. – Пусть он будет моим, а весь одноцветный твоим – таково мое скромное условие». На том они и порешили. Но что сделал Иаков? Он взял прутьев от дерев и кустов и вырезал в их коре белые полосы, отчего прутья стали пятнистыми. Он положил их в водопойные корыта, куда приходил пить и возле которых, напившись, зачинал скот. Иаков неизменно заставлял овец глядеть во время совокупленья на пестрое, и это, через глаза, влияло на них таким образом, что они приносили пятнистый приплод. Так он сделался весьма и весьма богат, а Лаван остался ни с чем, одураченный духом хитроумного бога.
Снова донельзя веселились, качая головами, мать и сын. У царя от смеха болезненно вздулась жилка на лбу, а в его полузакрытых глазах сверкали слезы.
– Маменька, маменька, – сказал он, – моему величеству очень смешно и весело! Он взял прутья с пестрой нарезкой и повлиял на овец через глаза! Недаром, видно, существует выражение «веселая пестрота»! Фараона такая пестрота веселит. Жив ли он еще, твой отец? Это был, скажу я тебе, ловкач. Значит», ты сын плута и миловидной красавицы?
– Красавица тоже была плутовкой и воровкой, – уточнил Иосиф. – Проделок не чуралась и ее миловидность. Ведь украла же она, в угоду супругу, идолов хмурого своего отца и, спрятав их в верблюжьей соломе, села на них и сладкоголосо сказала: «Я нездорова, у меня месячные, поэтому я не могу встать». А Лаван искал до изнеможения.
– Одно другого лучше! – воскликнул, разражаясь смехом, Аменхотеп. – Нет, послушай, маменька, ты должна признать, что я призвал действительно оригинального агнца, красивого и забавного… Теперь пора, – определил он внезапно. – Фараон расположен услышать от этого разумного юноши толкование своих затруднительных снов. Я хочу услышать его, прежде чем на моих глазах окончательно высохнут эти слезы задушевной беседы! Ибо покуда глаза мои влажны от непривычного смеха, я не боюсь ни снов, ни их истолкования, чего бы оно ни сулило. Ведь этот потомственный плут не напророчит фараону всяких глупостей, вроде тех, что напророчили ему педанты из книгохранилища, и всяких ужасов. И даже если правда, которую он скажет, печальна, то не так она прозвучит в этих веселых устах, чтобы мои слезы сразу же совершенно изменили свой смысл. Прорицатель, нужно ли тебе какое-нибудь орудие или приспособление для твоей работы? Может быть, котел, который принимает сны и откуда выходит истолкование?
– Решительно ничего, – отвечал Иосиф. – Между землей и небом нет ничего, что понадобилось бы мне, чтобы сделать свое дело. Я гадаю бесхитростно, скромно и честно, как уж положит на душу бог. Фараону стоит только рассказать.
Царь откашлялся, поглядел несколько смущенно на мать и с легким поклоном извинился перед ней за то, что ей придется еще раз выслушать его сны. Затем, сверкая влажными глазами, в которых медленно высыхали слезы смеха, он добросовестно рассказал свои потускневшие видения в шестой раз – первое и второе.








