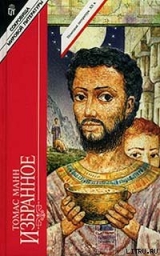
Текст книги "Иосиф-кормилец"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 39 страниц)
Исполненная решимости
С этой поры отвесные складки между бровями Фамари приобрели еще один, третий смысл. Они говорили теперь не только о ее злости на собственную красоту, не только о напряженной пытливости, но также и о решимости. Подтверждаем еще раз – Фамарь твердо решила, чего бы это ни стоило, вставить себя с помощью женского своего естества в историю мира. Вот как честолюбива она была. В эту непоколебимую и, поскольку все непоколебимое мрачновато, довольно мрачную решимость вылилось все ее религиозное рвение. У иных натур знание немедленно превращается в волю, более того, они затем, наверно, и стремятся к знанию, чтобы питать им свою волю, дать ей какую-то цель. Фамари достаточно было только узнать о мире и целеустремленности мира, чтобы принять категорическое решение связать с этой целеустремленностью женское свое естество и войти в мировую историю.
Само собой разумеется, в историю мира входит каждый. Стоит лишь тебе появиться на свет – и так или иначе, плохо ли, хорошо ли, ты уже вносишь крохотной своей жизнью какой-то вклад в целостный мировой процесс. Но большинство скромно остается на периферии, где-то далеко в стороне от главного события, не участвуя в нем, и, по сути, радуясь своей непричастности к его достославным действующим лицам. Фамарь презирала таких людей. Как только ее научили, она захотела или, вернее, она вняла учению, чтобы узнать, чего она хочет и чего не хочет. Она не хотела быть в стороне. Эта девушка хотела выйти на столбовую дорогу, дорогу обетованья. Она хотела войти в эту семью, включиться своим лоном в цепь поколений, которая вела к благу, уходя в даль времен. Она была женщиной обетованья, и пророчество относилось к ее семени. Она хотела быть одной из праматерей Шилоха.
Ни больше, ни меньше. Глубоко и прочно врезались между бархатными ее бровями отвесные складки. У них было уже три смысла, но не заставил себя ждать я четвертый, состоявший в завистливо-злобном пренебреженье к дочери Шуи, жене Иегуды. Этой бабище, оказавшейся на столбовой дороге и занявшей достославное место совершенно незаслуженно, без знанья и воли (ибо знанье и волю Фамарь считала заслугой), этому ничтожеству, сподобившемуся войти в историю, она не только не желала добра, но, не пытаясь даже скрыть это от самой себя, ненавидела ее самой женской ненавистью и желала бы ей, опять-таки вполне сознательно, смерти, если бы это еще имело смысл. Но это не имело смысла, ибо та родила Иуде уже трех сыновей, так что Фамари следовало бы желать смерти всем троим, чтобы поправить дело и освободить себе место рядом с наследником. Как наследника она и любила Иуду, и желала его – это была любовь честолюбия. Никогда, наверно, ни позже, ни тем более раньше, ни одна женщина не любила и не желала мужчину в такой мере не ради него самого, а ради определенной идеи, как Фамарь Иуду. То была новая основа любви, такого еще не бывало на свете, – любви, идущей не от плоти, а от мысли, любви, можно поэтому сказать, демонической, употребляя эпитет, приложимый и к тому волненью, которое, без всякого участия плоти, внушала мужчинам сама Фамарь.
Свое астартическое обаяние, вообще-то ее злившее, она, пожалуй, умышленно направила бы на Иуду, достаточно хорошо зная о его рабстве у этой владычицы, чтобы не сомневаться в победе. Но было уже поздно, – а «поздно» всегда означает: «не вовремя». Она опоздала, ее честолюбивая любовь пришлась не ко времени. В этом месте цепи она уже не могла включиться, не могла выйти на столбовую дорогу. Поэтому Фамарь должна была сделать во времени, в поколениях шаг вперед или вниз, она должна была сама переменить поколение, направив свое целеустремленное желанье туда, где ей хотелось бы стать матерью, – а мысленно ею легко было стать, поскольку в высокой сфере мать и возлюбленная всегда составляли единое целое. Короче говоря, с Иуды, наследника-сына, она должна была перевести взгляд на его сыновей, наследников-внуков, – которым она почти желала смерти, чтобы родить их, и притом лучших, самой, – сначала, разумеется, только на старшего, на мальчика Ира, ибо он был наследник.
Лично ее положенье во времени облегчало ей этот шаг вниз. Для Иуды она была бы не слишком молода, а для Ира она была не так уж стара. И все же она сделала этот шаг неохотно. Ее удерживала от него непорядочность этого поколенья, его болезненная, хотя и милая испорченность. Но ее честолюбие справилось с этой трудностью, оно должно было справиться с ней, иначе она была бы очень им недовольна. Оно сказало ей, что обетование не всегда выбирает многообещающие или хотя бы просто чистые пути; что порой, без всякого для себя ущерба, оно не гнушается неполноценно-сомнительным, даже скверным, что больное не обязательно порождает больное, что от него может взять начало проверенное, облагороженное, направленное ко благу бытие, особенно если на помощь придет та облагораживающая сила решимости, которая была у Фамари. К тому же отпрыски Иуды были ведь только выродившимися мужчинами. А все зависело от женщины, все дело было в том, чтобы здоровое начало укрепило именно самое ненадежное место цепи. К лону женщины относилось первое обетованье. Что толку было в мужчинах!
Но чтобы достичь цели, ей пришлось снова подняться во времени к третьему колену; иначе ничего не получалось. Да, она направила на упомянутого юнца астартическое свое обаяние, но его реакция оказалась ребяческой и порочной. Ир хотел только шутить с ней, а когда она в ответ нахмурила брови, он отступился и серьезного шага не сделал. Обратиться к Иуде, на ступеньку выше, не позволила ей деликатность; ведь желала или желала бы она, собственно, именно его, и если он этого не знал, то она это знала, и ей стыдно было желать его сына, которого она хотела бы ему родить. Поэтому она обратилась к Иакову, главе рода и своему учителю, к его исполненной достоинства и, разумеется, хорошо ей известной слабости к ней, Фамари, к слабости, которую она скорее ублажала, чем уязвляла, добиваясь приема в его семью и желая стать женой его внука. Она сделала это на том же месте, в шатре, где когда-то Иосиф уламывал старика подарить ему разноцветное платье, и ей оказалось легче добиться своего, чем ему.
– Наставник и господин, – говорила она, – дорогой и великий отец мой, выслушай рабыню свою, будь так добр, снизойди к ее просьбе, к ее непритворно страстной мольбе! Ты избрал меня и возвысил над дочерьми этой земли, ты дал мне знанья о мире и о единственном и всевышнем боге, ты открыл мне слепые дотоле глаза, ты образовал меня, и я считаю себя твоим твореньем. За то, что это выпало мне на долю, за то, что я нашла милость перед твоими очами, за то, что ты утешил меня и ласково заговорил со своей рабыней, да вознаградит тебя за все это господь, да вознаградит тебя сполна бог Израилев, к которому я пришла благодаря тебе и под чьими крылами обрела надежду и бодрость! Ибо, всячески оберегая душу свою от забвенья историй, которые ты дал мне увидеть, я буду хранить их в сердце всю свою жизнь. Своим детям и детям детей, если бог мне пошлет их, я поведаю эти истории, чтобы дети мои не погубили себя и никогда не творили себе кумиров, похожих на мужчину, на женщину, на скот земной, на птицу небесную, на гада или на рыбу; чтобы, подняв глаза и увидев солнце, луну и звезды, они не отступились от бога и не стали служить сонму светил. Твой народ – это мой народ, и твой бог – это мой бог. А потому, если он даст мне детей, их отцом никогда не будет мужчина из какого-нибудь чужого народа божьего. Иные из твоего дома, господин мой, берут себе в жены дочерей этой земли, одной из которые была и я, и приводят их к богу. Что же касается меня, родившейся теперь заново, меня, твоего творенья, то я не могу быть рабыней во браке человеку невежественному, поклоняющемуся кумирам из дерева и камня, которые изваяны руками умельца и лишены зренья, слуха и обонянья. Вот что натворил ты, отец мой, просветив меня и образовав: ты сделал душу мою разборчиво-тонкой, и я уже не могу жить жизнью невежественной толпы и не могу, выйдя замуж за первого встречного, отдать женское свое естество какому-то пентюху перед богом, как, наверно, по простоте сердечной и поступила бы при других обстоятельствах, – таковы невыгоды утонченности, таковы трудности, которые приносит с собой благо родство. А потому не сочти это наглостью, если твоя дочь и рабыня говорит тебе об ответственности, которую ты взял на себя, просветив и образовав ее; ты перед нею теперь почти в таком же долгу, как она перед тобой, потому что ты в ответе за ее благородство.
– Твои слова, дочь моя, – отвечал он, – исполнены силы и вполне разумны; не согласиться с ними нельзя. Но скажи мне, куда ты клонишь, ибо я этого еще не вижу, и поведай мне, что ты имеешь в виду, ибо это мне невдомек!
– Твоему народу, – сказала она, – принадлежу я душой и только ему могу я принадлежать плотью, женскою своей статью. Ты открыл мне глаза – позволь мне открыть глаза тебе! Есть у вашего ствола побег – Ир, первенец четвертого твоего сына, он как пальма у ручья, как стройная тростинка в низине. Поговори же с Иудой, со своим львом, чтобы он дал меня ему в жены!
Для Иакова это было полной неожиданностью.
– Вот куда ты клонишь, – отвечал он, – вот что ты имеешь в виду? Право, право же, мне это и в голову не пришло бы. Ты говорила мне об ответственности, которую я взял на себя, просветив тебя и образовав, и сама же загоняешь меня в тупик моей ответственностью. Конечно, я могу поговорить со своим львом и замолвить перед ним слово, но могу ли я быть за это в ответе? Мой дом примет тебя с распростертыми объятьями и скажет тебе: «Добро пожаловать!» Но разве я для того просветил и образовал тебя, чтобы обречь тебя на несчастье? Я не люблю злословить о ком-либо в Израиле, но ведь сыновья дочери Шуи – неудачное племя, это шалопаи перед господом, и я предпочитаю на них не глядеть. Право, мне трудно решиться и выполнить твою просьбу, ибо если эти юнцы и пригодны для брака, в чем я сомневаюсь, то, во всяком случае, не с тобой.
– Со мной, – сказала она твердо, – со мной, если даже больше ни с кем, – одумайся, отец мой и господин! Иуде на роду было написано иметь сыновей. Каковы бы они ни были, они от доброго семени, ибо в них семя Израиля, через них нельзя перепрыгнуть и нельзя заставить их выпасть, если только они не выпадут сами, не выдержав испытания жизнью. И им тоже суждено иметь сыновей, по меньшей мере одного сына, и суждено это, по меньшей мере, одному из них, первенцу Иру, тростинке и пальме. Я люблю его и хочу возвысить его своей любовью, сделать его героем в Израиле.
– Героиня, – возразил он, – ты сама, дочь моя, и я на тебя полагаюсь.
Так он пообещал ей замолвить за нее слово у своего льва Иуды, хотя сердце его было полно противоречивых чувств. Он любил эту женщину всеми оставшимися у него силами души и был рад одарить ее мужественностью, которая восходит к нему. Но ему было и жаль, и совестно, что мужественность эта не лучшего свойства. А в-третьих, он сам не знал почему, вся эта история внушала ему глухой ужас.
«Не благодаря нам!»
Иуда не оставался со своими братьями при отце, в роще Мамре, а, подружившись с человеком по имени Хира, пас скот ближе к равнине, на выгонах Одоллама, и там же жили в браке первенец его Ир с Фамарью, в браке, заключенном благодаря Иакову, который призвал к себе четвертого своего сына и замолвил перед ним слово за решительную просительницу. Почему Иуда должен был встать на дыбы? Он согласился на этот брак несколько, правда, хмуро, но согласился без долгих слов, и Фамарь, таким образом, была выдана замуж за Ира.
Нам не к лицу заглядывать за занавес этого брака; уже и тогда ни у кого не было охоты это делать, и всегда человечество излагало эти факты резко и лаконично, воздерживаясь от каких бы то ни было обвинений и соболезнований, справедливое распределение которых всегда представлялось ему делом слишком уж затруднительным. Несчастье породили, с одной стороны, честолюбивое отношенье к истории, соединенное со свойствами астартического характера, а с другой – юношеское бессилие, не выдержавшее серьезного испытания жизнью. Самое лучшее – последовать примеру предания, резко и лаконично сообщив, что вскоре после свадьбы первенец Иуды Ир умер, или – как это сказано там – что его умертвил господь: ну, конечно, от господа все, и все, что происходит на свете, можно определить как дело его рук. Этот юноша умер в объятиях Фамари от горлового кровотеченья, которое вызвало бы смерть, даже если бы он и не захлебнулся кровью; иные даже порадуются, что умер он, по крайней мере, не как собака, не в одиночестве, а в объятьях жены, хотя и это достаточно тягостная картина, – женщина, обрызганная кровью, в которой были жизнь и смерть ее молодого супруга. Нахмурив брови, она встала, омылась и потребовала в мужья второго сына Иуды – Онана.
В решимости этой женщины всегда было что-то ошеломляющее. Она поднялась к Иакову и пожаловалась ему на свою беду, она пожаловалась ему в известной мере на бога, так что старик смутился за Иа.
– Мой муж умер, – сказала она. – Ир, твой внук, скоропостижно, в мгновение ока! Можно ли это понять? Как может бог сделать такое?
– Он все может, – ответил Иаков. – Смирись! Порою он делает самое невероятное, ибо всемогущество – это, если подумать, великий соблазн. Смотри на это как на пережиток хаоса! Иногда он вдруг нападет на кого-нибудь и умертвит его ни за что ни про что, без всякого объяснения.
– Я мирюсь, – возразила она, – с произволом бога, но не со своей участью, ибо вдовства своего не признаю, не могу, не имею права признать. Если выпал один, его должен сразу заменить следующий, чтобы не погасла искра, которая еще жива во мне, и чтобы от мужа моего остались на земле имя и след. Я забочусь не о себе и не об умерщвленном, а об общем и вечном. Ты должен, отец-господин, замолвить перед Израилем слово и установить правило, что если один из братьев умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен заменить умершего и жить с нею. А первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле!
– А если он не захочет, – возразил Иаков, – жениться на невестке?
– В этом случае, – твердо сказала Фамарь, – она должна выйти и во всеуслышание заявить: «Деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда нужно призвать его и поговорить с ним. И если он станет и скажет: «Не хочу взять ее», – пусть она при всех подойдет к нему, и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лицо его и скажет: «Так надо поступать с каждым, кто не созидает дома брату своему». И пусть ему будет имя «Разутый»!
– Тогда он, пожалуй, одумается, – сказал Иаков. – И ты права, дочь моя, мне легче будет замолвить слово перед Иудой, чтобы он дал тебе в мужья Онана, если я возведу это в правило и сошлюсь на закон, который провозглашу под деревом наставленья.
Брак с деверем, введенный по ходатайству Фамари, был делом историческим. Да, историческое манило эту деревенскую девушку. Без вдовства получала она в мужья юнца Онана, хотя Иуду этот примирительный брак по боковой линии не очень-то радовал, а деверя, о котором шла речь, и того меньше. Вызванный отцом с одолламского пастбища, Иегуда долго упорствовал, считая, что не следует повторять со вторым того, что так злосчастно кончилось с первым. К тому же, – говорил он, – Онану всего двадцать лет, и если он вообще создан для брака, то уж, во всяком случае, не созрел для него и не склонен к нему.
– Но она снимет с него сапог и сделает все прочее, если он откажется восстановить дом своего брата, и его будут всю жизнь звать «Разутый».
– Ты делаешь вид, Израиль, – сказал Иуда, – будто так водится, хотя сам только что ввел это, и я знаю, по чьему совету.
– Устами этой девушки говорит бог, – ответил Иаков. – Он привел ее ко мне, чтобы я познакомил ее с ним и чтобы он мог говорить ее устами.
Тогда Иуда перестал спорить и женил сына.
Заглядывать в альковы – ниже достоинства этого рассказчика. Итак, не вдаваясь в подробности – второй сын Иуды, юноша в своем роде, то есть в каком-то сомнительном роде, красивый и миловидный, человек волевой, волевой в смысле органичной строптивости, равнозначной приговору самому себе и отрицанию жизни в нем самом. Не собственной его жизни, ибо себя он очень любил и наряжался и подкрашивался самым щегольским образом; но всякому продолжению жизни после него и благодаря ему он внутренне говорил «нет». Известно, что он был недоволен ролью супруга-заменщика, восстанавливающего семя не себе, а своему брату. Это верно: на словах и даже в мыслях он мог изображать дело именно так. Но в действительности, которую слова и мысли только перефразируют, все это потомство Иуды всегда знало, что оно представляет собой тупик и что по каким бы дорогам ни пошла жизнь, она должна будет, она захочет, она сумеет, она посмеет пойти дальше, во всяком случае, не благодаря им. Не благодаря нам! – говорили они в один голос и были по-своему правы. Жизнь и созреванье могли идти своими дорогами; братья на это плевали. Особенно плевал на это Онан, и смазливая его миловидность выражала лишь себялюбие того, на котором все кончится.
Вынужденный вступить в брак, он решил посмеяться над лоном. Но он не учел честолюбья, астартически вооруженного честолюбья Фамари, которое противостояло его строптивости, как одна грозовая туча другой, и породило с нею разряжающую молнию смерти. Он умер в ее объятьях от внезапного удара, в один миг. Мозг его сковало, и он скончался.
Фамарь поднялась и сразу потребовала, чтобы теперь ей дали в мужья младшего сына Иуды, Шелу, которому было только шестнадцать лет. Если кто-либо назовет ее самой поразительной фигурой всей этой истории, мы не осмелимся ему возразить.
На этот раз она не добилась своего. Заколебался уже и сам Иаков – хотя лишь в ожидании выразительного протеста Иуды, протеста, который не заставил себя долго ждать. Иуду называли львом, но за последнего своего мальчика, чего бы тот ни стоил, он вступился, как львица, и не дал согласия.
– Ни за что! – сказал он. – Чтобы он тоже погиб у меня, – да? – кровавой смертью, как первый, или бескровной, как второй? Нет, не приведи бог, ни в коем случае! Я повиновался твоему приказу, Израиль, и поспешил подняться к тебе с равнины, от свойственников, среди которых дочь Шуи родила мне этого сына и где она теперь лежит больная. Ибо она больна и должна умереть, и если Шела тоже умрет у меня, я буду гол. Тут нет никакого неповиновения, ибо ты, конечно, не отдашь мне такого приказа, ты просто высказываешь соображение, в котором сам сомневаешься. Но у меня нет сомнений, и я скажу сразу, скажу от своего и от твоего имени: «Нет и нет». Что думает эта женщина, неужели я отдам ей и своего барашка, чтобы она поглотила его? Это Иштар, убивающая своих возлюбленных! Это ненасытная пожирательница юнцов! К тому же он еще дитя малолетнее, и не место этому ягненку в загоне ее объятий.
И действительно, Шелу никак нельзя было представить себе женатым – по крайней мере теперь. Безусый, высокоголосый, самодовольно-никчемный, он походил больше на ангела, чем на дитя человеческое.
– А сапог и все прочее, – помедлив, напомнил Иаков, – если этот мальчик откажется воздвигнуть дом брату своему?
– На это у меня найдется ответ, господин мой, – сказал Иуда. – Если эта хищница не наденет сейчас одежду скорби, не угомонится и не захочет, как то подобает вдове, потерявшей двух мужей, скромно скорбеть в доме отца своего, я сам – не будь я твоим четвертым сыном – сниму с нее при всем народе сапог и, сделав все остальное, открыто назову ее вампиром, чтобы ее побили камнями или сожгли.
– Ты слишком далеко заходишь в своем недовольстве, – сказал уязвленный Иаков.
– Слишком далеко? А как далеко зашел бы ты, если бы у тебя захотели отнять твоего Вениамина, отправив его, например, в опаснейший путь? А ведь он не последний твой сын, а только младший. Ты охраняешь его с посохом в руках, ты не спускаешь с него глаз, чтобы он не потерялся, ему и отлучиться почти нельзя. Ну, так Шела – это мой Вениамин, и я противлюсь, все во мне противится его выдаче!
– Давай, – сказал Иаков, на которого этот довод сильно подействовал, – решим дело полюбовно, чтобы выиграть время, не оскорбляя твоей снохи. Не будем отказывать ей, а дадим ее желанию остыть. Ступай и скажи ей: мой сын Шела слишком еще мал и даже отстал от своих лет. Поживи вдовою в доме отца своего, покуда мальчик не вырастет, и тогда я отдам его тебе, чтобы он восстановил семя своему брату. Так мы утихомирим ее желание на несколько лет, ибо напомнить о нем она сможет лишь по их истеченьи. А вдруг она привыкнет к вдовству и вообще не станет напоминать? Ну, а если все-таки напомнит, мы уговорим ее подождать, более или менее справедливо заявив ей, что сын твой все еще недостаточно вырос.
– Пусть будет так, – сказал Иуда. – Мне совершенно безразлично, что мы ей скажем, только бы уберечь нежную надменность от жарких объятий Молоха.








