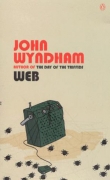Текст книги "Паутина земли"
Автор книги: Том Вулф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)
«Надо во что-то обуться, – он говорит, – не то все ноги располосую в горах, а тогда, – говорит, – если я идти не смогу, мне конец. Изловят как пить дать». – «Понятное дело», – говорю. «Вот, – говорит, – я и зашел к тебе, Элиза. Я знаю, что ты меня не выдашь и что я могу надеяться на твою помощь. Ты, – говорит, – сама видишь, ноги у меня страшенного размера, и единственный, – говорит, – чьи башмаки на меня налезут, это мистер Ганг. Если бы ты дала мне его старые башмаки – какие-нибудь, все равно, я тебе за них заплачу. У меня много денег, – и вытаскивает толстенный сверток: неплохо его снарядили в дорогу, – я заплачу за них, сколько ты назначишь». Я головой покачала и говорю: «Нет, Эд, не нужны мне твои деньги. – Да я бы и прикоснуться к ним не смогла, как будто кровь на них. – А башмаки я тебе дам». Пошла в чулан и вынесла ему прекрасные новые штиблеты, сударь мой, – твой папа купил их месяца два назад – и в хорошем состоянии, потому что он вещи носил очень аккуратно. «На, – я говорю, – надеюсь, что они тебе подойдут». Ну, он надел их не сходя с места, и они оказались впору, словно на него шиты. И знаешь, хоть и убийца, а какое-то чувство в нем все же осталось: взял он меня за руку, заплакал и говорит: «Я буду помнить это до самой смерти. Если я смогу тебя чем-нибудь отблагодарить, – говорит, – я все на свете сделаю». – «Да, ты можешь сделать одну вещь, – отвечаю, – сделать прямо здесь и сию минуту». – «Что?» – он спрашивает. «Я не хочу твоих денег, – говорю, – я к ним не притронусь. Ты можешь взять башмаки, Эд, и надеюсь, они помогут тебе спастись. Башмаки тебе нужны, – говорю, – но пистолет, который у тебя в заднем кармане, он тебе не нужен». Я же заметила его, понимаешь, вот таким бугром выпирает при каждом шаге. «Достаточно ты пролил чужой крови, – говорю, – и что бы с тобой ни сталось, поймают тебя или нет, не дай мне бог услышать, что ты еще кого-то хотя бы оцарапал. Давай-ка мне этот пистолет, – говорю, – да ступай. Если тебя поймают, пистолет этот тебе не поможет».
– Ну, он посмотрел на меня, словно никак не мог решиться, а потом отдал. «Ладно, – говорит, – наверно, ты права. Не думаю, что от него будет много проку, а главное, если и поймают меня, мне все равно. Я столько в своей жизни совершил преступлений, что теперь, – говорит, – мне все равно, что со мной будет. Конец – так конец, и слава богу». – «Нет, – говорю, – не нравится мне твой разговор. У тебя жена, которая стояла за тебя горой, у тебя маленькие дети, и пора уже, – говорю, – тебе о них подумать. Уезжай куда-нибудь, где никто тебя не знает, начни новую жизнь, а когда все наладится, вызови ее; и я ее знаю, – говорю, а сама смотрю ему в глаза, – я знаю ее: она приедет».
Ну, тут он уже не выдержал. Говорить не мог, отвернулся, а потом сказал: «Ладно. Я попробую!» А я ему говорю: «Ну, ступай теперь. Не хочу я, чтобы тебя тут застали, – говорю, – и надеюсь, что все у тебя обойдется». – «Прощай, – он говорит, – с нынешнего дня я постараюсь зажить по-новому». – «Да, ты должен постараться. Тебе надо искупить зло, которое ты причинил. Ступай, – говорю ему, – и не греши больше».
Ну, и он ушел. Я слышала, как скрипнула проволочная изгородь, и увидела, как он шел по улице – наверно, к горе. Удрал он все-таки. Больше я его не видела.
Ну, не проходит и десяти минут, как он является – твой папа, значит, – весь взбудораженный новостью, которую, как он думает, надо мне сообщить.
«Ну, – говорит, – они удрали, все пятеро. Хенсли с целой оравой выбил окна в магазине у Блэка, чтобы ружья взять, и теперь гонится за ними со своим ополчением».
«Да, – говорю, – и надо тебе было в такую даль бежать за этой новостью? В другой раз, когда сорвешься, принеси посвежее что-нибудь, чего я не знаю». – «А? – он говорит. – Откуда ты знаешь? Ты слышала об этом?» – «Слышала?! – говорю. – Да ты за всю жизнь не услышишь того, что я слышала. У меня сведения из первых рук, – говорю, – и мне не надо было за ними из дома бегать». – «Что? – он говорит. – Как так? Что это значит?» – «Ко мне, – говорю, – гость заходил, пока тебя не было». – «Кто?» – он спрашивает. А я посмотрела на него и отвечаю: «Эд Мирс тут был». – «Господи Иисусе! – твой папа говорит. – Ты хочешь сказать, что убийца был здесь, в моем доме? Ты подняла тревогу? – спрашивает. – Сказала соседям?» – «Нет», – говорю. «Ну так я подниму, – говорит, – сию же минуту». И к двери. Я его остановила. «Нет, – говорю, – ты этого не сделаешь. Ты останешься здесь. Я дала обещание не выдавать Эда, и мы его сдержим. Сиди-ка тихо». Он задумался на минуту, а потом говорит: «Что ж, пожалуй, ты права. Может, так оно и лучше, в конце концов. Но ничего удивительнее я в жизни не слыхивал, – говорит. – Ей-богу!»
– Ну, в общем, они скрылись. Ни одного из них так и не поймали. Потом уже, через много лет, когда твой папа прокатился в Калифорнию, Трумен сказал ему, что оба они, Эд и Лоуренс, остановились в его доме в Колорадо, когда он там жил, и, конечно, обе женщины через полгодика приехали к ним. Лоуренса жена – это, значит, Мэри Трумен – умерла там через год или два от чахотки, а что стало с самим Лоуренсом, я толком не знаю. Был слух, что он осел в Канзасе, женился снова, детей наплодил и живет там по сей день, сударь, зажиточным и всеми уважаемым человеком.
А что с Эдом Мирсом стало, нам, конечно, известно. Я от Дока Хенсли все про него узнала. Трумен сказал твоему папе, что Эд приехал к нему в Колорадо, а потом отправился в горы работать, в какой-то шахтерский поселок, и когда обосновался там немного, вызвал Аду, и она, конечно, приехала. Трумен рассказывал, что она прожила там с год, а потом вернулась к отцу. Ох! Что он рассказывал! Это был ужас, она больше не могла выдержать – говорила, что Эд с ума сходит и когда-нибудь действительно рехнется: все кричал и бредил, что духи людей, которых он убил, вышли из могил, чтобы травить и мучить его. «Теперь ты видишь, – я сказала твоему папе, – ты видишь, что получается? Я же знаю, – говорю, – это всегда оправдывается: злодей бежит, когда никто не гонится за ним». – «Да, – он говорит, – все правильно. Муки нечистой совести – тут и разговаривать не о чем». – «Вот я и забрал ее от него, – сказал Трумен. – Отправил обратно, на Восток, от него подальше. Разумеется, – говорит, – он угрожал мне, грозился меня убить, но я видел, что человек сходит с ума, и не мог допустить, чтобы она к нему вернулась».
Словом, Ада вернулась домой и получила развод: дело ее вел, конечно, Кеш Джетер – это еще задолго до того, как его выбрали в сенат, тогда он был самым обыкновенным адвокатом, – и говорят, пока тянулось дело, он в нее влюбился и через какой-нибудь месяц после того, как она получила свои бумаги, – что ты думаешь? – женился на ней. «Недолго же они ждали, а? – я папе сказала. – А ведь кажется, – говорю, – могли бы выждать приличный срок». – «Ах, господи! – твой папа говорит. – «Расчетливость, Гораций! С похорон на брачный стол пошел пирог поминный» [2]2
«Гамлет». Акт I, сцена 2. Перевод Б. Пастернака.
[Закрыть]– «Вот именно, – говорю, – так оно и получается».
Теперь, значит, Дока Хенсли послали на Запад ловить какого-то убийцу, и вот, вернувшись, он рассказывает, что в Мексике наткнулся на Эда Мирса. Он плыл где-то на пароходе из Техаса в Мексику – видно, по следам человека, которого разыскивал, – и тут столкнулся с ним нос к носу, с Эдом Мирсом. Док говорил, что он отрастил бороду, но говорил, что сразу его узнал. «Хотя надо заметить, – он сказал, – Эд сильно изменился. Это не тот человек, которого вы знали. – Док сказал, что он был похож на мертвеца, что от прежнего Эда одна тень осталась. – То есть буквально, – говорит, – кожа да кости, а мяса на нем не больше, чем на белке». – «Ну, а он вас, – спрашиваю, – узнал? Вы хоть поговорили?» Сам понимаешь, мне интересно было послушать, что с ним и как. «Ну а как же! – Хенсли говорит. – Четыре дня в одной комнате прожили, душа в душу, как-никак старинные друзья и собутыльники. – И понимаешь, стал рассказывать: – Конечно, – говорит, – когда он меня увидел на пароходе, он решил, что я – по его душу, и сразу вышел, – говорит, – чтобы сдаться. «Ладно, Док, – говорит, – я знаю, ты приехал забрать меня, и я, – говорит, – готов». – «Да нет, – говорю, – Эд, ты ошибаешься. Я за другим тут. Ты не тот, кого я ищу, – говорю. – Ты мне не нужен, и кроме того, – говорю, – я все равно не имею полномочий арестовать тебя: ордера у меня нет». – «Ну, все равно, – он говорит, – когда-нибудь я сам вернусь. Я должен еще одного человека убить до того, как умру, а там, – говорит, – пусть берут меня и делают, что хотят». – «Кого же это? – Док его спрашивает. – Кого это ты хочешь убить?» А тот говорит: «Кеша Джетера». И Док рассказал, как он проклинал его за то, что он добился развода и женился на его жене.
И вот, Док рассказывал, что перед тем, как ему ехать домой, Эд дал ему письмо и попросил вручить Джетеру, когда он вернется, и он сказал, что читал это письмо собственными глазами и что на своем веку он ничего подобного не видел. «Пускай я убийца, – Эд написал, – и на совести моей множество преступлений, но ни разу в жизни я не пал до такой низости, чтобы украсть у человека жену. Теперь, – говорит, – ты можешь привести дом в порядок и готовься встретить меня, потому что я вернусь. Через месяц ли, через год или через десять лет, но я буду там, – говорит. – Я должен с тобой расквитаться, и ты будь готов». Ну, и Док сказал, когда он отдал письмо Джетеру, тот открыл его, прочел и, говорит, побледнел весь, видно было, как он задрожал, и надо думать, жизнь его была форменным адом, покуда не пришло известие, что Эд погиб, потому что он, конечно, не дожил до возвращения: по слухам, его убили в салуне в Мексике.
Одним словом, вот как это было; вот что произошло.
– Но все-таки – никак я в толк не возьму, понимаешь: «Два… два… Двадцать… двадцать», – что бы это значило?
«Да ну, ей-богу, – твой папа говорит, – ничего это не значит. Да и не было этого, – говорит, – тебе просто померещилось».
«Ничего, подожди, – говорю, – подожди, увидишь».
Ждать нам недолго пришлось. Недолго.
Началось это перед обедом, примерно в час. Боже мой! Такое было чувство, как будто рвется все внутри. А он дома был, он пришел рано, – понимаешь, рядом, на заднем дворе, купил свинью и теперь сало вытапливал. «Ну чего тебе взбрело? – я кричу. – Зачем тебе надо было ее покупать?» Детка! Детка! Это немыслимое транжирство, этот немыслимый перевод денег! Не будь меня, я ему говорила, он последний заработанный грош оставлял бы у мясников, да у фермеров, да в салуне – понимаешь, не мог он перед ними устоять. «Тьфу ты пропасть! – говорю. – Ну с чего тебе это вздумалось?» Ведь и окорока, и бекон в кладовой – шесть копченых окороков, которые он сам же купил, – и нате вам пожалуйста, заявляется с цельной свиньей. «Ведь перемрем мы от этой свинины!» – говорю; у самих цыплят полно и жаркое – двенадцать фунтов, что он с базара прислал. «Мы же все захвораем, – говорю, – ты детей в постель уложишь! Столько мяса вредно для людей». Подумать только! Так швыряться деньгами! Детка, детка! Знаешь, сколько раз я плакала из-за этого – как подумаешь, что он так швыряется деньгами! «Боже мой! – я ему говорила. – В жизни не видала такого обжоры! (Понимаешь, пробовала воззвать к его самолюбию!) Только и думаешь, что о своем брюхе. Ты поразмысли-ка минутку, можно ли накопить хоть сколько-нибудь добра, если все твои заработки прямиком валятся в глотку, в ненасытную твою утробу? Надо же, ей-богу! Да у тебя, верно, все мозги в животе!» Ну, в самом деле! Повстречает, бывало, какого-нибудь фермера с полной телегой снеди, которую ему сплавить охота, чтобы домой поскорее ехать, – и купит всю целиком! Неужели я тебе не рассказывала? Ну что ты скажешь! Можно ли быть таким олухом – как он прислал одного домой с сорока дюжинами яиц (Господи! Я чуть в него не побросала эти яйца – до того расстроилась!), когда у самих куры несутся каждый день как оглашенные. «Ну, какой бес тебя под руку толкал – выкинуть такую штуку?» – говорю. «Понимаешь, – говорит он виновато так, – он отдавал их чохом, по семь центов дюжина. Такая дешевка, – говорит, – обидно было упустить». – «Да все равно, – говорю, – хоть бы и по два цента он тебе отдал – все равно это выброшенные деньги, – говорю, – нам их девать некуда». – «Ничего, куда-нибудь денем, – говорит. – Мы их детям скормим». – «Побойся бога, что ты городишь! – я кричу. – Ты их так обкормишь яйцами, что им взглянуть на яичко всю жизнь будет страшно. Они никогда их не съедят, – говорю. – Они протухнут!» И я скажу тебе, что вид у него после этого был довольно виноватый. «Ну, – он говорит, – я хотел сделать как лучше. Но, видно, я ошибся», – говорит.
А потом! Как он пришел однажды с целым возом дынь и арбузов: двадцать семь арбузов, хочешь верь, хочешь нет, и бог знает сколько дынь – сотни, наверное. «Есть у тебя голова на плечах?» – я спрашиваю. «Мы их съедим, мы их съедим, – говорит. – Дети их съедят». И как потом Люк от них слег… «А теперь еще доктору по счету платить», – говорю ему… Да сколько раз он являлся с возом початков, и помидоров, и молодой фасоли, и сладкого картофеля, лука, редиски, свеклы, репы, и всяких овощей, и разных фруктов – и персики, и груши, и сливы, и яблоки, – когда у самих сад и огород за домом и растет все, что душе угодно. Вот и ломай голову, как сделать, чтобы все это не пропало. Говорю ему: «Когда мне, по-твоему, детей воспитывать, если ты без конца заваливаешь меня этим добром?» Я в положении – понимаешь? – и вот заготовляю консервы как ненормальная, а он на дворе сало вытапливает. Ух! Запах этот, знаешь, тяжелый какой-то запах жира. И так чуть ли не до самой последней минуты: четыреста тридцать семь банок персиков, вишни, винограда, яблок, сливового джема, айвового варенья, грушевого компота, томатного соуса, маринованных огурцов и всякой всячины – в кладовке негде было повернуться, вся забита до потолка; но зато, скажу тебе, поесть он умел, я немало видела хороших едоков на своем веку, но чтобы так умел человек наворачивать – никогда. Видно, это от родни ему передалось; знаешь, он рассказывал, как в детстве они приходили с поля и садились за обед – такой, что быку не свернуть. Да разве я сама не видела, когда мы в тот раз там были, как старуха умяла целую курицу и три большущих куска пирога и, понимаешь, говорит Августе: «Дочка, наложи мне еще тарелочку». А ей уже восьмой десяток шел, и ведь через это самое и смерть приняла, сударь. «Подумать только!» – я сказала, когда про это услышала: на девяносто шестом году свалилась с кресла и ногу сломала, а почему? Потянулась за кукурузным початком. И скончалась, конечно, оправиться уже не могла, слишком стара была, кости не срастались. «Это что-то невообразимое!» – я сказала.
Честное слово! Просто чудо какое-то, что его организм так долго это выдерживал: мозги, яйца, бекон, бифштекс, каша овсяная, горячие лепешки, колбаса и две-три чашки кофе на завтрак – а на обед, а на ужин? И такое мясо, и другое, и третье, и печенка, и ростбиф, и свинина, и рыба, и курятина, и разных овощей пять сортов, картошка мятая, и так бобы, и с кукурузой, со свининой бобы, и репа, и компот из персиков, и пирог, и чего только еще – не знаю. «Конечно! – я сказала Уэйду Элиоту. – Я думаю, этим он и навлек на себя беду. Он себе могилу зубами вырыл». – «Возможно, – говорит, – однако долго же он ее рыл, а?» И тут, конечно, мне пришлось согласиться, но, честное слово, я порой думаю, что он и сейчас был бы жив, если бы вел себя благоразумнее!
Так что я, значит, говорю: схватило меня – страшные, режущие боли. Я подошла к окну и кричу ему: «Иди! Иди скорее!» И он, надо сказать, не мешкал: бегом прибежал.
«Нет, не может этого быть! – я сказала. – Срок мой еще не подошел».
«А я думаю, уже пора, – он говорит. – Я иду за врачом».
И пошел.
– Это было в год, когда налетела саранча; кажется, столько времени прошло с тех пор, как налетела саранча и объела дочиста всю землю, столько воды с тех пор утекло… Но нет (я подумала), понимаешь: никак в голове не укладывается – не может этого быть, времени-то всего ничего прошло, ведь год назад только, в январе… Господи! Господи! Я часто думаю, сколько мне пришлось пережить, и удивляюсь, что еще сижу здесь и рассказываю. Я серьезно думаю: мне дана от природы какая-то сила. Правда!.. Легче, чем земля пшеницу родит, – столько детей, ведь только живых восемь, а сколько, про которых ты даже не слышал? – столько детей, а замужем была меньше всех, кого я знаю… И подумать – ох! – подумать только, что мне приходилось от него выслушивать, как он ругал меня, как насмехался и озорничал с другими женщинами, когда сам же был всему виной, и хуже черта, когда увидит, что он натворил. Господи! Господи! Странный был человек, дикий, бешеный человек; порою кажется, никогда его не пойму: где-то в нем бес сидел, что-то дикое и чужое, чего нам никогда не понять… что он вытворял, что он говорил, это было свыше моих сил, и так мне бывало горько, и молилась иной раз, чтобы бог его наказал… Но, господи! Сколько лет прошло с тех пор, как налетела саранча, и когда вспоминаешь все это – апельсиновые деревья, и фиговые деревья, и песни, и все, что вместе пережили – ох! – и добрые времена, и трудные времена, и радость, и горькие слезы, и есть тут что-то, чего не расскажешь словами, я и ненавидеть его старалась, но теперь нет у меня слов против него; он был странный человек, но где был он, там голода никто не знал, холода никто не знал, всем всего было вволю; и теперь, когда вспоминаю его… кажется, столько лет прошло с тех пор, как налетела саранча, и что-то есть, про что хочется рассказать, а слов для этого не находишь.
Тот год… в тот год у ребят был тиф, Стив и Дейзи только начали поправляться, и я взяла их – господи, как я одна управилась! – в Сент-Огастин, и он приехал – не мог усидеть, он явился следом и запил. Я пробовала ее искать, но он заставил Стива спрятать ее в песке под домом, а как увидел, что я ищу, разошелся, браниться начал, говорит: «Черт бы тебя взял! Если унесешь ее, я вас обоих убью!» Подумай, детка, как только язык повернулся! Мне обидно стало, но я не уступила: я хожу по комнате, хожу по комнате, потом вышла на террасу и к столбу прислонилась; а дачу эту я сняла у каких-то северян, перил там не было, ничего там не было, кроме этого рыхлого песка, и я знала, что дети не ушибутся, даже если упадут и… «Господи! – думаю. – Что мне делать?»
Назавтра он протрезвел и пришел в себя, и поэтому к вечеру мы взяли детей и отправились в Форт Мерион, старый испанский форт на Понсе-де-Леон, а там уже народу полно, все нарядные, военный оркестр играет, и вот, слышно, пушка выпалила, и горн заиграл – флаг спускают… вот так вот: «Па-дома-ам! Па-дома-ам!» – заиграл, и все ребятишки ладони ко рту приставили, тоже пробуют трубить, а птицы летают, и пальмы, и музыка, водой пахнет, апельсиновым цветом, и эта старая черная крепость, – господи! стены местами в четырнадцать футов толщиной, – и солнце прячется за ней, словно большой апельсин, а люди слушают музыку. Той зимой в январе на нас напала саранча… И тут я почувствовала, словно внутри у меня с цепи кто сорвался.
«Идем, – я говорю. – Пошли, пошли!» А он: «Что такое?» – «О господи! – я говорю. – Меня на части разрывает. О господи! Мы не дойдем! Скорее!» И мы пошли, с детьми вместе, а ноги у меня в песке скользят и вязнут, и уже думаю: не дойти, и кусмень какой-то рвется из меня наружу… А под конец он взял меня на руки и нес до самого дома, и я сказала: «Ты видишь, нет? Ты видишь, что ты наделал? Это твоя работа!» И он перепугался, когда посмотрел на меня, стал белый и задрожал… Говорит: «Боже мой! Боже мой! Что я наделал!» И все ходил по комнате взад-вперед, и уже стемнело, я лежу, вокруг дети спят, а он вышел во двор – у нас там стояло фиговое дерево, а я лежу, слушаю, как люди идут мимо, и где-то музыка играет, и слышны голоса, кто-то поет, кто-то смеется, и запахи цветов – ох! – магнолий, лилий, роз, пойнсеттий и всех других цветов, какие там росли, и апельсиновых деревьев, и, знаешь, в доме дети спят, вижу небо, все в звездах – господи боже мой! – я подумала: «Что мне делать? Что мне делать?» Это было в год, когда на нас напала саранча, и кажется, было так давно.
– Нет, честное слово! Я думаю, Нельсон правильно тогда сказал; говорит: «Вам дана от природы какая-то сила, это ясно. Я ничего подобного не встречал», – говорит. В самом деле! Разве не я их всех родила? А как у меня все росло, стоило только рукой дотронуться? И ведь это с детства у меня – и помидоры, и цветы, и кукуруза, и овощи, и фрукты разные. Ей-богу! Кажется, только пальцем в землю ткни – и вылезет все, что надо. «Ах!» – говорил старик Шумейкер; бывало, круглый день копается в своем саду, пока все не выстрижет – точно шахматная доска, все торчком, все по ниточке, и ни травинки нигде сорной – как его в Германии, наверно, учили… Так вот он говорит: «Ах, вы не должны так ваш сад запускать. Вы должны его полоть, иначе ничего вырастать не будет». – «Погодите, – говорю, – погодите, увидите. Все вырастет, – говорю, – у меня вырастет, и не хуже вашего, со всеми вашими трудами и заботами». И что ты думаешь? Мой лук, и салат, и редиска, и помидоры вымахали такие, что немецких не видать было рядом – да боже мой! – они на глазах из земли лезли!.. И еще скажу тебе: случись какое дело, с голоду я не умру, без гроша останусь, а не пропаду – землю заставлю меня кормить. Раньше умела и теперь сумею.
Да! Пошла я прошлой зимой в Угольную компанию Катобы заплатить по счету и разговорилась с ним – ровно за два дня до того, как он умер от грудной жабы, – с Миллером Райтом, а ему, понимаешь, только-только семьдесят стукнуло, и вижу: бледный как смерть и трясется, дрожит как осиновый лист. «Что с тобой, Миллер? – спрашиваю. – Не нравится мне твое состояние. Что случилось? В чем дело?» – «Ох, Элиза, – он говорит, а сам трясется… – такая неприятность, такая неприятность. Я ночей не сплю, все об этом думаю». – «Да что такое?» – спрашиваю, а он: «Ох, Элиза, все пошло прахом! Я без гроша. Я все вложил в недвижимость, – говорит, – а теперь этот несчастный банк обанкротился. Что я буду делать?» – «Делать? – говорю. – Да то же, что и я: учиться на ошибках и начинать все сначала». – «Ох, нет, Элиза, нет, Элиза, – он говорит, головой тряся, – поздно: нам обоим за семьдесят, мы слишком стары, слишком стары», – говорит. «Стары! – я говорю. – Господи боже милостивый, да я хоть завтра могу начать и зарабатывать на жизнь не хуже любого». – «Да, – он говорит, – но что бы ты стала делать?» – «Делать?! – я отвечаю. – Ладно, скажу: я бы впряглась и подналегла как следует – годков до восьмидесяти, а там, – говорю и, знаешь, подмигиваю ему, – так бы загуляла, что чертям бы стало тошно». Этими самыми словами ему и сказала – думаю: подбодрить его надо маленько; он, конечно, засмеялся и говорит мне: «Что ж, по-моему, это прекрасный план». Я говорю: «Послушай, Миллер, уж кому-кому, а не тебе сдаваться. Мы с тобой всякое видали и лиха хватили, не дай бог: ведь нынешние-то ничего про это не знают, не знают, каково оно на вкус, настоящее-то горе». А мы с ним в пяти милях друг от друга росли, и нам ли не помнить все – да, каждую минуту, словно это было вчера! – как шли мужчины в строю, как плакали женщины, и поднималась пыль, и что мы пережили, как нам приходилось работать… шерсть, лен, прялка, и все, что мы сеяли, все, что делали своими руками, – тысячи вещей, про которые ты не слышал и во сне их не видел, мальчик… и летнюю пору, и реку, и песни, и нужду, и печаль, и горе – всё мы видели, через все прошли. «И ты! – я сказала Миллеру Райту. – Ты! Ты тоже через все прошел, – говорю, – и помнишь!»
Ну, и конечно, как ему было не согласиться, понимаешь? Говорит: «Да, ты права, я помню. Но, – говорит (а все-таки повеселел немного), – а сейчас бы ты так смогла?» – «Смогла бы? – я говорю. – Шутя и играя! Слушай, Миллер, – говорю, – ну, положим, мы прогорели. Так ведь не мы же одни. Все мы думали, что поступаем как надо – да, видно, голову потеряли, – говорю. – Мы сами себя заморочили и забыли о благоразумии». Как подумаю об этом! Тьфу! Я же твердо решила… Знать бы, где упадешь… Ну да, думала, заключу еще сделку или две – и всё, кончаю. Тьфу! Нет, ей-богу, если бы эти акулы, и евреи нью-йоркские, и разные скорохваты не свалились как снег на голову… вот когда надо было продавать, если бы ума хватило сообразить вовремя… А с теми участками, что мы купили во Флориде, и по сей день все было бы благополучно, если бы ураган нас тогда не подкосил – да еще эти арапы из Калифорнии распустили слух о средиземноморской плодожорке во Флориде. А ее там было столько же, сколько на Северном полюсе, – они нарочно распустили эту небылицу, чтобы разорить Флориду: невмоготу им было видеть, как мы их обгоняем, а Гувер со своей братией подпевал им и подстрекал на эти пакости, потому что сам – из Калифорнии, ясно? Вот и все тебе объяснение, но Флорида поднимется, чего бы они там ни городили. Флориду не подомнешь! И говорю: «Миллер! Банки не всё захапали, – я говорю. – Они, может, и думают, что всё, но у меня, – говорю и подмигиваю ему, – есть секрет, и я тебе его открою. У меня еще есть за городом клочок земли, про который никто не знает, и если дело обернется совсем худо, – говорю, – с голоду я не помру. Я поеду туда и буду сажать все, что мне надо, и будет вдоволь. И если разоришься, – говорю, – ты тоже приезжай. Голодным ходить не будешь – у меня рука легкая, все растет». – «Ох, нет, Элиза, – он говорит, – слишком поздно, слишком поздно. Стары мы, чтобы все начинать сначала, а ведь потеряли мы все». – «Нет, – я говорю, – не все. Кое-что осталось». – «Что?» – он спрашивает. «Земля нам осталась, – говорю. – Земля нам всегда остается. Мы будем стоять на ней, и она нас спасет. Она никого еще не подводила».
– Теперь прибегают они сломя голову – твой папа и старый доктор Нельсон. Я лежу, и эта жуткая боль терзает меня, просто разрывает на части.
«Ну нет, – я доктору Нельсону говорю. – Быть этого не может. Срок мой еще не пришел. Еще не пора, мне две недели осталось до срока».
«Это ничего не значит, – он говорит. – Вам пора. И срок ваш пришел, – говорит. – Пришел, пришел, это совершенно ясно».
– И действительно, так оно и оказалось. Ну да, конечно! Оно самое! Про что я тебе и говорю все время, мальчик! Тут все и объяснилось.
«Два… два», – говорил один голос, а другой говорил: «Двадцать… двадцать».
Через двадцать дней после того, как пришел к нам Эд Мирс, – минута в минуту, без двадцати минут десять вечера, семнадцатого числа октября месяца родилась двойня – Бен и Гровер родились тем вечером.
На другой день я лежала и думала – и вдруг меня осенило, что это значило, я сразу все поняла. Загадка объяснилась.
Вот и вся история, сударь ты мой, вот как это было.
«Два… два», – говорил один голос, а другой говорил: «Двадцать… Двадцать».
Теперь я тебе рассказала.
«Что ты об этом думаешь? – говорю я мистеру Ганту. – Теперь ты понял, а?»
И ты бы видел его лицо. «Это весьма удивительно, если задуматься, – он говорит. – Ей-богу!»
– Господи, мальчик! Что я там слышу, в гавани? А? Что, говоришь? Корабль?! Скоро апрель, и мне пора возвращаться домой: в саду моем, где я работаю, распустятся ранние цветы, деревья зацветут – персики, вишня, кизил, и лавр, и сирень. Есть у меня яблоня, и в июне она вся обсыпана разными птицами; дерево, которое ты посадил мальчиком, цветет у меня за окном, там же, где ты его посадил. (Родной мой, питайся получше и следи за своим здоровьем, береги себя: у меня душа неспокойна, что ты здесь один, с чужими.) Холмы сейчас красивые, и скоро опять весна. (У меня душа за тебя неспокойна: ты один, далеко – детка, детка, возвращайся домой!)
О, послушай!..
А? Что это?..
А? Что, говоришь?..
(Господи боже! Бродячее племя!)
Детка, детка!.. Что там?
Опять корабли!