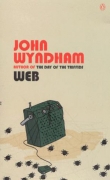Текст книги "Паутина земли"
Автор книги: Том Вулф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
ТОМАС ВУЛФ
Паутина земли
Повесть
В год, когда налетела саранча, случилось это в год, когда налетела саранча, два голоса услышала я в тот год… Сынок! Сынок! Кажется, столько лет прошло с тех пор, как налетела саранча и объела дочиста деревья, – столько всего было с тех пор и столько лет прошло…
«Что там?» – говорю.
И говорит: «Два… два…» Говорит: «Двадцать… двадцать».
«А? Что там?»
«Два… два», – один голос, а другой: «Двадцать… двадцать».
И я твоему папе: «Два, – кричу, – двадцать… двадцать – неужели
не слышишь?»
И опять: «Два… два», – один голос, у окошка, а другой: «Двадцать… двадцать», – прямо на ухо мне.
«Неужели ты не слышишь, мистер Гант?» – кричу.
«Господи, женщина, – говорит твой папа. – О чем ты толкуешь, скажи на милость? Нет тут никого», – говорит.
«Да нет же, есть! – говорю и тут опять слышу: «Два… два… Двадцать… двадцать».
«Да вот же они!» – говорю.
«Фу ты, миссис Гант, – говорит твой папа. – Тебе померещилось. Ты задремала, верно, тебе приснилось».
«Нет, нет, – говорю, – не приснилось. Это здесь. Точно здесь. Потому что я чувствовала, чувствовала, потому что слышала своими ушами.
«Это оттого, что ты в положении, – он говорит. – Ты устала, ты взвинчена, и тебе померещилось».
Тут зазвонили все колокола, и он поднялся уходить.
«Ой, не уходи! – говорю ему. – Не уходи, пожалуйста». Ты понимаешь, у меня было предчувствие, я забеспокоилась, что он уйдет.
И тут снова слышу: «Два… два», – один голос, а другой говорит: «Двадцать… двадцать». А я чувствую, чувствую… Ну конечно! Боже ты мой! Как же мне не помнить, мальчик!.. Час, время, год, до минуты… потому что в тот год налетела саранча и все деревья объела дочиста.
– Но послушай дальше! Бен… Стив… Люк… Фу ты! Мальчик! Джин! Это Люк меня, наверно, вспоминает – вот почему я все время зову тебя его именем. Ну так – а? Что ты?
– Ты начала рассказывать про то, как услышала однажды голоса.
– А, да! Конечно! Ну, так я была… погоди! Что это? А?
– Это корабли в гавани, мама.
– Как говоришь? В гавани? Корабли? А, да, наверно, это они. Гавань в той стороне?
– Нет, мам, в другой. Ты повернулась. Наоборот, в другой стороне: там.
– А? В той стороне? Да нет же, детка, не может быть… Ты правду говоришь? Ну, доложу вам! Совсем запуталась. Все из-за того, наверно, что ехали в туннеле. Но на природе меня с дороги не собьешь: ты мне только примету дай – и доберусь, куда хочешь… Ну, скажу я тебе! Опять он завел! Ну, ей-богу! Прямо как старая корова! И ты тут же – прямо под боком! Как тебя только занесло в такое место! Боже мой! Слушай – слышишь? Это, верно, большой собирается отчалить… Господи боже мой! Одна порода – твой папа был такой же: только бы сняться да куда-нибудь уехать. Если бы я ему позволила, он только бы и делал, что скитался по белу свету… Сынок, сынок, ты не можешь скитаться всю жизнь… У меня душа неспокойна, что ты где-то далеко, с чужими людьми… Ты не можешь жить один, среди чужих, до конца своих дней… Ты должен вернуться туда, где твои родные… Сынок, сынок, у меня душа неспокойна… Вернись домой.
– Ну так вот, я начала тебе рассказывать, вечером я слышу: один голос… Фу ты! Опять засвистел. Слушай, мальчик, я тебе скажу: когда его слышишь – так бы прямо собралась и удрала на нем! А что, не такая уж я старая! Да я хоть сейчас в дорогу и скажу тебе: хочется мне до ужаса – вот прямо сейчас уплыть и посмотреть все на свете, а? Все страны: Англию, откуда вышла вся наша родия, и Францию, Германию, Италию – скажи? А Швейцарию я всегда мечтала повидать – вот где, должно быть, красота… как этот говорил: Сокровищница Природы…
Слушай… а, теперь слышу!.. Теперь поняла… Ну да! В той стороне. А где же тогда мост, по которому мы ночью шли?
– Он здесь – как раз в конце улицы. Да вот! Подойди к окну, посмотри. Ты помнишь, как мы сюда шли?
– Помнишь! Ты еще спрашиваешь, мальчик, помню ли я! Господи боже мой! Да я такое помню, чего ты и не читал никогда, – все, как было, чего ни в одной книге не прочтешь.
Наверно, они пробовали написать про это в книгах – про все сражения и войны, и думаю, сынок, кое-что им, конечно, удалось рассказать, но, господи, откуда же им знать, как это было, когда они этого видеть не могли, когда они еще на свет не родились; и все у них получается таким давним, и словно в чужой стране происходит – откуда им знать, сынок, как это было: как ветер дул, как светило солнце, как дымом пахло на дворе, как мама пела, и перья ошпаренной курицы, и как река разлилась весной после дождей? Как смотрели в тот день мужчины, когда шли поречьем домой с войны, и что мы говорили, и голоса убитых, и как светало, как смеркалось, как грустно мне было на это смотреть, как женщины плакали, когда мы стояли у Боба Паттона на дворе, и как маршировали мимо нас мужчины, и поднималась пыль, и мы поняли, что войне конец. Господи боже мой! Мне ли не помнить! Я все это помню, детка, – и в точности так все было.
Я помнить начинаю с той поры, как мне исполнилось два года, и скажу тебе, мальчик, за эти годы я очень мало что забыла.
Ну да! Я же помню, как они отвели меня за руку к ручью и напугали до полусмерти – Боб Паттон и твой дядя Джордж, мальчишки, слепили из тамошней черной земли статуи Вилли и Люсинды Паттонов, а земля эта в руках, как замазка, мнется – и как я завопила, потому что узнала их, узнала, ведь я их видела обоих и помнила! Вилли и Люсинда – они были рабами у капитана Паттона… господи! Самые черные африканские негры, каких ты только видел… отец еще говорил: им бы сажей пудриться, родителей их прямо из джунглей вывезли… а зубищи белые-белые, так и сверкают… Но запах! Этот невозможный запах, этот вечный, черный, негритянский дух, никаким мытьем его не выведешь, мама его не выносила – пройдут, бывало, по комнате, а он после них висит, так маме худо делалось; и вот эти два бесенка слепили фигуры и голышей у ручья набрали, на зубы, и ты подумай! – сказать такое двухгодовалому ребенку! – что это и в самом деле Вилли и Люсинда живые, и Боб говорит: «Смотри! Съедят тебя сейчас», – говорит, и я как зареву, ужас, все как вчера помню.
А как брата Вилла привели на Индейский курган? Ну конечно, поверье было, что там индейцы похоронены, оттого и курган, говорили; а из-под него в ручей стекала такая черная масляная жижа – и отец наш, конечно, всем доказывал, что там нефть, говорил, что если кто додумается пробить там скважину, сразу станет богачом… а Виллу-то всего два с половиной года, а Джордж ему и скажи: это масло жмется из покойников-индейцев, ну и Вилл, конечно, запищал, расплакался… «Да что же это? – мама говорит. – Такие ужасы рассказывать ребенку? Голову тебе мало оторвать, бестолковщина ты этакая».
– Да что говорить! Я ли не помню, как той зимой прискакал олень с горы, из-за дороги, – стал в пяти шагах от меня и смотрит, а я увидела его рога и ну реветь. Господи! Не знаю, что и подумать, отродясь не видала такого зверя, но он тут же в лес ускакал, а когда я маме рассказала, она говорит: «Ну да, ты видела оленя. Конечно, оленя, кого же еще? Его охотники выгнали из леса на горе». И – слушай! – в ту же весну – я уже большая была, четыре года: все запоминала – подступили к нашим местам янки… я ли их не слышала, я ли их не видела своими глазами, злодеев; эти два молодца неслись по дороге на краденых конях, словно угорелые, словно за ними черти гонятся, – все как сейчас помню! И как они выглядели, помню: два солдата, форменные оборванцы, пригнулись и только коней нахлестывают, а на шеях – платки пестрые, уголки назад, вытянулись, торчат, словно накрахмаленные, – представляешь, как они летели? – и слышу, наши кричат, голосят у дороги, что войска идут, и женщины заволновались, прогоняют мужчин, чтобы прятались. Мама руки ломает. «О господи, идут!» – говорит, а Адди Паттон сбежала с горы, ног под собой не чует от страха, малышка!.. «Ой, ой, идут, идут! А дедушка там совсем один, – кричит, – они его убьют, убьют!»
Конечно, мы тогда не знали, что эти босяки-янки вдвоем только; мы думали, их выслала дозором целая бригада Шермана. А вышло так, что остальные еще неделю не показывались, – эти два разбойника, видно, вырвались вперед и хотели попробовать, много ли им самим удастся награбить. Да… А как мужчины начали в них стрелять, когда увидели, что они без армии, а те побросали коней и в гору бегом что есть духу? А как после войны пришли люди – представляешь? – из округа Бедфорд требовать своих коней? Они коней узнали и рассказывали, что те двое и угнали их. Да что там! А что рассказывали про Аманду Стивенс – как она своими руками подпалила мост на том берегу Севира и как войска из Теннесси застряли там на неделю, потому что не могли переправиться – а? – а она стоит и насмехается над ними, и говорили еще, будто она им сказала («Господи! – говорю. – Никогда не поверю, что она могла сказать такое!»), но чего душой кривить: ругательница была страшная, выражений не выбирала, – да потом все в один голос твердили, что Аманда им так и крикнула: «Эй, неужто вы без моста не перейдете через такой ручеек? Ох, и никчемный же, видать, вы народец. У нас, – говорит, – за мужчину того не считают, кто… с берега до берега не…» – И янки, конечно, – а что тут остается? – засмеялись.
И… Да! А как рассказывали про день, когда янки вступили в город и схватили старика Мэкери? Я думаю, они просто хотели над ним потешиться, а не то чтобы всерьез – ну, знаешь, огромная туша, лицо темное, желтое и волосы курчавые, и, конечно, ходила молва, что в нем негритянская кровь, да он и сам признался – подумай только! – уж и так и сяк доказывал перед этими янки: видно, надеялся, что его отпустят. Янки и говорят: «Если докажешь, что ты негр, то отпустим». А он им отвечает: «Докажу». – «А как ты докажешь?» – они его спрашивают. «А я вам скажу как, – говорит их капитан и – понимаешь? – подзывает одного солдата: – Джим, пробегись-ка с ним по улице разок-другой». И они стали бегать, солдат с этим Мэкери, взад и вперед по улице что есть духу, а солнце палит… Ну, вернулись они, с Мэкери пот градом, и вот, рассказывают, капитан этот, янки, подошел к нему, понюхал и кричит: «Ей-богу, правду говорит, ребята. Негр это. Отпустить!» Правда ли, нет ли, а так рассказывали.
Ну да! Как же мне все это не помнить? Как шли мимо нас войска, и с реки входили в город, и их отпускали по домам, а мы собрались на дворе у дяди Джона и смотрели на них – отец и мама со всеми детьми, и все племя Паттонов, все Александеры, Пентленды, и эти двое черных африканцев, что служили у Джона Паттона – Вилли и Люсинда Паттон, и твой прадедушка, мальчик, старый Билл Пентленд, которого звали Шляпник Билл, потому что он делал их из лучшего фетра, научился обрабатывать шерсть щелоком, ох, лучших шляп ты не видывал… Помню, в детстве, пришел к нам старый фермер и отдает дяде Сэму шляпу починить. «Сэм, – говорит, – эту шляпу старый Билл Пентленд мне сделал двадцать лет назад, и она, – говорит, – до сих пор как новая, ее бы только подправить и почистить». И я тебе вот что скажу: кто знал его, все соглашались, что Билли Пентленд – замечательного ума человек.
– И скажу тебе, мальчик, я всегда это говорила, если у тебя есть какие способности, ты унаследовал их по моей линии, и, само собой, такой человек, как Билл Пентленд, далеко бы пошел, будь у него образование. Конечно, по книгам он не учился, но рассказывали, как он умел рассудить и с одной стороны взглянуть на дело и с другой, – и заметь, старик был крепкий, до последнего часа… и вот в один прекрасный день велит он позвать Сэма и говорит ему: «Сэм», – и Сэм потом рассказывал, как он пришел, а старик разводит огонь и гимны распевает, веселый, здоровый, со всей землей в ладу… «Сэм, – говорит, – я рад, что ты пришел. Я хочу с тобой кое-что обсудить. Ложись-ка на ту кровать, – говорит, – и побеседуем спокойно». А Сэму только того и надо – ох, второго такого лентяя не сыщешь: ему бы всю жизнь на боку лежать да беседовать. «Зачем? – говорит. – Что такое, отец? Что случилось? Ты, может, нездоров?» – «Нет, – говорит Билл, – я здоров как всегда, но теперь я недолго с вами пробуду. Я решил, что мне пора умирать, Сэм, и хочу привести дом в порядок до того, как отойду». – «Да что ты, отец! – удивляется Сэм, – о чем ты говоришь, объясни мне? У тебя же ничего не болит». – «Ничего», – говорит Билл. «Тебе еще жить да жить», – говорит Сэм. «Нет, Сэм, – старик ему в ответ и головой так покачивает. – Я твердо решил, что мне пора. Меня зовут. Видишь ли, я прожил полных семь десятков, – говорит, – да с лишком, и чувствую, что на земле мне делать больше нечего, вот и надумал». – «Надумал? – спрашивает Сэм. – А что ты надумал?» – «Как что? Я надумал умереть, Сэм». – «Да что ты, отец, что ты говоришь? Не можешь ты умереть!» – «Нет, – говорит Билл, – я надумал умереть завтра. Завтра вечером, – говорит, – в десять минут седьмого, по этой причине я тебя и позвал». Ну вот. Развели они большой огонь в камине, так, что в трубе загудело, и всю ночь беседовали… И ты подумай! Сэм рассказывал потом, как свистел и выл ветер и как они говорили и говорили до поздней ночи, потом сготовили завтрак и опять легли и говорили, потом сготовили обед и опять говорили, а старик был здоров и крепок, как всегда, и в ладу со всем миром, сударь, и хоть бы облачко на душе, но когда пробило шесть – слышишь, мальчик? Я хочу сказать, что это за человек был, – когда пробило шесть, он повернулся к Сэму и говорит: «Готовься, Сэм», – и ровно в десять минут седьмого еще раз посмотрел на него и говорит: «Прощай, Сэм, пора мне, ухожу, сынок», повернулся лицом к стене, сударь, и умер! Вот какой это был человек, какой характер и сила воли; и позвольте заметить вам: в нас во всех это было, вот это самое: когда приходил наш час, мы это знали. И отец мой скончался таким же манером, сударь, – целый день просыпался и спрашивал: «Шести еще нет?» – понимаешь, будто в голове что засело. «Да нет, – говорю, – папа, полдень только». А сама думаю: «Шесть, шесть, что это он все спрашивает: нет ли шести?» И в этот самый день, в шесть, сударь, с последним ударом, его не стало. Я повернулась к Джиму и шепотом ему: «Шесть», а он кивает. «Да», – говорит. Мы всегда знаем, не сомневайся.
Но в тот день он тоже там был – мне ли не помнить? Старый Билл Пентленд стоял вместе с нами на дворе и смотрел на проходящие войска, старик, здоровый душой и телом, дважды был женат, детей туча: восемь от первой жены, Марты Паттон, – отец, конечно, был из этой ватаги – и четырнадцать от другой; и что уж греха таить, у него еще была девочка – от женщины из Южной Каролины; женаты они, конечно, не были, и я думаю, правду говорили люди, будто он привез эту девочку домой, посадил за стол с остальными и объявляет им всем: «С нынешнего дня она – ваша сестра, и обращайтесь с ней как подобает», вот как это было. И теперь – подумать только! – все эти дети разлетелись, и каждый завел большую семью – конечно, кто в детстве не умер и кого не убили, – и теперь их сотни: и в горах Катобы, и в Джорджии, и в Техасе, и на Дальнем Западе – в Калифорнии, в Орегоне, по всей земле протянулись, как паутина, и все отсюда, от одного этого старика, сына англичанина, который приехал сюда в революцию копать медные рудники в Янси. Поговаривали, конечно, будто в Англии нас дожидаются большие имения… я знаю: дядя Боб пришел к отцу после смерти Билла Пентленда и сказал, что отец должен этим заняться, но они поразмыслили и отказались: слишком большие расходы… Словом, он был там, Билл Пентленд, и стоял вместе с нами в тот день, когда люди возвращались с войны. И вот идут эти войска, и слышишь: мужчины кричат, а женщины плачут; и видишь: вон один выбежал из колонны, вон другой, а женщины опять заплакали, и тут появляется дядя Боб – подумай, ему всего шестнадцать было, а мне он казался стариком, – босой и в шелковом цилиндре: в каком-нибудь магазине, наверно, стащил, подходит к нам, а мы – в слезы.
«Здрасьте пожалуйста! – Боб говорит. – Вот это называется встреча! – Понимаешь, шутит, развеселить нас хочет. – А я-то думал, мне обрадуются. Не ожидал, – говорит, – что меня слезами встретят. Ну, коли вы так ко мне относитесь, – говорит, – я пошел обратно».
«Боб, Боб, – говорит его мать, – ведь на тебе и башмаков нет, дитятко мое бедное, ведь ты босой весь».
«Не, – говорит Боб. – я их дорогой сбил: до того домой торопился. Так прямо с ног и слетели. А кабы знал, – говорит, – как меня встретят я бы потише шел». И тут они, конечно, засмеялись.
Но женщины, сынок, не поэтому плакали. Столько народу ушло на войну и так и не вернулось – и, конечно, они знали это, они знали… А потом, как мы все набились в дом – и пекли, и жарили целую неделю, и, позволь тебе сказать, хоть и бедные, а еды мы наготовили вволю – не то что нынче подают, по губам помазать: и цыплята, десятка три их зажарили, и окорока вареные, и свинина, и кукурузные початки, и сладкий картофель, и фасоль молодая, и полные тарелки маисового хлеба, и печенье, и яблоки и груши в тесте, и всяческое варенье, и мармелад, и пирогов и пирожных невпроворот, и море разливанное сидру – и ты бы посмотрел, как уписывал все это Боб с Руфусом Александером и Фейтом Паттоном… «Можно подумать, что ни разу не ели досыта, как на войну ушли», – сказала мама, и, кажется мне, она была недалека от истины.
Ну да, ведь я была уже большая тогда – пять лет, – все замечала и все помню, как сейчас, и даже то, что было гораздо раньше, о чем ты и не слыхал никогда, мальчик, хотя и столько книг прочел, – а как же иначе: ведь мы сами все умели делать: и выращивали все, что шло на стол, и стригли шерсть, и красили, сами в лес ходили за сумахом, за бузиной, за корой и кожурой ореховой для красок и полоскали шерсть в зеленом купоросе, черный цвет получался крепкий, вечный и блеска никогда не терял, разве сравнишь с добром, что нынче делают… и все умела делать своими руками: самые лучшие краски, зеленые, желтые, красные, и кудель умела прясть и отбеливать, сама ткала и шила лучшие рубашки, простыни, скатерти… Как сейчас помню тот день – ох, этот противный запах паленых перьев! – мать щипала курицу на дворе… и запах дыма и свежих сосновых щепок у колоды (вот в кого у тебя такое чутье, мальчик!), и как ветер выл и шуршал в жесткой траве, и как мне грустно было его слушать (Салли умерла совсем недавно), и я сижу, веретено крутится – и все это как сейчас вижу, помню все, как было: как они идут дорогой у реки, и слышно, кричат, вопят: «Ура! Ура!» – наверно, ходили в город на выборы. «Ура, – кричат, – ура Хейесу!» – одна толпа кричит, а другая толпа: «Ура Тилдену!»
Господи! Помню ли я? Да как же не помнить! Я такое помню, чего ты и во сне не видел, мальчик.
– Ну, а что же голоса, которые ты слышала?
– А, ну да, я же про то и рассказываю, слушай:
«Два… два», – говорит один голос, и: «Двадцать… двадцать», – другой говорит. «Что там?» – спрашиваю. Говорит: «Два… два», – а потом другой: «Двадцать… двадцать». – «А? Что там?» И опять: «Два… два», – первый голос говорит, а другой говорит: «Двадцать… двадцать».
Ну… И вот ведь интересно: я как раз на днях об этом думала… Не знаю… Но до чего странно, если подумать, а? Да… И вот в тот самый день, двадцать седьмого сентября, значит, – а помню потому, что за два дня как раз, двадцать пятого, я разговаривала с Амброзом Рейдикером, – да, точно двадцать пятого, часов в одиннадцать утра, еще твой папа в мастерской был, вырезал имя на плите для одного человека из Бивердама, жена у него умерла, – и тут является этот. Мел Портер. Твой папа рассказывал, что он вошел прямо в мастерскую, стал и смотрит на него, ни слова не говоря: стоит и головой качает, и папа говорил, что вид у него был огорченный и печальный, словно с ним стряслось ужасное несчастье, – и тогда твой папа ему говорит: «Что случилось, Мел? Я никогда не видел тебя таким грустным».
«Эх, Вилл, Вилл, – говорит он, а сам стоит и головой качает, – если бы ты только знал, как я тебе завидую. Вот ты: у тебя хорошее ремесло в руках, никаких забот не знаешь. Все на свете бы отдал, чтоб поменяться с тобой местами». – «Как так? Да что это ты в самом деле? – говорит твой папа. – Ты, первоклассный адвокат с хорошей практикой, и хочешь поменяться с камнерезом, который должен работать руками и никогда не знает, откуда приплывет к нему следующий заказ! Это ярмо и проклятье, – говорит твой папа, прямо так и сказал: ты же знаешь, какая у него была манера, он любил резануть напрямик и за словом в карман не лез. – Это ярмо и проклятье, – говорит, – и в недобрый час взялся я за это ремесло: ждешь смерти человека, чтобы получить работу, а потом его родичи, эти неблагодарные создания, отдают заказ твоему конкуренту; если бы я занялся тем, для чего был создан, я изучил бы право, как ты, и стал адвокатом». И правду сказать, все так считали, все соглашались, что из мистера Ганта, с его свободной, складной речью и прочим, вышел бы прекрасный адвокат. «Эх, Вилл, Вилл, – говорит тот, – тебе бы на колени стать да благодарить небо, что ты этим не занялся. По крайней мере, тебе не надо думать о куске хлеба, а когда домой приходишь ночью, – говорит, – можешь лечь в постель и уснуть».
«Что ты, Мел? – говорит твой папа. – Да что это с тобой стряслось? Что-то тебя гложет, это ясно как божий день». – «Эх, Вилл, – говорит он и головой качает. – Все из-за этих людей. Я ночей не сплю, все думаю о них». Он не сказал, что это за люди, имен он не назвал, но папа тут же догадался, о ком речь, его сразу осенило, что он говорит об Эдде Мирсе, и Лоуренсе Уэйне, и трех других убийцах, что сидели в окружной тюрьме, – своих подзащитных. А он как раз к ним ездил и только что вернулся; твой папа говорил, что с первого взгляда это понял, потому что у него все туфли и низы брюк были в рыжей пыли Негритянского города – откуда же еще ей взяться?
«Да, Мел, – папа говорит, – я понимаю, это неприятно, но тебе не в чем себя упрекнуть. Ты сделал все, чего можно ждать от защитника, – говорит. И говорит: – Ты сделал для них все, что мог. Я не понимаю, в чем ты себя упрекаешь».
«Ох, Вилл, – говорит тот, – сколько крови мне это стоило, сколько крови. Вот все, кажется, сделал, чтобы спасти их, – говорит, – и вроде ничего больше сделать нельзя. И все же, – говорит, – надо думать, их повесят, а у них ведь жены, дети… И вся их родня умоляет меня их спасти, а я, – говорит, – я просто ума не приложу, что еще для них можно сделать. – И говорит: – Все время, – говорит, – голову ломаю, как их вытащить, но вижу, – говорит, – болтаться им на веревке. И скажу тебе, – а сам головой качает, и папа рассказывал, что он даже с лица спал, – ведь это подумать страшно! Сам посуди, – говорит, – у каждого ребятишки на руках, и все они будут расти с таким пятном на имени, будут знать, что их отцов повесили за убийство. Ведь это ужасно, Вилл, ужасно! – говорит. – Я ночей, – говорит, – не сплю, все о них думаю».
И вот, когда твой папа пришел домой обедать, он мне все это и выложил. И говорит: «Да, скажу я тебе, тяжело ему достается, а? Я полагаю, он сделал все, что мог, но ему кажется, что в чем-то он все-таки виноват, что-то он упустил, а это могло бы спасти им жизнь. – И говорит: – Не могу на него смотреть без жалости, – говорит, – он бледный как привидение и выглядит так, словно не спал неделю». – «Хм! – говорю. – Я тебе вот что скажу: что-то мне это очень чудно! В жизни, – говорю, – не видела адвоката, который бы ночей не спал оттого, что его клиента повесят, и голову могу прозакладывать, – говорю, – что не из-за этого Мел Портер сна лишился. У них, – говорю, – только тогда бессонница, когда они боятся, что им не заплатят, или когда ночью придумывают, как бы им кого обскакать, и если он рассказал тебе такую историю, – говорю, – можешь быть уверен, что он говорил неправду, тут что-то не так, помяни мое слово: что-то тут нечисто».
«Нет, – твой папа говорит, – я думаю, ты ошибаешься; по-моему, – говорит, – ты к нему несправедлива».
«Да ну тебя, мистер Гант! – говорю. – Неужели я такая курица? В этой истории правда и не ночевала – тебя ведь только разжалоби, и ты готов чему угодно поверить».
А он ведь и в самом деле такой: бывало, ругается, орет, спасу нет, а глядишь, наплели ему что-нибудь пожалобнее – и последнюю рубашку снять готов. Да что говорить! Разве брат того же Мела, этот никчемный старый пропойца Руфус Портер – как говорится, если есть бог на небе, то он сегодня получает по заслугам, – с распаренной своей физиономией, красный как рак от всего, что он вылакал, а ведь я, помню, еще девочкой видела, как он прошел между рядами на собрании общества трезвости прошел под ручку с Джетером Александером и подписали обет – господи! – как я говорила потом, если собрать все винище, которое они слили в свои глотки, то прямо хоть крейсер по нему пускай, – вот он пришел к твоему папе и уговорил поручиться за него перед банком, подписать вексель на тысячу четыреста долларов. Как вспомню об этом… Тьфу!.. Я сказала твоему папе: «Вот кого повесить-то надо! Своими бы, – говорю, – руками люк открыла!» А он папе, знаешь, медовым своим голоском: «Все будет в порядке, Вилл. Не допущу, – говорит, – чтобы ты хоть доллар потерял». А у самого ни гроша за душой! «Честное слово, мистер Гант! – говорю ему после. – Это же надо было такого дурака свалять!»
«Да нет, – говорит, – он божился, что не обманет, сказал, что канавы пойдет копать, а вернет все до последнего цента».
«Ну да, – говорю, – и ты был таким дураком, что поверил!»
«Ну, – говорит твой папа, – это послужит мне уроком. Одно могу сказать: больше меня так не надуешь», – говорит.
«Хорошо, – говорю, – поживем – увидим».
И вот двух лет не прошло, как Руфус Портер снова захотел сыграть с ним такую же штуку: набрался наглости войти в кабинет к твоему папе и просить подписать за него вексель на пятьсот долларов. Твой папа до того обозлился, что схватил его за шиворот, выволок на площадь и говорит: «Если ты еще раз здесь покажешься, образина неумытая, – так прямо и сказал, ты же знаешь папину манеру, он слов не выбирал, когда злился, – я тебя убью». Ха! А тут как раз на лестнице городского совета стоял Билл Смейзерс, начальник полиции, и все видел – и кричит твоему папе: «Так его, мистер Гант, и если я поблизости буду, когда он опять придет, я вам помогу; вы, – говорит, – правильно сделали, жаль только, что сегодня, – говорит, – не убили».
Когда твой папа пришел домой и рассказал мне это, я говорю: «Да, он был совершенно прав! Надо было на месте его прикончить. Вот что тебе полагалось сделать. Туда ему и дорога». Очень уж мне обидно было – сам посуди: у нас детей шесть душ, а он свои деньги дарит этому пьяному лодырю – ну кажется, голову бы ему оторвала за такую дурость. «А теперь послушай-ка, – говорю ему. – Пусть это будет тебе наукой: гроша ему больше не смей давать и вообще никому не одалживай денег, пока не посоветуешься со мной. Ты женатый человек, у тебя семья, маленькие дети, и первый твой долг – заботиться о них». Ну, он пообещал, конечно, сказал, что больше не будет, и я, как видно, ему поверила.
– Ну вот, не прошло и трех дней, сударь, как он запил, – домой вернулся пьяней вина; помню, из салуна Амброза Рейдикера прислали сказать нам, что он там и чтобы мы пришли и забрали его: сами они унять его не могут. И я пошла. О господи! Нет, детка! Ты застал его, когда он уже постарел и сдал, и то, я думаю, тебе казалось, что хуже некуда. Но детка! Детка! Если бы ты знал! Если бы ты знал! Таким ты его никогда не видел!.. Этот Рейдикеров негр говорил мне… Ну знаешь, этот длинный желтый негр, рябой, что работал у них, он говорил мне, что твой папа может выпить больше любых четырех мужчин, вместе взятых… Он сказал мне – слышишь? – что сам видел, как отец подошел к стойке и две литровые бутылки ржаного виски выпил не переводя духу. «Ну да, – я говорю Амброзу Рейдикеру, – и вы ему подали! У вас, – говорю, а сама в глаза ему смотрю в это время, и вид у него был довольно-таки побитый, можешь мне поверить! – у вас, – говорю, – у самого жена и дети, где же, – говорю, – ваша честь и совесть, что вы тянете деньги из человека, который должен кормить семью? Да такого, как вы, – говорю, – надо вывалять в смоле и перьях и из города – вон, на шесте». Конечно, с моей стороны это было грубо, но я ему прямо так и сказала.
Ну… и, видно, его за живое задело. Он минуту, наверно, молчал, но, скажу тебе, на лицо его стоило посмотреть… Ух! Вид такой униженный, словно рад бы сквозь землю провалиться. Ну, потом, конечно, нашелся. «Что вы, – говорит, – Элиза! Не надо нам его денег. Не так мы нуждаемся. И ваше хорошее отношение гораздо для нас важнее. К нам, – говорит, – многие ходят, выпивают и ведут себя как следует. Вы же знаете, – говорит, – мы его к себе не заманиваем. Да я бы, – говорит, – был счастливейшим человеком на свете, ежели бы мистер Гант дал зарок капли в рот не брать и, натурально, держался бы этого зарока. Потому что, – говорит, – он как раз такой человек, которому капли в рот нельзя брать. Ладно бы, выпил рюмку и шел себе дальше, так ведь рюмка ему – что капля в море, – так прямо и сказал, – ему, – говорит, – полбутылки нужно, чтобы только во вкус войти, а уж тогда, я вам скажу, – и головой качает, – берегись! Просто-таки не знаем, как к нему подступиться. И не угадаешь, что он через минуту выкинет. И нам тут порой очень даже туго, – говорит, – с ним приходится.
И вы знаете что, – говорит, – бывает, он такое себе в голову заберет, что я ничего похожего не видел. И ну никак не скажешь, что будет дальше. Я помню раз, – Амброз говорит, – он начал бушевать насчет Лидии. И божился, что она вышла из могилы и преследует его за то, какую он жизнь ведет. «Вон она! – кричит. – Вон!.. вон!.. Не видишь, что ли?» И рукой по комнате водит, а потом говорит, что она спряталась за мою спину и оттуда выглядывает. «Да нет, – говорю, – Вилл, никого там нету, тебе просто померещилось». – «Врешь! – говорит. – Ты, дьявол, нарочно ее загораживаешь. Уйди, – говорит, – с дороги. Убью!» И, значит, вскакивает и кидает литровую бутылку, наполовину полную, прямо мне в голову; то есть это чудо, – он говорит, – что меня не убило: я увидел, она летит, и еле голову успел пригнуть, так она все стаканы разнесла на полке, и тогда, – Амброз говорит, – он стал на колени и начал ее умолять: «Лидия! Лидия! Скажи, что ты прощаешь меня, детка». А потом про ее глаза: «Вон!.. Вон!.. Так и сверлят меня, неужели не видишь? Смилуйся надо мной, господи! – кричит. – Она вернулась из могилы, чтобы проклясть меня! Послушать его: просто кровь стынет, – Амброз говорит. – А негр мой, Дан, так он до того, – говорит, – испугался, что удрал: два дня от него ни слуху ни духу не было. Вы же знаете, – говорит, – какие негры суеверные, такой разговор их может до смерти напугать».