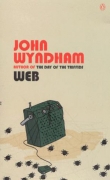Текст книги "Паутина земли"
Автор книги: Том Вулф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
– И, конечно, так я и сказала Амброзу Рейдикеру в салуне у него, давным-давно! «Ведь это же надо, ей-богу, – он говорит. – Это чистое наказание, когда на него находит. Просто-таки не знаешь, что с ним делать, когда он разойдется». – «А я вам скажу, что делать, – говорю, – вы ему вина не продавайте, когда он просит. Берегись бед, пока их нет», – говорю. «Это верно», – он говорит. «Так зачем, – я говорю, – вам нужно это терпеть? Неужели же у вас недостанет силы духа не делать того, что вам не по нутру! Нет, – говорю, – я знаю, вы человек разумный». – «А что я могу сделать?» – он спрашивает. «А вот когда он к вам придет за вином, – говорю, – вы ему откажите. Только и всего». – «Что толку-то, Элиза? – он говорит. – Ну, даст он деньги старику Руфу Портеру и пошлет за бутылкой. А по мне пусть уж лучше на себя их тратит, чем переводить на этого пропойцу». – «Как? – говорю. – Вы что же, хотите сказать – он и так делал?» – «В точности, – Амброз говорит, – и не один раз. Руф приходит и покупает ему вино, а потом они распивают в мастерской». – «Ну, теперь все ясно! – говорю. – Вот где собака зарыта!» И тут я, конечно, поняла, тут я сообразила, почему этот мерзавец им крутит, заставляет подписывать за себя векселя и всякое такое: напоит его сперва, а потом твой папа делает все, что он ему скажет.
«Правильно! – я сказала ему в тот раз, когда он пришел домой и стал рассказывать, как Мел Портер к нему заходил и как он расстраивается, что этих людей повесят. – Туда им и дорога, и жалко, что этого паршивого старикашку, брата его, вместе с ними не вздернут». – «Не смей так говорить, – возмущается, – слушать тебя тошно». Правда, я зла была на него. «Да, – говорит твой папа, – жалко мне все-таки Мела. Он, наверно, такую тяжесть на душе носил и теперь все горюет и мучается от мысли, что их повесят». – «Да ни капли, – говорю, – и если он тебя такими историями потчует, то ты легковерней меня и не так знаешь Мела, как я знаю. Вот помяни мое слово, – говорю, – не из-за этого он беспокоится». – «Нет, – он говорит, – я думаю, ты ошибаешься». – «Ну что ж, – я говорю, – поживем – увидим».
А ждать нам недолго пришлось. В ту же самую ночь, сударь, они сбежали из тюрьмы. Удрали живые-невредимые, все пятеро, и ни одного из них так и не поймали. «Ага, – я говорю ему, – что я тебе говорила? И ты был такой дурак, что поверил, будто Мел из-за их казни печалится? Теперь ты видишь?» – «Да, – он говорит, – кажется, ты права. Вот что его беспокоило! Он, наверно, знал». – «Знал?! А как же иначе! – говорю. – Конечно знал!» Тут нам стало ясно, что он с самого начала об этом знал, знал, что они сбегут этой ночью, и в душе этого страшился, он боялся, что выйдет как-нибудь не так и опять будет кровопролитие, потому что они были безжалостные и отчаянные люди и, не задумавшись, убили бы любого, кто стал бы у них на пути, поэтому, конечно, и совесть была неспокойна у Мела Портера. «Да, – сказал твой папа, – это ужасно, мне даже думать об этом не хочется».
«Что ты скажешь? – говорит мистер Гант. – На днях заходит ко мне Док Хенсли и пытается всучить мне два пропуска на казнь, чтоб мы с тобой посмотрели. Ты подумай! – говорит. – Полгода назад были собутыльниками, а теперь Док ждет не дождется, чтобы люк под ними открыть». – «Да, – я говорю, – такая была дружба – водой не разольешь». И ведь это правда. Эд Мирс и Лоуренс Уэйн двадцать лет были закадычными дружками с Доком Хенсли. «И скажу тебе, – я ему говорю, – не думаю, чтобы любой из них был хуже Дока. Одного, – говорю, – поля ягоды, и Док Хенсли не меньше ихнего пролил крови, и, думаю, сам это знает. Разница, – говорю, – только в том, что он носил бляху и злодействовал под охраной закона и власти». И в самом деле! Разве все не показывали против него, когда его судили за убийство Риза Маклендона, – его, понятно, отпустили, на том основании, что это, мол, была самооборона, а он – полицейский при исполнении служебных обязанностей: только я тогда же сказала твоему папе: «Ты не хуже моего знаешь, что это самое что ни на есть умышленное и хладнокровное убийство». Конечно, Риз был ужасно сильный человек, и когда он, бывало, напьется, – это страх божий, да и сам он, надо думать, не одного человека убил, но ведь они с Доком Хенсли были закадычные дружки и ладили – лучше не надо… и вот, стало быть, забирают его пьяного за нарушение порядка. Говорили, он так расшумелся, что его пришлось из камеры убрать. Ох! Рассказывали, по всей площади было слышно, как он выл и бесновался, и тогда его посадили в этот, как он у них назывался, каземат, а был это самый обыкновенный подвал с земляным полом, и прежде в нем городских лошадей держали. Теперь, значит, чем этот Хенсли оправдывался: он сказал, что будто бы спустился к нему поговорить и как-нибудь его утихомирить и якобы Маклендон подобрал с пола старую подкову, и когда он вошел, то Риз бросился на него и хотел проломить ему подковой голову.
И будто бы, значит, выходило так, что либо ему не жить, либо Ризу, и он вырвал у него подкову, стукнул его по лбу – и насмерть. А остальные, кто был на суде, говорили, что он вышел из подземелья весь в крови и сказал: «Врача бы надо к Ризу. Боюсь, что я его убил». Ну и, конечно, когда врач пришел, ему уже нечего было там делать: он сказал, что Маклендон помер. Сказал, что, судя по всему, его раз сто ударили – полголовы разбито в кашу – и он плавает в собственной крови. Смотреть, говорят, было невозможно.
– Твой папа пошел на суд, а потом рассказывал. «Знаешь, – говорит, – за всю мою жизнь не слыхал ничего похожего на сегодняшнюю речь Зеба Пентленда перед присяжными». А Зеб, твой двоюродный брат, был как раз обвинителем. «Это была мастерская работа, – говорит твой папа, – и мне жаль, что ты его не слышала». – «Ну, а что с ним сделают? – спрашиваю. – Приговорят его?» – «Да что ты! – папа говорит. – Отпустят, конечно. Оправдают, мотивируя самообороной, но скажу тебе, – говорит, – ни за какие миллионы не хотел бы я сегодня быть в его шкуре. И можешь мне поверить, – говорит, – он до конца своих дней не забудет того, что сказал ему Пентленд. Он бледный весь был, когда слушал, он до гроба это будет помнить». И, конечно, на суде всплыло – Зеб Пентленд доказал это, – что Док Хенсли застрелил и убил восемнадцать человек с тех пор, как поступил в полицию, и папа рассказывал, что Зеб повернулся к присяжным и сказал: «Вы дали полицейский значок, вы доверили власть и охрану закона человеку, не ведающему ни милосердия, ни жалости, для которого пролить чужую кровь – все равно что муху убить; вы вручили ему заряженный пистолет, и сейчас, – говорит, – некоторые из вас снова готовы спустить этого бешеного пса, чтобы он свирепствовал, сеял гибель и отнимал жизнь у безвинных и беззащитных. Посмотрите! – говорит. – Вот он сидит перед вами, съежась и дрожа от страха, с каиновой печатью на лбу и руками, обагренными кровью его жертв! Персты мертвых указуют на него из могилы, их кровь вопиет о возмездии, и с нею – голоса тех, кого он сделал вдовами и сиротами…» Да, мистер Гант сказал, что это была сильная речь, а Хенсли побелел и задрожал, словно тени убитых вправду вернулись, чтобы обвинить его. Но, конечно, его оправдали, как все и предсказывали.
Господи, как я сказала твоему папе, я подойти к нему близко не могла с тех пор, как они пригласили нас к себе обедать, и нате вам, извольте радоваться: на столе у него, где люди есть собираются, – нет, ты подумай, говорю, а? – череп негра, которого он застрелил; это же надо быть таким варваром, я твоему папе сказала, чтобы сделать такую вещь, когда к нему гости приходят обедать, и дети его тут же – ставить его, представляешь, вместо сахарницы! И еще хвастается им, знаешь, словно подвиг какой совершил, а макушка у черепа спилена, крышку изображает, и во лбу, где пуля прошла, – дырка, чтобы сахар сыпать. Меня чуть наизнанку не вывернуло, крошки в рот не могла взять. Когда мы вышли, твой папа сказал: «Ноги моей здесь больше не будет. Знать, – говорит, – не желаю такого безжалостного человека. Просто кровь стынет в жилах». И действительно, с того дня он ни разу не был в их доме. Ох, до чего же он его не переносил! Но говорят, что из-за этого в конце концов он и наложил на себя руки – помню, Гилмер, квартирант, принес мне эту новость; понимаешь, приходит прямо ко мне на кухню и говорит: «Такое страшное зрелище. – Говорит: – Я первый его увидел. Слышу вдруг – какой-то выстрел, – говорит, – прямо за новым судом; я туда подошел и вижу: он лежит возле груды кирпича. Не сразу и догадались, кто это, – ему полголовы снесло, так что и узнать нельзя было. Представляете, какой ужас!»
«Что ж, – говорю, – я не удивляюсь. Поднявший меч от меча и погибнет». И, конечно, так оно и вышло – видно, совесть его замучила, не мог он ее заглушить. Да и разве Эми не говорила нашей Дейзи, еще когда они вместе в школу ходили: «Ох, – говорит, – что с папой творится! (Понимаешь, не мог удержаться ребенок.) Просто не знаем, что с ним делать. Мы боимся, что он сойдет с ума, – говорит. – Просыпается среди ночи с криком, с плачем, и мы все думаем, что он помешался». – «Ага, – сказала я твоему папе, когда про это услышала, – теперь ты видишь? Злодей бежит, когда никто не гонится за ним» [1]1
«Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним…» Притчи, 28, 1.
[Закрыть]. – «Да, – он говорит, – я думаю, ему многое хотелось бы забыть. На его совести столько преступлений, что он не может их забыть. И все это, конечно, – муки нечистой совести. Я не удивлюсь, – говорит – если в один прекрасный день он покончит с собой».
Но, конечно, долго казалось, что все у него обошлось. Из полиции он уволился и стал ретивым богомольцем, столпом методистской церкви и всякое такое: каждое воскресенье подле кафедры аминил с самыми усердными и… Да! Смотри, как бывает! В торговлю недвижимостью ударился – что ты скажешь? – катал по городу на большой машине, сбывал «Холмы Хенсли» и тому подобное, и, надо полагать, в ту пору, как и все мы, изрядно заработал денег – или думал, что заработал.
Помню, когда я покупала эти участки у В. Д. Брайана, он мне сказал, что Хенсли был его посредником в двух-трех сделках, и, видно, Брайану он пришелся по душе – он начал хвастаться им, говорит: «Должен вам сказать, – говорит, – что Хенсли очень и очень порядочный человек. За все время, что я имел с ним дело, – говорит, – я ни разу, кажется, не слышал от него грубого выражения или слова, которое нельзя было бы произнести при даме». – «Хм! – думаю я себе. – Воистину времена меняются». Подумала так, но ему, конечно, ничего не сказала: как-никак интересно послушать. «Да, – он говорит, – имея с ним дело, я убедился, что это честный и порядочный человек, и больше того: каждое воскресенье вы можете видеть его на своем месте в церкви. И для человека, никогда, по его словам, не ходившего в школу, – говорит, – у него весьма основательное знание Библии. Я, – говорит, – экзаменовал его лично по текстам из самых разных книг Священного писания и ни разу, – говорит, – его не посадил. В наши дни, – говорит, – это редкость, чтобы деловой человек так глубоко интересовался духовными вопросами; общество, – говорит, – по справедливости может им гордиться». – «А, конечно, – говорю, – наверно, вы правы, только вот вы многого еще не знаете про наше общество. Конечно, – говорю, – вы тут недавно, а пожалуй, было время, когда Док Хенсли не был такой гордостью общества, как нынче». – «Да? Когда же это было?» – спрашивает. «Ну, – говорю (Я, конечно, не собиралась ничего рассказывать – только, знаешь, подмигнула ему и говорю), – может, не стоит нам былье-то полоть? А было это, – говорю, – давненько, в ту пору примерно, когда вы в президенты себя в первый раз выставляли».
Ну, сударь мой, он только голову закинул и – ха-ха-ха! «Да уж, – говорит, – видимо, и в самом деле давно. Что ж, может, и правда не стоит дальше рассказывать, – говорит, – но, – говорит, – руку даю на отсечение, если бы было что-нибудь, что мне надо было бы узнать, – говорит, – вы бы это вспомнили». – «А как же, – говорю, – конечно. И хотя у самой у меня тоже, – говорю, – хвастунам особой веры нет, – считается, что у меня довольно неплохая память». – «Да, – говорит, – и я бы сказал, не зря считается. Я на днях как раз говорил жене, до чего удивительно встретить человека, который бы так живо интересовался происходящим вокруг. Знаете, – говорит, – я ей сказал, мне кажется, вы помните все, что с вами происходило в жизни». – «Нет, пожалуй, – я говорю, – это вы преувеличили. Пожалуй, из тех времен, когда мне было меньше двух, я кое-что не очень хорошо помню, но уже после этого я едва ли что позабыла». – «Да головой ручаюсь, что не забыли», – он говорит и хохочет, заливается. Но тут я, конечно, сказала ему, – понимаешь, все-таки вредить человеку не хочется, и я подумала: если есть в нем что-то хорошее, этого у него не отнимешь, и говорю: «Против каждого можно что-нибудь найти, мистер Брайан. Все мы, – говорю, – живые люди, не без греха. Не судите да не судимы будете», – говорю. «Разумеется, – говорит, – мы все должны быть терпимы». – «И думаю, если бы я захотела, – говорю, – то могла бы рассказать про Дока Хенсли такое, чем вряд ли можно гордиться нашему обществу, но, – говорю, – насчет одного вы можете быть спокойны: он прекрасный семьянин и очень привязан к жене и детям, и что бы он там ни натворил, в распутстве и прелюбодействе его никто не мог упрекнуть». И это была чистая правда: на суде пытались доказать про него что-нибудь вроде этого, чтобы уж кругом его опорочить, хотели изобразить, будто он ухаживал за другими женщинами кроме жены, но все напрасно, сударь, они сами признали: с этой стороны к нему не подкопаться.
– «Как же, Док, – твой папа ему сказал, – эти люди двадцать лет были вашими приятелями, не понимаю, – говорит, – как у вас хватит духу». А тот ему в ответ: «Да, я знаю, – говорит, – это ужасно, но ведь кто-то должен это сделать. Это моя обязанность, меня для этого люди избрали, и притом, – говорит, – я надеюсь, что Эду и Лоуренсу приятнее будет, если это сделаю я. Мы это уже обговорили». Ну да, всем известно было, что он навещает их в тюрьме: как-никак дружки, сударь мой, – хохотали там с ним, шумели, – вот он и говорит: «Им приятнее будет, если это сделаю я, а не чужой кто-нибудь». – «Да, – говорит мистер Гант, – но вас же совесть будет мучить. Не представляю, как вы сможете спать по ночам после такого дела». – «Тю! Ерунда, мистер Гант. Совсем даже, – говорит, – меня это не беспокоит. Я, – говорит, – сто раз это делал. От меня что нужно? Защелку спустить. Для меня это – все равно что шею свернуть куренку». «Ну, скажи на милость, – меня твой папа спрашивает. – Слыхала ты когда про такого человека? Похоже, что в нем ничего человеческого, никакой жалости не осталось», – говорит.
Ну, мы так и не узнали, имел он к этому касательство или нет: знал ли, что они собираются бежать, но если знал, то очень странно, что… «Послушай, – мне мистер Гант говорит дня через два после этого, – кажется, мы были несправедливы к Доку Хенсли. Я думаю, – говорит, – он знал про этот побег с самого начала, поэтому, – говорит, – он и был так спокоен». – «Да? – говорю. – Что-то это больно странно. Если бы он про это знал, то зачем он пришел к тебе с пропусками? Чего это ему так приспичило, чтобы мы посмотрели на казнь?» – «Ну, – говорит, – я думаю, он просто хотел отвести от себя подозрения». – «Нет, сударь мой, – говорю ему, – я ни вот столечко этому не верю. Ему просто не терпелось их повесить, да, и он уже ручки потирал». Ну, мистер Гант, конечно, не согласился – ему не хотелось верить, что бывают на свете такие черствые люди.
Потом, само собой, пошли слухи, что всё это неделями готовилось, что, дескать, Джона Рэнда, тюремщика, как говорится, подмаслили, чтобы он их выпустил. Правда, доказать про него ничего не сумели, может, он и вправду был честным человеком и ни к чему не причастным, да только больно странно уж все получилось: представляешь, находят его в камере Эда, спутан – чисто куколка, а на самом ни царапинки, словно и не думал сопротивляться. Ну, он объяснял так, что будто бы принес Эду и Лоуренсу ужин, а они его одолели, связали, едва он вошел, а потом будто бы забрали у него ключи, отомкнули остальных и были таковы. Те трое-то ничего общего с Эдом и Лоуренсом не имели – простые обыкновенные убийцы, неумытые рожи, как твой папа их назвал, – тоже ждали виселицы, и говорят, будто Эд сказал Лоуренсу: «Выпустим и их заодно, раз такое дело».
– Странноватое получалось у Джона Рэнда объяснение. Людям оно не очень-то по душе пришлось. А через полгода Джон Рэнд заводит собственное дельце: открывает громадный водопроводный магазин на Южной Главной улице, и товару у него – на много тысяч. «Послушай, – твой папа мне сказал, – ты знаешь, что говорят? Говорят, подкупили Джона Рэнда, чтобы он дал им сбежать». – «Что ж, – отвечаю, – очень может быть. Уж больно странно, – говорю, – что человек, который никогда больше пятидесяти долларов в месяц не зарабатывал, вдруг заводит такое большое дело. Откуда, скажи, взялись такие деньги? Согласись, что-то тут нечисто». – «Да, – твой папа говорит, – но кто его подкупил? Откуда взялись эти деньги?» – «Ясно, – говорю, – откуда: из округа Янси, где вся их родня. Откуда же еще?» – «А что, – он говорит, – они зажиточные люди?» – «Очень даже, – говорю, – очень, и они до последнего гроша выложатся, чтобы вызволить их из тюрьмы. – Я, конечно, знала, о чем толкую. – Слушай, – говорю, – я прожила здесь всю жизнь и лучше тебя знаю этих людей. Я, – говорю, – выросла среди них и скажу тебе: они ни перед чем не остановятся. – И говорили, что деньги рекой сюда лились, тысячи долларов истратили на защиту. Да как же! Разве не рассказывали, что один только старый судья Трумен – брат того самого профессора Трумена – ну да, Эд Мирс и Лоуренс Уэйн на дочерях его были женаты, на сестрах, – так вот один только судья Трумен, а он был один из самых видных юристов в Янси, истратил десять тысяч с лишним на их защиту. – И можешь быть уверен, – я говорю твоему папе, – это только капля в море. Где бы они сейчас ни были, они хорошо обеспечены, и можешь, – говорю, – поберечь свою жалость для кого-нибудь другого». – «Что ж, – он говорит, – я рад, что они сбежали. Довольно тут пролито крови и без этого. Не вижу нужды еще добавлять».
Я головой покачала и говорю: «Нет, ты не прав. Их надо было повесить, и мне жаль, что они не получили по заслугам. Но я рада, – говорю, – что мы поступили так, а не иначе. Если бы их поймали, – говорю, – я бы не стала огорчаться, но я не хочу, чтобы чья-то кровь – виноватого или невинного – была на моей совести». – «Да, – он говорит, – и я тоже». – «Но ты же знаешь, – говорю, – не хуже моего знаешь, что по этим каинам веревка плачет». Так прямо и сказала, а как же: убийство ведь, самое злодейское и умышленное убийство, какое только можно вообразить. На суде ведь рассказывали, как они пришли на эту слюдяную шахту в субботу после обеда, когда получку выдавали, и стали драку затевать – просто так. Ладно, если бы за деньгами пришли, я папе сказала, кассу бы хотели ограбить – это еще как-то можно понять. Так нет ведь! Им охота было бузу завести, и они к этому подготовились. Конечно, оба напившись пришли, а от вина они всегда зверели. И вот начинают придираться к кассиру – порядочному, говорят, и тихому человеку, – платить ему не дают, и тут как раз входит в контору Джон Бэрджин. «Слушайте, – говорит, – ребята, нехорошо вы себя ведете. Шли бы вы отсюда, а? (Понимаешь, образумить их хотел.) Пока неприятностей себе не нажили!» А Лоуренс Уэйн ему отвечает: «А тебе-то, черт подери, какое дело, как мы себя ведем?» – «Да мне никакого, – Джон Бэрджин говорит, – только неприятно мне, что вы так поступаете. Я не хочу, чтобы вы попали в беду, – говорит, – и я знаю, что завтра утром вы проснетесь и будете об этом жалеть». – «А ты не беспокойся, – Лоуренс Уэйн ему говорит, – что мы будем думать завтра утром. Ты о себе беспокойся. Такие, как ты, – говорит, – бывает, вообще не просыпаются. А мне, – говорит, – давно твоя рожа не нравится. А ну, иди отсюда, – говорит, – пока ноги ходят». – «Хорошо, – Джон говорит, – я уйду. Я не хочу с вами скандалить. Я просто хотел убедить вас, чтоб вы, хотя бы ради детей и жен своих, вели себя прилично, но раз у вас такое отношение, я уйду». И, говорят, он повернулся и пошел прочь, и тут Эд Мирс его застрелил. Повернулся, говорят, к Лоуренсу и с пьяной такой ухмылкой спрашивает: «Как, по-твоему, Лоуренс, попаду я в него?» И человеку, который никакого зла ему не причинил, выстрелил в затылок… А потом, конечно, набросились на кассира с помощником, убили обоих и удрали. «И подумать только! – я твоему папе сказала. – Ведь, кажется, ни причины, ни повода никакого не было – просто захотелось убивать, и ничего, – говорю, – кроме петли они не заслуживают». – «Верно, – он говорит, – но я рад, что мы так поступили».
Так вот, мальчик, что я хочу тебе сказать…
– «Два… два», – один голос говорит, а другой: «Двадцать… двадцать».
Я точно помню, когда это было… сейчас я тебе, сударь мой, скажу: это было двадцать седьмого сентября, без двадцати минут десять вечера. А почему я помню (я как раз и хочу тебе рассказать) – ровно за два дня до этого, двадцать пятого числа, был у меня тот разговор с Амброзом Рейдикером в салуне – вот когда. Я еще подумала: сил моих нет больше терпеть, всё, хватит с меня; и пошла туда сама, думаю: поговорю с ним по душам.
Ну, я увидела, что Амброз мне правду говорит; это было в тот раз, когда он мне рассказал, как твой папочка допился до горячки и против китайцев воевал – и сколько от него было неприятностей… и надо отдать ему справедливость: хоть и кабатчик, а видно, правду мне говорил, не кривил душой. «Вот, – он говорит, – я все, что мог, сделал, но если еще что-то можно сделать, – говорит, – чтобы отвратить его от пьянства, скажите, и я сделаю!» И правда! В тот же самый вечер зашел к нам по дороге домой – мы еще сидели после ужина, и папа мне газету читал – и говорит: «Вилл, обещай мне, что ты постараешься бросить пить. Не могу я смотреть, – говорит, – как человек с твоим умом и красноречием спивается, ведь ты всего можешь достигнуть, стоит тебе только захотеть!» – «Ну да, – я говорю, – голова у него хорошая, это верно. Не думаю, чтобы в городе у нас нашелся человек хотя бы вполовину такой способный от природы, и он бы далеко пошел, – говорю, – если бы не эта проклятая страсть к вину. И я одно, – говорю, – знаю: научился он этому не от моей родни – вы знаете, мой отец, майор Пентленд, в рот не брал спиртного и не пускал человека на порог, если думал, что он пьет». – «Да, я знаю, – Амброз говорит, – он чудесный человек, и мы им гордимся. – И говорит: – Вилл, у тебя, – говорит, – есть все, что нужно человеку для счастья: чудесная жена, детишки, хорошее ремесло в руках, и ради них, – говорит, – Вилл, ты не должен этого делать, ты должен покончить с пьянством». И твой папа признал, что он прав, пообещал, что больше не притронется к бутылке, и Амброз пошел домой, и было это в ту самую ночь, да, двадцать седьмого сентября.
И вот я услышала! «Два… два», – один говорит, а другой говорит: «Двадцать… двадцать». – «Господи, женщина! – говорит мистер Гант. – Да никого там нету! – Подошел к окну, понимаешь, выглянул и говорит: – Тебе что-то померещилось. Ничего ты слышать не могла».
«Да нет же, слышу! – говорю. И правда, слышно было ясно, как не знаю что. – Вон, опять!» – говорю. И правда, слышу: «Два… два…» – первый голос, у окошка, а другой: «Двадцать… двадцать…» – прямо на ухо мне.
И сейчас же колокол зазвонил – который на суде, помнишь? – и громко так, часто, что есть силы. «Боже мой! – говорю. – Что-то стряслось. Что это может быть, как по-твоему?» И с самой площади было слышно, как там кричали, и вопили, и били окна в магазине Кёртиса Блэка, чтобы ружья взять, – почему там и звон стоял, оказывается; и, конечно, твой папа – мужчина разве усидит? – вскочил, схватил шляпу и говорит: «Пожалуй, надо пойти посмотреть».
«Ой, не ходи, – говорю, – не ходи! Прошу тебя, не надо. Не оставляй меня одну, когда я в таком положении». – «Да господи! – говорит. – Я через полчаса назад буду. Все у тебя в порядке. Ничего с тобой не может случиться». Я головой покачала: у меня было предчувствие – не знаю, как еще это назвать, – но чувствую, что-то страшное, страшное приближается, несчастье какое-то. «Прошу тебя, не уходи», – говорю, а его уж и след простыл.
– Я посмотрела на часы, когда он вышел, и минутная стрелка стояла ровно на без двадцати минут десять.
Жду. И чувствую – понимаешь, не знаю, что это, но чувствую, что приближается, слушаю, как тикают эти старые деревянные часы на камине – тик-так, тик-так, – отстукивают минуту за минутой, и скажу тебе, так долго мне никогда не приходилось ждать, каждая эта минута казалась часом. Потом пробило десять.
И тут я услышала: крадется по переулку перед нашим домом, потом слышу, проволочная изгородь заскрипела за окном, и что-то упало на клумбы во дворе – и вот уже, слышу, подкрался сюда и ползет тихо, осторожно по веранде за дверью гостиной. «Боже мой! – говорю: тут меня осенило, что это значит. – Пришли! Они здесь! Что мне делать, – говорю, – одной, с детьми, против этих катов?»
И тут, конечно, я поняла, что значило это предостережение – «Два… два» и «Двадцать… двадцать»: они хотели предупредить меня и твоего папу, что эти будут здесь через двадцать минут. «Зачем он ушел, зачем не послушал? – я сказала. – Ведь вот что они хотели ему сказать».
Я подошла к двери, не знаю, откуда только смелость и силы взялись при моем положении, не знаю, как у меня только духу достало – нет, детка! Нет! Должно быть, свыше мне даны были силы и смелость встретить их, – и распахнула дверь. Тьма была кромешная: осень уже начиналась. Только что дождь прошел и перестал и… Господи! Темень такая, что ножом, кажется, можно резать, и все кругом тяжелое, затихло, оцепенело, поэтому так хорошо и слышно было, что на площади творилось, а тут – ни звука! Былинка не шелохнется!
«Ну, хватит, – я в темноту крикнула, знаешь, будто бы и не боюсь ничего. – Я знаю, что ты здесь, Эд! Можешь войти». Он молчит. Я слушаю. Слышу: дышит где-то, тяжеленько так. «Неужто в самом деле, – говорю, – ты меня боишься? Я совсем одна, – говорю, – беззащитная женщина, тебе нечего бояться». Я знала, конечно, что это его уязвит.
И, конечно, это задело его гордость – тут же поднялся и в комнату входит. «Я никого не боюсь, – говорит, – ни мужчины, ни женщины». – «Да уж, – говорю, – наверное не боишься. По крайней мере, говорят, что Джона Бэрджина ты не боялся, когда стрелял ему в спину, когда он уходил от тебя, и уж наверно, – говорю, – человек, который столько душ загубил, сколько ты, не станет бояться одинокой, беспомощной женщины, которая осталась в доме без защитника. Как это я сразу не поняла, – говорю, – что меня ты не боишься».
«Да, Элиза, – говорит, – не боюсь, поэтому я и пришел сюда. И тебе, – говорит, – нечего меня страшиться. Я пришел сюда потому, что знаю, – говорит, – что могу тебе довериться и ты меня не выдашь. Ты должна мне помочь», – говорит. И уж до того тяжело на него было смотреть – прямо как зверь затравленный… Одно тебе скажу: ни за что на свете не хотела бы я еще раз увидеть такие глаза, как у него той ночью, – если бы он в аду побывал и вернулся, и то, верно, было бы не хуже. Это было свыше моих сил: я не смогла бы донести на него, что бы он там ни сделал. «Ладно, – говорю, – Эд. Можешь не опасаться меня: я тебя не выдам. И скажи Лоуренсу, пусть тоже входит. Я знаю, что он тут».
Он только что рот не разинул, «Почему ты так говоришь? – спрашивает. – Лоуренс не здесь. Его нет со мной». – «Нет, – говорю, – я знаю, что он здесь. Наверное знаю. Можешь ему так и сказать и скажи, пусть заходит». – «Но откуда ты можешь знать? – он спрашивает с беспокойством. – Почему ты так уверена?» – «Скажу тебе, – отвечаю. – Меня предупредила об этом, Эд. Я знала, что вы оба придете». – «Предупредили? – говорит, и вижу, начинает волноваться. – Кто тебя предупредил? – спрашивает. – Тут кто-то был? Откуда он знает?» – «Ты не волнуйся, Эд, – отвечаю. – Да,– говорю, – кое-кто был здесь и предупредил, что вы с Лоуренсом идете, но ты можешь не опасаться его – на этом свете. Тот свет, конечно, другое дело, – говорю, – за него я тебе не могу обещать. Тебе самому придется с ним встретиться». Посмотрел он на меня – глаза у него так и выкатились. «Духи?» – говорит. «Да, – отвечаю, – это были они! Я не знаю, что это за духи, но они явились предупредить меня, они шептали мне на ухо и сказали, что вы с Лоуренсом направились сюда и будете через двадцать минут».
– Лицо у него было, доложу тебе… Наконец, он говорит: «Нет, Элиза, ты ошибаешься. Я не хочу тебя волновать, – говорит, – но если они и являлись сюда, то хотели предупредить о чем-то другом. Не обо мне и Лоуренсе. Клянусь тебе!» – говорит. «Как это понять?» – спрашиваю. «Я же тебе сказал, – отвечает. – Лоуренса нет со мной. Мы разделились у тюрьмы: мы решили, что так лучше, и он бежит в Южную Каролину. А я пойду через горы, – говорит, – и если нас не поймают, мы надеемся встретиться на Западе». – «Посмотри мне в глаза, – приказываю, – ты правду говоришь?» Ну, он посмотрел мне в глаза и говорит: «Да. Накажи меня бог, если вру!»
Ну, я смотрю на него и вижу, что он правду мне говорит. «Что ж, – говорю, – значит, о чем-то другом, о чем, пока не знаю, но это я выясню. А теперь, – говорю, – зачем ты пришел ко мне в дом? Чего тебе нужно?» – спрашиваю. «Элиза, – говорит, – сегодня ночью мне надо через горы перейти, а у меня ботинок нет, я босой». И тут я смотрю, действительно – должно быть, от волнения сначала не заметила – стоит оборванный, весь в крови, босой; и смотреть страшно, и глаз не оторвать: ни ботинок, ни пиджака, ничего на нем нет, кроме старых штанов, таких обтрепанных, словно он спал в них в тюрьме все время, да грязной фланелевой рубахи, донизу разодранной под мышкой, волосы у него слиплись, свалялись, словно птичье гнездо, на глаза свисают, бороде, наверно, второй месяц пошел – можно подумать, не стригся, не брился в тюрьме ни разу, – словом, доведись ему с медведем встретиться, так и тот бы умер со страху. Ну и ну, я потом твоему папе сказала, они обо всем подумали, чтобы помочь ему удрать, кроме самого нужного: видите ли, пистолет ему дали с патронами, чтобы людей убивать – мало он их убил, – а башмаков на ноги да пиджака, чтоб не мерзнуть, – на это ума не хватило. «Отродясь ничего подобного не видела!» – я сказала папе.