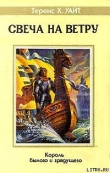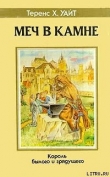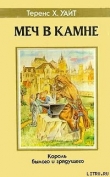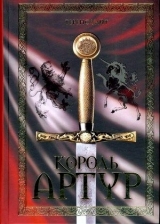
Текст книги "Король Артур (сборник)"
Автор книги: Теренс Хэнбери Уайт
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 63 страниц)
37
Сэр Борс-женоненавистник без особой охоты согласился сразиться за Королеву, если никого иного отыскать не удастся. Он объяснил ей, что ему вообще-то делать этого не следует, поскольку и сам он присутствовал на обеде, но когда Артур застал Королеву стоящей перед ним на коленях, сэр Боре покраснел, поспешил поднять ее и согласился. Затем он на пару дней куда-то исчез, ибо суд должен был состояться спустя две недели.
Для поединка приготовили луг близ Вестминстера. По сторонам широкого квадрата воздвигли заграждение из крепких бревен наподобие лошадиного загона – только заграждение без барьера внутри. Если бы речь шла об обычном бое на копьях, тогда барьер построили бы, но в данном случае биться предстояло не на жизнь, а на смерть, а это означало, что для окончания поединка рыцарям, возможно, придется спешиться и биться на мечах, и оттого барьера городить не стали. По одну сторону луга воздвигли помост для Короля, по другую – для Лорда-Констебля. Помост и заграждение обтянули тканями. По концам ристалища устроили занавешенные проходы, вроде тех, сквозь которые выезжают на арену циркачи. В одном из углов его помещалась всем желающим на обозрение огромная груда хвороста с железным столбом посередке, таким, что не обгорит и не расплавится. Столб и хворост предназначались для Королевы, коли закон признает ее виновной. Перед тем, как Артур приступил к главному труду всей его жизни, человек, посмевший в чем-либо обвинить Королеву, был бы предан смерти прямо на месте. Теперь же, благодаря проделанной им работе, ему надлежало приготовиться к тому, чтобы послать на костер собственную жену.
Ибо в мозгу Короля начала вызревать новая мысль. Все прежние усилия прорыть для Силы отводной канал пошли прахом, даже когда перед ней были поставлены духовные цели, и ныне он нащупывал путь к полному ее искоренению. Довольно раболепствовать перед Силой, решил Король, Силу следует выкорчевать со всеми ее корнями и сучьями, установив новые основания бытия. Мысль его подбиралась к Праву, принявшему вид самодовлеющего критерия, к Правосудию как отвлеченному принципу, не опирающемуся на насилие. Еще несколько лет, и он додумался бы до Гражданского Права.
День был холодный. Ткань ограждения и шатра натянулась, и флажки, распластавшись, лежали по ветру. Палач в своем углу дул на пальцы, пристроившись поближе к жаровне, от пламени которой ему предстояло запалить огромный костер. Герольды в шатре Лорда-Констебля облизали потрескавшиеся на ветру губы, перед тем как прижать к ним трубы и сыграть фанфары. Гвиневере, сидевшей между солдатами из стражи Констебля, пришлось попросить, чтобы ей принесли шаль. Она заметно осунулась. Печальное, немолодое лицо застыло в ожидании, напряженном и стойком, между мясистыми лицами стражников.
Разумеется, спас ее Ланселот. Боре за время своей двухдневной отлучки сумел отыскать его в монашеской обители, и в самый последний миг Ланселот вернулся, чтобы сразиться за Королеву с сэром Мадором. Никто из знавших его и не ожидал ничего иного, – был ли он отослан с позором или без оного – но поскольку считалось, что Ланселот покинул страну, его возвращение окрасилось в драматические тона.
Сэр Мадор выехал из прохода на южном конце ограждения и, пока его герольд дул в трубу, огласил свои обвинения. Из северного прохода появился сэр Боре и тут же отправился совещаться сначала с Королем, а после с Констеблем, вступив с ними в длинные, запутанные объяснения либо споры, сути которых из-за ветра никто уловить не смог. Зрители забеспокоились, гадая, в чем помеха и почему судебный поединок не продолжается, как ему следует. Затем, после нескольких путешествий от королевского помоста к помосту Лорда-Констебля, сэр Боре скрылся в своих воротцах. Возникла неуютная пауза, во время которой черная комнатная собачонка с приплюснутым носиком выскочила на ристалище и понеслась неведомо куда, по каким-то лишь ей известным делам. Один из рыцарей стражи изловил ее и связал навыйником от щита, за что публика наградила его ироническим «ура». Затем наступило молчание, нарушаемое лишь криками лотошников, расхваливающих свои орехи и имбирные пряники.
Ланселот выехал из северного прохода с гербом Борса на щите, и все, сидевшие в амфитеатре, мгновенно поняли, что это он, только переодетый. Тишина наступила такая, словно все разом затаили дыхание.
Он вернулся не из снисходительной жалости к Королеве. Грубое объяснение насчет того, что он-де «покончил с ней», чтобы спасти свою душу, а теперь возвратился, явив волнующую щедрость этой же самой души, – это неверное объяснение. Все было гораздо сложнее.
Главная беда этого рыцаря – с самого его детства, из которого он в полной мере так и не вышел, – состояла в том, что для него Бог был живым существом. Не абстракцией, которая карает тебя за пороки и награждает за добродетели, а живым существом, как Гвиневера или Артур, или кто угодно другой. Ланселот, разумеется, чувствовал, что Бог по всем статьям превосходит Гвиневеру или Артура, но главное было все-таки в том, что Он оставался для Ланселота живым человеком. У Ланселота имелись совершенно определенные представления относительно того, как этот Человек выглядит, и что он чувствует, – и в некотором смысле он был в этого Человека влюблен.
Рыцарь, Совершивший Проступок, был вовлечен не в Вечный Треугольник. Речь следует вести о Вечном Четырехугольнике – столь же вечном, сколь и четырехугольном. Дело вовсе не в том, что он бросил любовницу, опасаясь кары со стороны некоей разновидности Священного Пугала, просто перед ним оказались два любимых им человека. Одним была Артурова Королева, другим – Тот, Кто, безмолвно присутствуя в Замке Кербонек, отправлял там таинство мессы. К несчастью, как это нередко случается в любовных делах, два объекта его страсти никак не могли поладить друг с другом. Все выглядело почти что так, словно ему предстояло выбрать между Джейн и Дженет, и он словно бы ушел к Дженет, – не из боязни, что та накажет его, если он останется с Джейн, но чувствуя, с сердечным жаром и жалостью, что ее он любит гораздо сильнее. Возможно, он чувствовал даже, что Богу он нужнее, чем Гвиневере. Именно эта проблема, скорее эмоциональная, чем этическая, и заставила его искать убежища в обители, где, как он надеялся, ему удастся до конца разобраться в своих чувствах.
И все-таки было бы не совсем верным сказать, что не великодушные побуждения заставили его воротиться. Ланселот был человеком великодушным. Он был маэстро. Даже если в обычные времена Бог нуждался в нем сильнее, на этот раз нужды его первой любви явно были безотлагательнее. Мужчина, оставивший Джейн ради Дженет, тоже ведь может сохранить достаточно душевной теплоты, чтобы вернуться к первой, когда она будет отчаянно в нем нуждаться, и теплоту эту можно тогда было б назвать жалостью, великодушием, благородством – если бы вера в существование этих чувств не вышла в наше время из моды и не стала бы отчасти даже неприличной. Как бы там ни было, но Ланселот, боровшийся со своей любовью к Гвиневере, как и со своей любовью к Богу, вернулся к ней сразу, едва лишь прознав, что она в беде, и стоило ему увидеть ее просиявшее лицо, заждавшееся под постыдною стражей, как укрытое кольчугой сердце его перевернулось, пронзенное неким чувством, – назовите его любовью или жалостью, или как вам это понравится.
В тот же миг перевернулось и сердце сэра Мадора де ла Порте, но идти на попятный ему было уже поздновато. Лицо его под шлемом невидимо для всех побагровело, он ощутил как бы некое жжение под соломой, облекавшей крутом его череп. Он вернулся в свой угол и пришпорил коня.
Есть нечто прекрасное в том, как взлетает в воздух сломанное копье. Внизу под ним, на земле, еще вовсю идет потасовка. Ленивое движение копья, его подъем и кружение, медлительные и безмолвные, составляют с потасовкой разительный контраст. Копье как бы возносится над земными заботами, похоже, не усматривая в быстром движении смысла. Быстрое движение – в данном случае движение сэра Мадора, покидающего коня спиной вперед и кверху ногами, – происходит много ниже копья, совершающего в грациозной отрешенности свой независимый пируэт и падающего на землю, туда, где больше никто о нем и не вспомнит. По какому-то баллистическому капризу копье сэра Мадора пало вниз острием – в точности за спиной рыцаря-стражника, что держал в руках черного мопса. Когда этот рыцарь впоследствии оборотился и обнаружил копье, стойком торчавшее сзади него, точно заглядывая через плечо, его продрал озноб.
Сэр Ланселот спешился, дабы лишить себя преимущества, каковое имеет всадник перед пешим бойцом. Сэр Мадор поднялся и буйно замахал мечом в сторону противника. Он не на шутку осерчал.
Потребовалось два основательных удара, чтобы угомонить сэра Мадора. Когда он в первый раз очутился на земле, Ланселот подошел к нему, чтобы принять его капитуляцию, но сэр Мадор снова разволновался и сподниза ткнул возвышающегося над ним противника мечом. Это был довольно подлый удар, нацеленный снизу в пах сквозь такую часть доспехов, которая по необходимости укреплена менее всего. Ланселот отступил, чтобы позволить сэру Мадору встать, если тому угодно будет продолжить поединок, и все увидели, как его набедренники и наголенники заливает кровь. Было нечто жуткое в том, как терпеливо он отступил, с пробитым бедром. Выйди он из себя, перенести это зрелище было бы легче.
Во второй раз королевин заступник ударил сэра Мадора покрепче. Затем он сорвал с него шлем.
– Ладно, – сказал сэр Мадор. – Сдаюсь. Я был не прав. Сохрани мне жизнь.
Тут Ланселот сделал очень изящный ход. На его месте практически всякий рыцарь удовлетворился бы тем, что дело Королевы выиграно, и оставил бы все как есть. Но Ланселоту была присуща своего рода прилежная заботливость по отношению к людям, он почитал необходимым думать о том, что они чувствуют или могут почувствовать.
– Я сохраню тебе жизнь, – сказал он, – лишь если ты пообещаешь мне, что на могиле сэра Патрика ничего написано не будет. Ни слова о Королеве.
– Обещаю, – сказал Мадор.
Затем, пока лекари еще несли по полю потерпевшего поражение адвоката, Ланселот направился к королевской ложе. Королеву, не теряя времени, освободили, и она уже сидела рядом с Артуром.
Артур сказал:
– Снимите ваш шлем, неведомый рыцарь.
Артур и Гвиневера испытали прилив любви и сострадания, когда рыцарь снял с себя шлем, и они снова увидели некрасивое, столь знакомое им лицо, обладатель которого, истекая кровью, стоял перед ними.
Артур спустился на поле. Он заставил Гвиневеру встать, взял ее за руку и свел за собой на арену. Он церемонно поклонился сэру Ланселоту и потянул Гвиневеру за руку, чтобы и она присела перед рыцарем в реверансе. В полный голос Король произнес, складывая слова на старинный манер:
– Сэр, грамерси за ваш великий ратный труд, что приняли вы нынче за меня и за мою Королеву.
Любовь светилась на его улыбающемся лице, а за спиной у него Гвиневера рыдала так, словно сердце ее разрывалось.
38
И случилось так, что правда относительно смерти сэра Патрика открылась на следующий день – благодаря появлению Нимуи, представившей объяснения, кои она получила с помощью ясновидения. Мерлин, перед тем как позволить Нимуе замкнуть его в пещере, вверил ей Дело Британии. Он заставил ее пообещать, – большего он сделать не мог, – что раз уж она овладела всем его волшебством, то она теперь и будет присматривать за Артуром. Выслушав обещание, он смиренно вошел в свою темницу, на прощание окинув Нимую долгим обожающим взглядом. Нимуя при всем ее легкомыслии и непунктуальности была девушкой, в сущности, доброй. Она прибыла ко двору, опоздав всего на день, поведала, как было отравлено яблоко, и вернулась к собственным заботам. Сэр Пинель подтвердил ее показания, ударившись тем же утром в бега, но оставив писанное признание, и все сошлись на том, что сэр Ланселот весьма удачно оказался поблизости.
Может быть, и удачно, да только не для Королевы. Да, разумеется, она жива и спасена от позора, и однако же случилось невообразимое. Несмотря на все слезы, несмотря на безудержный всплеск чувств, снова потрясший их, Ланселот продолжал упрямиться, желая остаться верным своему Граалю.
Ему-то хорошо, восклицала Гвиневера, – она с каждым днем теряла рассудок, и смотреть на нее было тяжко, – ему хорошо, он купается в новых радостях. Ну еще бы, он испытывает восхитительные ощущения – силу, просветление, душевный подъем – они способны искупить все, что угодно. Возможно, этот его знаменитый Бог дал ему нечто такое, чего она дать не сумела. А ей-то как быть? Ему не случалось задумываться о том, что она получила от Бога? Все выглядит в точности так, кричала она Ланселоту в лицо, как если бы он бросил ее ради другой женщины. Он отнял у нее все самое лучшее, а теперь, когда она постарела и ни на что не годится, он норовит отыскать утешение где-то еще. Он повел себя с типичным для мужчины скотским эгоизмом – взял все, что мог, в одном месте, а когда там поживиться стало уже нечем, отправился в другое. Мелкий воришка – вот кто он такой. И подумать только, она ему верила! Хватит, больше она не любит его, она не позволит ему и приблизиться к ней, даже если он на коленях станет молить ее об этом. И на самом-то деле, она не ставила его ни во что еще до того, как начались поиски Грааля, – да, ни во что, и она уже тогда решила бросить его. Пусть не думает, будто это он ее бросает: совершенно наоборот. Это она отшвыривает его прочь, словно грязную тряпку, потому что не чувствует к нему ничего, кроме презрения. К нему и к его позерству, к его раздутой от важности физиономии, к его низости, к его инфантильности и тщеславию. К его никчемному Боженьке и ханжеской лжи. И если он хочет знать полную правду, а она не видит никакого смысла и дальше ее скрывать, – так при дворе есть один молодой рыцарь, уже ставший ее любовником: уже бывший им еще до Грааля! Милейший молодой человек – не чета Ланселоту! Очень ей нужен такой прокисший сморчок, когда у ее ног лежит прекрасный, как роза, мальчик, который боготворит ее, да-да, боготворит землю, по которой она ступает! Самое лучшее для Ланселота это вернуться к Элейне, к матери его знаменитого сына. И пусть себе молятся вместе, если получится, две старых развалины, целую ночь напролет. Пусть беседуют о своем дитятке, о Галахаде, нашедшем этот проклятый Грааль, пусть смеются над ней, если им это нравится, да, пожалуйста, смейтесь, милости просим, смейтесь, ведь она так и не смогла родить сына.
И тут Гвиневера начинала хохотать, между тем как некая часть ее, словно сквозь окна, выглядывала сквозь глазницы наружу и с отвращением внимала производимому ей шуму, – потом смех сменялся слезами, и она принималась бурно рыдать.
Странное дело, но Артур, решив устроить по случаю оправдания Королевы турнир, выбрал для него место невдалеке от Корбина. Этим местом мог быть Винчестер или Бракли, где и сейчас находится одно из четырех уцелевших в Англии турнирных полей. Собственно, важным является не место, где проходил турнир, важно, что именно в Корбине влачила в одиночестве зрелые годы бездетная ныне Элейна.
– Ты, разумеется, отправишься на этот турнир? – злобно спросила Королева. – Не упустишь же ты возможности побывать рядышком со своей потаскухой?
Ланселот сказал:
– Дженни, неужели ты не способна ее простить? Скорее всего, она теперь столь же некрасива, сколь и несчастна. Она ведь никогда не обзаводилась запасными позициями.
– Великодушный Ланселот!
– Если ты не желаешь, чтобы я ехал на этот турнир, – сказал он, – я не поеду. Я никогда не любил никого, кроме тебя.
– Кроме Артура, – сказала Королева. – Кроме Элейны. Кроме Бога. Если, конечно, не существует еще и других, о которых я не прослышала.
Ланселот пожал плечами – один из глупейших жестов, когда собеседник твой жаждет ссоры.
– А ты поедешь? – спросил он.
– Я? Ехать туда, чтобы полюбоваться, как ты увиваешься вокруг этой кочерыжки? Разумеется, не поеду и тебя не пущу.
– Ну и отлично, – сказал он. – Я скажу Артуру, что болен. Я могу сослаться на то, что еще не оправился от раны.
И он пошел искать Короля.
Когда все уехали на турнир и при дворе стало пусто, Гвиневера вдруг передумала. Возможно, она удержала Ланселота, чтобы остаться с ним наедине, а обнаружив, что ничего путного из их уединения не выходит, переменила решение, – впрочем, причина нам неизвестна.
– Лучше тебе все же поехать, – сказала она. – Если я стану держать тебя здесь, ты скажешь, что я это из ревности, и будешь потом тыкать меня в эту ревность носом. Кроме того, если ты останешься, это может вызвать скандал. Да и не нужен ты мне. Видеть тебя не могу. Убирайся. Ступай!
– Дженни, – попытался он урезонить ее, – как же я поеду теперь. Я ведь сказал, что мне мешает рана, и если я все же появлюсь на турнире, скандал разразится куда более громкий. Все подумают, что мы поссорились.
– Ну и пусть себе думают, что хотят. Я только одно могу тебе сказать: лучше уезжай, пока ты не свел меня с ума.
– Дженни.
Он чувствовал, что сердце его разрывается надвое, и что безумие, до которого она некогда его довела, того и гляди поразит его снова. Возможно, и она это заметила. Как бы там ни было, повадка ее внезапно смягчилась, и она проводила его в Корбин ласковым поцелуем.
«Я возвращусь назад», – пообещал он когда-то, и вот наконец сдержал обещание. Немыслимо было приехать на турнир и не проведать Элейну. Дело не только в том, что он обещал ей вернуться, он к тому же хранил в памяти последние слова их единственного сына, ныне покойного или по крайней мере перенесенного в мир иной. Даже самый жестокий человек навряд ли отказался бы навестить ее при таких обстоятельствах.
Значит, придется остановиться в Корбине, рассказать ей о Галахаде, а на турнире сражаться в измененном обличье. Он объяснит Артуру, что сослался на рану, дабы явиться туда нежданным и неузнанным, ибо таковы новомодные веяния. Эта отговорка и объяснит, почему он обосновался в замке Корбин, а не там, где проходит турнир, и предотвратит разного рода скандальные толки о его новой ссоре с Королевой.
Подъезжая аллеей ко рву и минуя cheval de frise, он с изумлением обнаружил, что Элейна ждет его на зубчатой стене – в той же позе, в какой он оставил ее, уезжая, двадцать лет назад. Она встретила его в Главных Воротах.
– Я ждала тебя.
Она потолстела, стала приземистой, похожей отчасти на Королеву Викторию, и появление его приняла с простодушием истинной веры. Он же сказал, что вернется, – ну, вот и вернулся. Ничего иного она и не ожидала.
И следующие ее слова вонзились в его сердце, как нож.
– Теперь ты останешься здесь навсегда, – сказала она, и это не прозвучало вопросом. Вот во что претворила она ответ, данный им, когда они расставались много лет назад.
39
Если вам хочется почитать о Корбинском турнире, обратитесь к Мэлори, там все описано. Мэлори был страстным любителем турниров, подобно тем пожилым джентльменам, что в наши дни не вылезают из крикетных павильонов стадиона «Лордз», – быть может, он имел даже доступ к какому-то древнему справочнику вроде «Уиздена», а то и к судейским протоколам. О каждом из прославленных турниров он приводит исчерпывающий отчет, сообщая о всяком рыцаре, сколько очков он набрал, и как звали человека, который перебросил его через конский круп или вышиб из него дух. Однако дотошные описания старых крикетных матчей способны нагнать только скуку на тех, кто в них не участвовал, и потому мы не станем давать подробный отчет об этом турнире. Пожалуй, единственное, что у Мэлори скучновато, так это подробнейшие судейские ведомости, которые он приводит в двух-трех местах, – хоть, впрочем, и они не совсем уж скучны для человека, осведомленного, в чью форму были облачены те или иные из рыцарей помельче. Для нас довольно будет сказать, что Ланселот разил противника по всему полю – за время, прошедшее после Грааля, к нему вернулось все его мастерство – и что он со своим мечом превзошел бы все поставленные им за долгую жизнь рекорды, если бы не открылась заново рана, полученная им от сэра Мадора. Странно, что он показал столь высокий уровень исполнительского мастерства именно в этот раз, ибо душа его изнывала втройне – по Гвиневере, по Богу и по Элейне, – следует, впрочем, сказать, что в подобных обстоятельствах не один он являл высокие образцы искусства. В конце концов, после того, как он, несмотря на старую рану, сокрушил то ли тридцать, то ли сорок рыцарей (спешив, кстати сказать, и Агравейна с Мордредом), на него насели сразу трое, и копье одного из нападавших пробило его защиту. Копье сломалось, оставив наконечник у Ланселота в боку.
Ланселот покинул поле, пока был еще способен усидеть на коне, и поскакал быстрым галопом, раскачиваясь в седле и отыскивая место, где он сможет побыть один. Всякий раз, как он получал серьезную рану, в нем просыпалась эта инстинктивная потребность в одиночестве. Смерть представлялась ему частным делом, и если уж пришлось умирать, он старался получить возможность умереть наедине с собой. Лишь один рыцарь увязался за ним – Ланселот был слишком слаб, чтобы избавиться от него, – этот-то рыцарь и помог ему вытащить из ребер наконечник копья, и он же, когда Ланселот все же лишился чувств, расположил его поудобней, «повернув сэра Ланселота так, чтобы ветер дул ему в лицо». Тот же самый рыцарь в конце концов уложил его в постель и доставил к этой постели не помнившую себя от горя Элейну.
Важность Винчестерского турнира определяется не каким-то особым проявлением воинской доблести и даже не плачевной раной Ланселота, от которой он со временем оправился Связанные с этим турниром обстоятельства, сыгравшие немалую роль в жизни четырех наших друзей, еще остается пересказать. Ибо Ланселот, нежданно столкнувшийся с необоснованной уверенностью несчастной Элейны, уверенностью в том, что он останется с ней навсегда, не решился сказать ей правду. Возможно, он был во многих смыслах человеком слабым – прежде всего слабым в том, что отнял Гвиневеру у своего лучшего друга, слабым в своих попытках променять возлюбленную на Бога и, наконец, если уж говорить о главном проявлении его слабости – в том, что он пытался утешить Элейну, обещав ей возвратиться. Ныне, когда он лицом к лицу столкнулся с простодушными надеждами бедной женщины, он не отважился одним решительным ударом разрушить ее иллюзии.
При всей ее простоте и неосведомленности иметь с Элейной дело было непросто, ибо она обладала тонкостью чувств, – в сущности говоря, куда большей, нежели Гвиневера, хоть и не хватало ей силы, которой была наделена храбрая и открытая внешнему миру Королева. Ей достало деликатности не ошеломлять Ланселота восторженными приветствиями, когда он вернулся после долгой отлучки, не пенять ему, да она никогда и не чувствовала, что имеет причины ему пенять, и сверх всего – не удушать его жалобами на свою горькую участь. Пока они дожидались в Корбине начала турнира, она, словно зажав сердце в кулак, не давала себе никаких поблажек: тщательно воздерживаясь от упоминаний о долгих годах, прожитых ею в надежде на возвращение своего господина, о своем одиночестве – полном теперь, когда у нее не осталось и сына. Все, о чем она умалчивала, Ланселоту было известно. Сам неуверенный и тонко чувствующий, он забыл уже, как странно начинались их отношения. В печалях Элейны он винил теперь только себя.
И оттого, когда она обратилась к нему с пустяковой просьбой, пред тем избавив его от стольких слез и восторгов, что оставалось делать ему, как не доставить ей удовольствие? Ему еще предстояло открыть ей тщету ее покамест непоколебленных надежд. А он все откладывал. Ощущая себя палачом, осведомленным о неизбежности завтрашней казни, он пытался дать жертве сегодня хотя бы немного радости.
– Ланс, – сказала она перед самым турниром, по-детски смиренно прося его о странной услуге, – теперь, когда мы вместе, ты согласишься носить на турнире мой знак?
Теперь, когда мы вместе! И в ее интонациях он вдруг увидел отображение двадцати лет одинокой жизни и в первый раз осознал, что все это время она следила за его рыцарскими успехами, словно школьница, влюбленная в бэтсмена Хоббса. Бедняжка воображала себе его битвы – и почти наверняка воображала неверно, втайне утоляя изголодавшееся сердце полученными из вторых рук описаниями поединков, гадая, чей знак занимает сегодня почетное место. Быть может, она двадцать лет твердила себе, что настанет день, когда великий воин выйдет сражаться с ее лентой на шлеме, – одна из тех надежд, смешных и честолюбивых, которыми насыщается несчастливая душа, лишенная достойной ее пищи.
– Я никогда не носил ничьих знаков, – сказал он со всей откровенностью.
Она не стала молить и жаловаться и честно постаралась скрыть разочарование.
– Но твой понесу, – сразу прибавил он. – И буду горд этим. Да кроме того, он поможет мне – и даже очень поможет – остаться неузнанным. Как раз потому, что это мое обыкновение ведомо всем, он станет отличнейшей маскировкой. Как ты умно это придумала! К тому же он заставит меня лучше сражаться. Каков он?
То был шитый крупным жемчугом алый рукав. За двадцать лет можно сделать хорошую вышивку.
Через две недели после Винчестерского турнира, пока Элейна еще выхаживала своего героя, возвращая его к жизни, Гвиневера устроила при дворе сцену сэру Борсу. Будучи женоненавистником, Боре всегда имел с женщинами весьма поучительные сцены. Он говорил, что думал, и они говорили, что думали, и никто из них ни капли другого не понимал.
– А, сэр Боре, – произнесла Королева, которая в спешке послала за ним, едва прослышав про алый рукав, ибо Боре был одним из ближайших сородичей Ланселота. – А, сэр Боре, слышали ли вы, как сэр Ланселот коварно меня предал?
Боре, уразумев, что Королева «от гнева едва не лишилась рассудка», густо покраснел и сказал с преувеличенной терпеливостью:
– Если и был кто предан, так это сам Ланселот. Его смертельно ранили три рыцаря сразу.
– Я рада, – крикнула Королева, – рада слышать об этом! И хорошо, если он умрет. Он коварный рыцарь-изменник!
Сэр Боре пожал плечами и поворотился к Королеве спиной, словно желая сказать, что не намерен выслушивать подобные речи. Вся спина его, пока он шагал к дверям, показывала, что именно думает он о женщинах. Королева кинулась следом, намереваясь, если придется, задержать его силой. Она не собиралась позволить ему с такой легкостью избегнуть этой сцены.
– Разве я не могу назвать его изменником, – возопила она, – если он носил во время турнира в Винчестере на своем шлеме красный рукав?
Боре, устрашась физического насилия, ответил:
– Меня и самого печалит этот рукав. Не нацепи он рукав, чтобы никто его не признал, может быть, на него и не набросились бы сразу трое.
– Тьфу на него! – воскликнула Королева. – Он получил хорошую взбучку, при всей его заносчивости и бахвальстве. Его побили в честном бою.
– Ничего подобного. На него напали трое зараз, да к тому же и старая рана его открылась.
– Тьфу на него! – повторила Королева. – Я слышала, как сэр Гавейн рассказывал перед Королем, что нет слов передать, какая любовь между ним и Элейной.
– Я не могу запретить Гавейну говорить, что ему вздумается, – горячо, отчаянно, жалостно, гневно, испуганно выпалил сэр Боре и вышел, хлопнув дверью и тем почти что сравняв счет.
А в Корбине Ланселот с Элейной держали друг дружку за рука Он бледно улыбнулся ей и слабым голосом сказал:
– Бедная Элейна. Похоже, тебе на роду написано выхаживать меня то от одной болезни, то от другой. Только полуживого тебе и удается меня получить.
– Теперь-то я получила тебя навсегда, – сияя, сказала она.
– Элейна, – произнес Ланселот, – мне нужно с тобою поговорить.