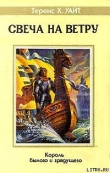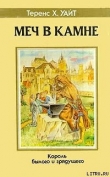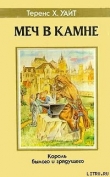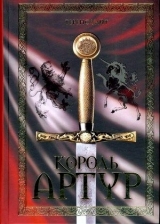
Текст книги "Король Артур (сборник)"
Автор книги: Теренс Хэнбери Уайт
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 63 страниц)
– Прости меня, Архимед, – сказал Варт,
– И ты прости меня, мальчик, – откликнулся Архимед. – Я мог бы понять, что речи твои от незнания, и ныне горько раскаиваюсь в мелочности, с какой оскорбился тем, что не подразумевало никаких оскорблений.
Архимед и вправду раскаивался и выглядел столь прежалостно, что Мерлину пришлось напустить на себя вид самый беспечный и переменить разговор.
– Ну что же, – сказал он, – теперь, когда мы покончили с завтраком, я полагаю, самое время отправиться всем троим на поиски обратной дороги к сэру Эктору.
– Минутку, прошу простить, – добавил он, словно бы спохватившись, и, обернувшись к столовым приборам, ткнул в них узловатым пальцем и суровым голосом произнес: – Мыться.
По этому слову вся посуда, ножи и вилки брызнули со стола, скатерть вытряхнула крошки в окно, а салфетки сами собой сложились. Все поскакали по лестнице вниз – туда, где Мерлин оставил бадью, и понеслись оттуда такие вопли и гам, словно ораву детей отпустили из школы. Мерлин подошел к двери и крикнул: «Поосторожней, чтобы никто у меня не разбился». Но голос его совсем заглушили визгливые вопли, плеск и выкрики: «Ой-й-й, холодрыга!», «Я тут долго не выдержу», «Полегче, ты же меня разобьешь» или «Пошли, утопим заварочный чайник».
– И вы действительно проводите меня до самого дома? – спросил Варт, с трудом веривший в хорошие новости.
– Почему бы и нет? Как еще я смогу стать твоим наставником?
Тут глаза Варта принялись округляться и округлялись, пока не стали почти такими же, как у Архимеда, сидевшего у него на плече, а лицо принялось краснеть и краснеть, дыхание же остановилось и, кажется, собралось в комок ниже сердца.
– Ну! – выкрикнул он, и глаза его засияли от возбуждения, вызванного этим открытием. – Так это я, значит, на Поиски ходил!
4
Рассказывать Варт начал, еще не пройдя половины подъемного моста.
– Смотрите, кого я привел, – сказал он. – Смотрите! Я ходил на Поиски! Три стрелы в меня выпустили. Черные с желтыми полосами. Птицу зовут Архимед. Я видел Короля Пеллинора. Это мой наставник, Мерлин. Ради него я и отправился на Поиски. Он гнал Искомого Зверя. Это я про Короля Пеллинора. В лесу было жутко. А Мерлин заставил тарелки помыться. Привет, Хоб. Смотри, мы принесли Простака.
Хоб лишь посмотрел на Варта, но с такой гордостью, что Варт залился краской. Так приятно было опять вернуться домой, к друзьям, свершив все, что хотел совершить.
Хриплым голосом Хоб произнес:
– Ах, мастер, мы еще сделаем из вас соколятника. Он потянулся к Простаку, словно не в силах был долее удерживать руки, впрочем, успев погладить и Варта, приласкав их обоих, потому что не мог разобрать, кого из них ему приятнее видеть. Простака он усадил к себе на кулак с тем же чувством, с каким калека снова прилаживает потерянную было привычную деревянную ногу.
– Это Мерлин его поймал, – сказал Варт. – Когда мы шли домой, он послал на поиски Архимеда. А Архимед вернулся и говорит, что нашел, и что он убил голубя и теперь его ест. Тут мы пошли и спугнули его. Потом Мерлин воткнул вокруг голубя шесть перьев из его собственного хвоста, а вокруг перьев сделал петлю из длинной веревки. Один конец он привязал к палке, торчавшей в земле, а с другим мы спрятались за куст. Он сказал, что не станет использовать магию. Сказал, что в Высоких Искусствах магией пользоваться нельзя, ну, как нечестно создавать великую статую с помощью волшебства. Понимаете, ее полагается резцом высекать. Потом Простак спустился, чтобы прикончить голубя, а мы потянули веревку, и петля скользнула по перьям и поймала его за лапки. Ох и разозлился же он! Но мы ему дали голубя.
Хоб почтительно поклонился Мерлину, и тот столь же вежливо ответил ему. Они с важным расположением осмотрели друг друга, признав один в другом мастера своего цеха. Когда им удастся остаться наедине, они еще смогут наговориться об искусстве соколиной охоты, хоть Хоб от природы человек молчаливый. Пока же им должно ждать, когда наступит их время.
– О, Кэй, – крикнул Варт, как только тот появился вместе с няней и прочими, кто радостно спешил его поприветствовать. – Смотри, я привел нам наставника, это волшебник. У него есть горшочек с горчицей, который умеет ходить.
– Я рад, что ты возвратился, – сказал Кэй.
– Вот горе, да где же вы спали, мастер Арт? – воскликнула няня. – Посмотрите, ваш чистый дублет весь в грязи, весь изорван. Ну и напугали ж вы нас, я прямо не знаю. И в волосах, посмотрите, сплошные сучки. Ах вы мой озорной, беспризорный ягненочек.
Прибежал, громыхая надетыми задом наперед наголенниками, сэр Эктор и расцеловал Арта в обе щеки.
– Ну-ну-ну, – растроганно воскликнул он. – Вот мы и дома, а? Черт знает, каких мы делов понаделали, а? Весь дом кверху дном поставили.
Но втайне он испытывал гордость за то, что Варт остался с ястребом, и испытал еще большую, увидев, что ястреб пойман, ибо все это время Хоб держал птицу на воздетой руке, так, чтобы все ее видели.
– Ах, сэр, – сказал Варт, – а ведь я выходил на поиски, о которых вы говорили, на поиски наставника, и вот я его нашел. Пожалуйста, вот он, этот джентльмен, а прозвание его – Мерлин. У него тут с собой барсуки и ежи, и мышь, и муравьи и всякие твари на том белом ослике, потому что мы не могли оставить их там голодать. Он великий волшебник и умеет доставать всякие вещи прямо из воздуха.
– Ах маг и волшебник, – сказал сэр Эктор, надевая очки и внимательно оглядывая Мерлина. – Надеюсь, магия белая?
– Несомненно, – ответил Мерлин, терпеливо стоявший в толпе, сложив на некромантической мантии руки, Архимед же, меж тем, вытянувшись и застыв, восседал на его голове.
– Вообще-то неплохо бы рекомендации посмотреть, – произнес сэр Эктор с сомнением. – Такой уж порядок.
– Рекомендации, – сказал Мерлин, простирая руку.
Мгновенно в руке его появилось несколько тяжелых таблет за подписью Аристотеля, пергамент, подписанный Гекатой, и пара машинописных страниц (вторые копии) с росчерком так и не сумевшего припомнить, откуда он знает Мерлина, ректора Тринити-колледжа. Все они характеризовали Мерлина наилучшим образом.
– Из рукава достал, – проницательно заметил сэр Эктор. – А еще что-нибудь вы умеете?
– Дерево, – сказал Мерлин. И посреди двора тут же выросла огромная шелковица с сочными синими ягодами, готовыми со стуком осыпаться наземь. Это было тем более замечательно, что шелковицы приобрели популярность только во времена Кромвеля.
– Эти штуки проделывают при помощи зеркал, – сказал сэр Эктор.
– Снег, – откликнулся Мерлин. – И зонт, – поспешно добавил он.
И не успели они оглянуться, как медяное летнее небо побронзовело, похолодело, снизилось, и пребольшущие хлопья снега, каких сроду никто не видел, медленно поплыли над ними, опускаясь на крепостные зубцы. Никто еще и не ахнул, а снега навалило уже на вершок, и всех зазнобило на зимнем ветру. Нос сэра Эктора посинел, с кончика его свисала сосулька, и у всех, кроме Мерлина, на плечах образовались пласты снега. Мерлин стоял в середине толпы, подняв зонт повыше, чтобы прикрыть и Архимеда.
– А это все гипнотизм, – объяснил сэр Эктор, стуча зубами. – Как у тех проходимцев из Индий.
– Однако, будет, – добавил он торопливо, – этого более чем достаточно. Я уверен, что из вас выйдет отличный наставник, чтобы учить этих мальчиков.
Снег немедленно прекратился, и показалось солнце.
– Достаточно, чтобы наградить воспалением легких, – промолвила няня, – или запугать податливых слуг.
Мерлин меж тем сложил и отдал обратно в воздух зонт, и воздух зонт принял.
– Нет, вы только представьте, мальчик в одиночку управился с такими поисками, – воскликнул сэр Эктор. – Ну-ну-ну! Чудеса да и только!
– Тоже мне поиски, – сказал Кэй. – Он просто пошел за ястребом, вот и все.
– И он добыл ястреба, мастер Кэй, – неодобрительно молвил Хоб.
– Да ладно, – сказал Кэй, – готов поспорить, что это не он, а старик.
– Кэй, – молвил Мерлин, чей облик внезапно стал грозным, – во все дни свои глаголаешь ты, исполнясь гордыни купно с злоречием, а того ради и злосчастья. И все твои горести изойдут из твоих собственных уст.
При этих словах всем стало не по себе, а Кэй, вместо того чтобы по обыкновению прогневаться, свесил главу. В сущности он был человек далеко не противный, напротив – умный, живой, гордый, страстный и властолюбивый. Он был из тех людей, что не становятся ни водимыми, ни водительствующими, но остаются лишь при честолюбивом сердце, нетерпеливо бьющемся в темнице непреуспевшего тела. Мерлин тут же и устыдился сказанной резкости. Чтобы поправить впечатление, он вынул из воздуха серебряный охотничий ножичек и протянул его Кэю. Шишак на рукояти был сделан из черепа горностая, проваренного в масле и отполированного под стать слоновой кости, и Кэю ножик полюбился.
5
Дом сэра Эктора назывался Замок Дикого Леса. Он более походил на городок или деревню, чем на дом одного человека, – он и становился деревней в пору опасности, ибо эта часть нашего рассказа относится ко временам неспокойным. При всяком набеге или вторжении какого-нибудь соседствующего тирана каждый, кто жил во владении, поспешал в замок, гоня перед собою скотину и загоняя ее в межстенные замковые дворы, где она оставалась, пока не минет опасность. Глинобитные хижины при набегах почти неизменно сгорали, и приходилось потом с проклятьями их отстраивать. По этой же причине не имело смысла ставить в деревне церковь, ибо и ее пришлось бы каждый раз строить заново. Селяне посещали замковую часовню. По воскресеньям они облачались в лучшие одежды и шествовали по улице самой респектабельной поступью, озираясь по сторонам с видом неуверенно-важным, словно бы не желая, чтобы сразу было понятно, куда это они направляются; в будние же дни они приходили к мессе и к вечерням в обычной одежде да и вышагивали веселее. В те времена все посещали церковь и всем это нравилось.
Замок Дикого Леса стоит и поныне, еще видны развалины его ладных стен, заросших плющом, обтесанных солнцем и ветром. Теперь здесь живут ящерки, в плюще согреваются зимними ночами оголодавшие воробьи, и сова-сипуха раз за разом прилетает гнать их оттуда, зависая снаружи над перепуганным сообществом и колотя крыльями по плющу, чтобы их выкурить. Большая часть внешней стены обрушилась, хотя можно еще различить основания двенадцати опорных башен, охранявших ее. Они были круглые и выступали из стены в ров, так что лучники имели возможность стрелять во всех направлениях и прикрывать любой участок стены. Внутри башен шли винтовые лестницы. Лестницы завивались вокруг центральных колонн, а в колоннах имелись прорези, через которые тоже стреляли из луков. Даже если враг пробивался за внешнюю стену и врывался в башню, защитники замка могли отступать по ступеням наверх и сквозь эти щели обстреливать тех, кто преследовал их.
Каменная часть подъемного моста с барбаканом и стрельницами наворотного покоя еще в хорошем состоянии. Здесь много хитроумных приспособлений. Если врагам и удавалось преодолеть деревянный мост, а его поднимали, что не облегчало задачу, их поджидала утяжеленная громадным бревном опускная решетка, способная раздавить кого угодно в лепешку да еще и проткнуть насквозь. Пол барбакана прикрывал большую ловушку, через которую враги опять-таки попадали в ров. А на другом конце барбакана их поджидала еще одна опускная решетка, так что нападающих можно было запереть между решетками и уничтожить сверху, поскольку в полу стрельниц, или навесных башенок, имелись отверстия, через которые защитники замка могли сбрасывать им на голову все, что было под руками. И наконец, выпуклый резной орнамент в середине сводчатого потолка крепостных ворот скрывал небольшое аккуратное отверстие, ведшее в верхний покой, где стоял большой котел, в котором плавился свинец или кипело масло.
Это что касается наружных укреплений. Проникнув же за внешнюю стену, ты попадал в своего рода широкий коридор, возможно, забитый ошалелыми овцами, и обнаруживал перед собой еще одну, вполне самостоятельную крепость. То была внутренняя цитадель с восемью огромными опорными башнями, стоящими и поныне. Какое удовольствие – забраться на самую высокую из них и лежать там, озирая порубежье Уэльса, из-за которого приходили иные из этих старинных напастей, и не иметь над головой ничего, кроме солнца, и посматривать на семенящих внизу маленьких туристов, ничего не ведающих о стрелах и кипящем масле. Подумай, сколько столетий выстояла эта несокрушимая башня. Ей случалось переходить из рук в руки – один раз после осады, дважды по причине предательства, но штурмом ее не взяли ни разу. На этой башне нес свою службу дозорный. Здесь он стоял на страже над синими лесами, что уходят к Уэльсу. Ныне его белые старые кости лежат под полом часовни, так что стоять на страже придется тебе.
Если ты глянешь вниз и не испугаешься высоты (Общество Охраны Того и Сего установило превосходное ограждение, дабы охранить тебя от падения вниз), ты сможешь увидеть всю анатомию внутреннего двора, лежащего под тобою, как карта. Ты сможешь увидеть часовню, ныне вполне открытую своему богу, и окна обширного зала с верхним покоем над ним. Ты сможешь увидеть дымоходы огромных каминов и то, как хитроумно придумано соединение с ними боковых вытяжных труб, и маленькие личные покои, ныне доступные публике, и исполинскую кухню. Если ты человек с понятием, ты проведешь здесь дни, а то и недели, строя догадки и понемногу проясняя для себя, где помещались конюшни, где кречатня, где находился коровник, оружейная, сеновалы, колодец, кузня, псарня, где квартировали солдаты, где проживал священник, где находились покои моего господина и госпожи. И тогда все это снова вырастет, обступая тебя. В солнечном свете засуетятся вокруг низкорослые люди, – они были меньше, чем мы, и нам было бы трудновато втиснуться в немногие уцелевшие части доспехов или в их старые перчатки, – заблеют овцы на свой вечный манер, и, может быть, зашелестит прилетевшая из Уэльса трехперая стрела и замрет с таким видом, словно ей ни разу и не довелось шелохнуться.
Конечно, для мальчика это был рай. Варт сновал по замку, как кролик снует по путанному своему лабиринту. Он знал все и вся – все особые запахи, все места, где легко взобраться на стену, уютные норы, потайные укрытия, соскоки, скаты, закоулки, кладовки и прочие благодатные уголки. На каждое время года у него, как у кошки, имелось излюбленное местечко, и он непрестанно вопил, скакал, дрался и выводил людей из терпения, и лодырничал, и мечтал, и воображал себя рыцарем. В эту минуту он находился на псарне.
В те дни у людей были свои представления о выучке собак, не те, что бытуют ныне. Они полагались более на любовь, чем на строгость. Вообразите теперешнего владельца псовой охоты, как он укладывается в постель со своими гончими, а между тем Флавий Арриан говорит, что «самое лучшее, если они смогут спать с кем-то из людей, потому что это делает их человечнее, и потому что души их исполняются радости в обществе человеческих существ; также, если ночью они были неспокойны или страдали внутренней немощью, вы будете знать об этом и не станете использовать их для охоты на следующий день». На псарном дворе сэра Эктора имелся особый мальчишка по прозванию Собачий Мальчик, живший вместе с гончими днем и ночью. Он был чем-то вроде вожака собачьей стаи, и ему вменялось в обязанность каждодневно выводить их на прогулку, выдергивать колючки из лап, следить, чтобы не завелись у них на ушах язвочки, накладывать при мелких вывихах повязки, давать им снадобье от глистов, отделять и выхаживать заболевших чумкой, быть судьею в их ссорах, а по ночам спать меж ними, свернувшись калачиком. И если мне простят еще одну ученую цитату, то вот как описывал позже такого мальчика убитый при Азенкуре герцог Йорк в своей книге «Королевская Охота»: «Также я обучу это дитя выводить собак дважды на дню – утром и вечером, но так, чтобы солнце непременно еще стояло в небе, особливо зимой. И пусть он позволит им долго бегать и резвиться на солнечном лугу, и затем пусть вычешет каждую гончую одну за одной и протрет ее насухо большим пуком соломы, и пусть поступает так во всякое утро. И затем пусть он отводит их в некое красивое место, где растут мягкие травы и злаки, и иные растения, каковых они смогут поесть, ибо это лекарство для них». И тогда, «как сердце мальчика и все дела его» будут с гончими, сами гончие станут «добры и ласковы, и чисты, довольны и веселы, и игривы, и приязненны для всякого рода существ, не считая дикого зверя, к коему им надлежит проявлять свирепство, ревность и злобу».
Собачьим мальчишкой сэра Эктора был никто иной как тот, которому откусил нос страшный Вот. Порядочного человеческого носа у него не было, да сверх того прочие деревенские дети осыпали его камнями, – вот он и нашел утешение в обществе животных. Мальчик разговаривал с собаками – не как нянька с младенцем, но на их собственном языке, рыча и лая. Все они любили его и уважали за то, что он выдергивает им колючки из лап, и со всеми своими неприятностями бежали прямо к нему. А он всегда сразу же понимал, какая приключилась беда, и, как правило, находил способ ее поправить. Для собак было счастьем иметь при себе свое божество, да к тому же и в зримом образе.
Варт был привязан к Собачьему Мальчику и считал его очень умным, поскольку тому удавалось так управляться с собаками, – ибо он мог одним лишь движеньем руки добиться от них едва ли не всего, – а Собачий Мальчик любил Варта примерно так же, как собаки любили его самого, и вообще считал Варта почти что святым, потому что Варт умел читать и писать. Они проводили вместе немало времени, возясь на псарне с собаками.
Псарня располагалась невдалеке от кречатни, прямо под сеновалом, так что летом в ней было прохладно, а зимою тепло. Население ее составляли аланы, борзые, гончие и ищейки. Звали их Увалень, Упорный, Феба, Клей, Венок, Тальбот, Люс, Люффра, Аполлон, Хвала, Бран, Гелерт, Отскок, Мальчик, Лев, Громыхало, Тоби и Алмаз. Варт особенно любил пса по имени Каваль, и как раз вылизывал ему нос – не наоборот, – когда его обнаружил Мерлин.
– Со временем это сочтут нечистоплотной привычкой, – сказал Мерлин, – хоть сам я ничего нечистоплотного в ней не вижу. В конце концов, нос этой твари, как равно и твой язык, – творенье Господних рук.
– И еще неизвестно, какое лучше, – задумчиво добавил философ.
Варт не всегда понимал, о чем Мерлин толкует, но слушать его речи любил. Ему не нравились взрослые, разговаривавшие с ним, как с маленьким, он предпочитал тех, что говорили, как привыкли, предоставляя ему мчаться вслед за их мыслью, ухватывать на лету значение слов, цепляясь за знакомые, строить догадки и усмехаться их сложным шуткам, внезапно обретавшим смысл. Он испытывал в этих случаях блаженство дельфина, играющего в неведомом море.
– Ну что же, пойдем? – спросил Мерлин. – По-моему, самое время начать наши уроки.
При этих словах сердце у Варта упало. Наставник провел здесь месяц, стоял уже август, но никаких уроков пока что не было. Теперь он вдруг вспомнил, что ради них Мерлин сюда и явился, и со страхом подумал об Основаниях Логики и замызганной астролябии. Он, впрочем, понимал, что придется все это вытерпеть, и послушно встал, напоследок с сожалением потрепав Каваля. Он подумал, что с Мерлином, способным и «Органон» сделать интересным, особенно если он прибегнет к какому-нибудь волшебству, все может оказаться не таким уж и скучным..
Они вышли в замковый двор, под солнце, настолько жгучее, что в сравнении с ним жара сенокоса казалась совершеннейшим пустяком. Пекло, как в печке. Грозовые тучи, обычные при жаркой погоде, были тут как тут, – громады кучевых облаков с пылающими краями, – однако никакой грозы не предвиделось. Даже для нее было слишком жарко. «Вот бы сейчас, – думал Варт, – чем тащиться в душный класс, снять бы одежду да поплавать во рву».
Они пересекли двор, набрав побольше воздуху в грудь, как если бы им пришлось проскакивать сквозь раскаленную печь. В тени от наворотного покоя потянуло прохладой, но барбакан с его тесными стенами был истинным пеклом. Миновав его последним броском, они добрались до подъемного моста, – уж не догадался ли Мерлин, о чем он подумал? – и остановились, глядя на ров.
Была пора цветенья кувшинок. Они бы покрыли всю воду, если б сэр Эктор не приказывал каждый год расчищать часть рва мальчикам под купальню. Благодаря этому примерно двадцать ярдов по обе стороны от моста оставались свободны, так что можно было прямо с моста и нырять. Ров был глубокий. Его использовали под рыбный садок, чтобы обитатели замка могли получать рыбу по пятницам, и по этой причине архитекторы приняли особые меры, дабы сюда не попадали помои и сточные воды. Рыбы во рву каждый год плодилось изрядно.
– Эх, быть бы мне рыбой, – сказал Варт.
– Какою же именно?
Было, пожалуй, слишком жарко для размышлений на эту тему, но Варт в тот миг смотрел в прохладную воду, где бесцельно болтался целый школьный класс окуньков.
– Пожалуй, – сказал он, – мне бы понравилось быть окунем. Они храбрее глупой плотвы и не так кровожадны, как щуки.
Мерлин снял шляпу, учтиво поднял в воздух свою палочку из дерева жизни и медленно произнес:
– Нилрем теувтстевирп анутпен и ен тедуб ил но кат рбод отч темирп оготэ акорто в ыбыр?
Немедленно послышался зычный рев витых морских раковин, и над зубцами стены объявился плотный, веселого вида господин, сидящий на растрепанном облаке. На животе у него виднелся вытатуированный якорь, а на груди – ладная русалка, под которой было написано «Мэйбл». Выплюнув табачную жвачку, он покивал приятельски Мерлину и нацелился трезубцем на Варта. Тут Варт обнаружил, что лишился одежды. Еще он обнаружил, что свалился с подъемного моста и боком звучно плюхнулся в воду. Еще обнаружил он, что ров и мост в размерах выросли в сотни раз. И понял он, что обратился в рыбу.
– О Мерлин, – закричал он, – пожалуйста, не оставляй меня!
– На этот раз не оставлю, – сказал ему на ухо крупный и важный линь. – Но впредь управляйся сам. Образование приобретается опытом, а сущность опыта в том, чтобы полагаться лишь на себя самого.
Оказалось, что быть существом иного рода дело нелегкое. Пытаться плыть на человечий манер было бессмысленно, ибо от этого его только скручивало наподобие пробочника да и плыл он слишком медленно. А плавать по-рыбьему он не умел.
– Не так, – веско вымолвил линь. – Положи подбородок на левое плечо и попробуй складываться, будто карманный нож. Начинающему не следует думать о плавниках.
Ноги у Варта слиплись, образовав спинную кость, а ступни и пальцы на них стали хвостовым плавником. Руки тоже обратились в два плавника – нежно-розовых – и еще один вырос где-то на животе. Голова был свернута, и лицо смотрело через плечо так, что когда он изгибался посередине, ступни устремлялись скорее к уху, чем ко лбу. Тело приобрело красивый оливково-зеленый оттенок, его покрывала не особенно искусно сработанная пластинчатая кольчуга с темными полосками на боках. Не очень он был уверен, где у него бока, где спина, а где грудь, но то, что ныне стало его животом имело приятный беловатый окрас, а спину венчал отличный большой плавник, который можно было поднимать, изготовляясь к сражению, – в нем имелись шипы. По совету линя он сложился, как ножик, и обнаружил, что плывет прямо вниз, в донную тину.
– Пользуйся ногами, чтобы поворачивать вправо и влево, – сказал линь, – и расправь плавник на животе, тогда ты сможешь держаться на одной высоте. Ты теперь живешь в двух плоскостях, не в одной.
Варт обнаружил, что может держаться более или менее на одном уровне, меняя наклон боковых плавников и того, что на брюхе. Он неуверенно отплыл в сторону, испытывая чрезвычайное наслаждение.
– Вернись, – сказал линь. – Научись сначала плавать, а потом уж будешь метаться.
Чередою зигзагов Варт вернулся к наставнику и заметил:
– Похоже, что прямо я плыть не могу.
– Беда твоя в том, что плывешь ты не от плеча. Ты плаваешь, как плавал, когда был мальчиком, сгибаясь в бедрах. Попробуй складываться, начиная прямо от шеи и дальше к хвосту, и изгибай свое тело вправо ровно настолько, насколько ты хочешь, чтобы оно сдвинулось влево. Работай спиной.
Варт пару раз страшно дернулся и исчез в зарослях хвостника, росшего в нескольких ярдах от них.
– Так уже лучше, – сказал линь, скрытый из виду оливковой мглистой водой, и Варт с бесконечными затруднениями стал спиной выбираться из зарослей, выворачивая боковые плавники. Под конец, желая блеснуть, он одним мощным толчком метнулся туда, откуда слышался голос.
– Хорошо, – сказал линь, когда они столкнулись хвостами. – Однако главное достоинство храбрости – ее осмысленность. Попробуй-ка, сможешь сделать вот так? – прибавил он.
И без какого бы то ни было видимого усилия он спиною заплыл под кувшинку. Без видимого усилия, – но Варт, старательный ученик, внимательно следил за малейшими движениями его плавников. Он крутнул собственными плавниками против часовой стрелки, ловко прищелкнул кончиком хвоста и оказался бок о бок с линем.
– Великолепно, – сказал Мерлин. – Давай-ка немного поплаваем.
Теперь Варт держался ровно и двигался довольно уверенно. У него появилось время оглядеться в необычайном мире, куда окунул его трезубец татуированного господина. Мир этот отличался от того, к которому он привык. Прежде всего, небо над ним выглядело теперь идеально правильным кругом. Этот круг замкнулся горизонтом. Чтобы представить себя на месте Варта, тебе придется вообразить круговой горизонт, расположенный в нескольких вершках над твоей головой, – вместо плоского, который ты видишь обычно. Под этим горизонтом, воздушным, вообрази еще один – водный, сферический и чуть ли не перевернутый вверх ногами, – ибо поверхность воды отчасти служит зеркалом для всего, что находится под нею. Это вообразить трудновато. И тем труднее это вообразить, что любая вещь, которую человек счел бы находящейся над водной поверхностью, теперь окаймлялась всеми цветами спектра. Например, если бы ты сидел у воды, пытаясь выудить Варта, он бы увидел тебя – на краешке чайного блюдца, каким для него был наружный воздух, – не как одного человека, поводящего удилищем, но как семерых с очертаньями красным, оранжевым, желтым, зеленым, голубым, синим и фиолетовым, и все они махали бы одной и той же удочкой, чьи цвета менялись бы точно так же. В сущности, ты был бы для него человеком с радуги, сигнальным огнем, вспыхивающим разнообразными красками, кои, лучась, перетекают друг в дружку. Ты блистал бы на водах, как Клеопатра в стихах.
Не считая этого, самым чудесным было отсутствие веса. Он больше не чувствовал себя привязанным к земле, вынужденным ковылять по ее плоской поверхности, придавленным силой тяготения и тяжестью атмосферы. Он мог делать то, о чем издавна мечтали люди, – летать. В сущности, нет никакого различия между полетом в воде и полетом по воздуху. Самое же лучшее заключалось в том, что ему не приходилось лететь в машине, дергая за рычаги и неподвижно сидя на месте, – он летал благодаря усилиям собственного тела. Это походило на знакомый каждому сон.
Едва наставник с учеником вознамерились отправиться в ознакомительное плавание, как между двух колеблющихся, похожих на бутылки кустов хвостника показался бледный от волнения застенчивый юный окунь. Он смотрел на них большими опасливыми глазами и явно хотел о чем-то спросить, но никак не решался.
– Приблизься, – важно сказал Мерлин.
При этом слове окунь прыснул к ним, словно курица, залился слезами и, заикаясь, начал рассказывать.
– Б-б-б-б-будьте так добреньки, доктор, – пролепетал несчастный столь невнятно, что они с трудом различили слова, – у н-н-нас в с-с-с-семье та-болезнь, что м-м-м-мы подумали, может б-б-б-быть, вы уделите нам в-в-в-время? Это наша д-д-дорогая Мамочка, она все время плавает кверху ж-ж-ж-ж-животом и т-т-т-так ужасно в-в-выглядит и г-г-г-говорит такие странные вещи, что мы п-п-п-правда думаем, что ей нужен д-д-д-д-доктор, если это в-в-в-вам не покажется дерзостью. К-к-к-клара и говорит иди, скажи ему, в-в-в-вы меня понимаете, д-д-д-доктор?
Тут изо рта бедного окуня столь обильно пошли пузыри, что его бормотание, и без того отягченное заиканием и общей слезливостью, стало совсем неразборчивым, и ему только и осталось вперяться в Мерлина скорбными очами.
– Не надо так волноваться, малыш, – сказал Мерлин. – А ну-ка, отведи меня к своей Мамочке, и мы посмотрим, что можно сделать.
И все трое отплыли во мглу, клубившуюся под подъемным мостом, на подвиг милосердия.
– Окуни в большинстве своем неврастеники, – шептал Мерлин, прикрываясь плавником. – Вернее всего, тут случай нервической истерии, им нужен скорее психолог, чем врач.
Мамочка окуня, как тот и описывал, лежала на спине. Глаза у нее съехались к носу, она сложила плавники на груди и время от времени выпускала маленький пузырек. Дети кружком обступали ее и при появлении каждого пузырька пихали друг дружку в бок и разевали в изумлении рты. На лице у Мамочки изображалась ангельская улыбка.
– Так-так-так, – сказал Мерлин, замечательно подражая повадкам доктора у постели больного, – и как себя нынче чувствует миссис Окунь?
Он погладил окунят по головкам и величаво приблизился к пациентке. Следует, быть может, отметить, что Мерлин был грузной, полнотелой рыбой весом почти в пять фунтов, золотистых тонов, с мелкой чешуей, полными плавниками, слизистыми боками и оранжевыми глазами – весьма внушительная фигура.
Миссис Окунь томно протянула ему плавник, выразительно вздохнула и сказала:
– Ах, доктор, так вы все же пришли?
– Хм, – произнес доктор таким низким голосом, на какой только был способен.
Затем он велел всем закрыть глаза, – Варт подглядывал, – и поплыл вокруг больной в величавом и медленном танце. Плавая, он пел. И вот что это была за песня:
Терапевтический,
Элефантический,
Диагностический,
Вздрог!
Панкреатический,
Микростатический,
Антитоксический, Рок!
При дурном катаболизме,
Заикизме, бормотизме,
Производим снип, снап, снорум,
Отсекаем отсекорум.
Диспепсия,
Анемия,
Токсимия,
Эктазия,
Раз и два, и три: эгей!
Хворь выходит из костей,
Напевая трали-вали, и
Всего За Пять Гиней!
К концу этой песни он уже кружил так близко к пациентке, что касался ее и терся своими коричневатыми, гладко-чешуйчатыми боками об ее, иссохшие и бледные. Возможно, он излечил ее своей слизью, – говорят ведь, что все рыбы обращаются к линю за лекарством, – а может быть, дело было в прикосновениях, в массаже или в гипнозе. Во всяком случае, миссис Окунь вдруг перестала косить, перевернулась брюшком вниз и сказала: