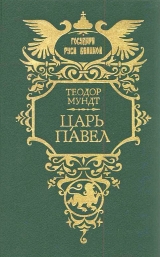
Текст книги "Царь Павел"
Автор книги: Теодор Мундт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц)
IX
Во всю дорогу до Петербурга великий князь не сказал жене ни слова. Видно было, что он сильно волнуется, и Мария Федоровна, которая и сама чувствовала себя взволнованной близкой переменой в их существовании, не нарушала его задумчивого молчания.
Подъезжая к Петербургу, они вдруг прислушались и удивленно переглянулись: из города все сильнее и сильнее доносился радостный перезвон колоколов. Это так не вязалось с полученными известиями об ухудшении здоровья императрицы, что Павел Петрович и Мария Федоровна не знали, что подумать.
Еще более удивило их, когда при въезде в заставу они убедились, что улицы Петербурга переполнены народом, причем в движении масс, не чувствовалось ни малейшего горя или ужаса, неизбежно овладевающего народом при получении печального известия о близости кончины царствующей особы.
Нет, наоборот, народ видимо радовался чему-то, и, когда послышалось громыхание пушек, салютовавших какому-то неведомому великокняжеской чете торжеству, многие сорвали с голов шапки и стали подбрасывать их в воздух с громкими криками «ура!».
В одном месте скопление народа было настолько велико, что карета великого князя, и без того ехавшая шагом, была принуждена окончательно остановиться. Великий князь открыл окно и высунулся из кареты, чтобы увидеть причину их задержки.
Осматривая толпу, он внезапно увидел человека, умышленно выдвинувшегося из рядов народа и с умоляющим видом простиравшего руки к нему.
– Батюшки! – воскликнул Павел Петрович, обращаясь к супруге. – Посмотри-ка, да ведь там стоит Иван Павлович Кутайсов! Сколько лет я уже не видал его! С тех пор как я прогнал его, он ни разу нигде не попадался мне. Ах, только теперь я вижу, насколько мне не хватает его! Вот что: ты ничего не будешь иметь против, если я усажу его к нам в карету?
– О, пожалуйста! Я сама буду рада повидать его, ведь он так любил тебя!
Павел Петрович еще раз высунулся в окно и сделал Кутайсову еле заметный знак рукой.
Стараясь не привлекать на себя внимания толпы, бывший камердинер осторожно подобрался к великокняжеской карете и в тот самый момент, когда Павел Петрович крикнул ему: «Влезай и садись!» – быстрее молнии приоткрыл дверцу, влезая в карету.
* * *
Когда в приемную императрицы вошли великий князь и великая княгиня, все разговоры сразу оборвались и немедленно же наступило гнетущее, мертвое, подавляющее молчание.
Кутайсов, проследовавший за великим князем во вторую приемную, теперь снова вышел, испросив у него разрешение прощупать почву и по возможности разузнать что-нибудь определенное.
Великий князь остался стоять посреди комнаты. Он был взволнован и возмущен, что его не допускают к смертному одру матери. Он несколько раз порывался самовольно пройти в опочивальню матери, и только тихие мольбы Марии Федоровны удерживали его от этого.
Приемная все наполнялась и наполнялась новыми встревоженными посетителями.
Прибыли молодые великие князья и княжны и сейчас же обступили отца с матерью.
Молодой великий князь Александр прибыл с юной супругой, красавицей Елизаветой Баден-Дурлах, с которой несколько лет тому назад сочетался браком. Мария Федоровна очень любила свою невестку и нежно обняла ее теперь. Но Павел Петрович, чувствовавший к молодой великой княгине непреодолимую антипатию, резко отвернулся от нее и заговорил со своими любимцами, великими князьями Константином и Николаем.
Вслед за ними прибыли великие княжны Елена и Мария, которые привели крошечную Анну. Бабушка очень баловала своих милых, грациозных внучек, и смерть ее, которую теперь все ждали, знаменовала робою для них поворот к худшему. Немудрено, если они изо всех сил сдерживались, чтобы не зарыдать навзрыд.
Разговаривая с сыновьями, великий князь вдруг остановился на полуслове, потом подскочил к супруге, бесцеремонно отвел ее от великой княгини Елизаветы и взволнованно сказал:
– Посмотри туда, в ту нишу! Видишь, там сидит какая-то дама, закутанная с ног до головы во все черное? Присмотрись к ней, не напоминает ли она тебе кого-нибудь?
– Да ведь это Нелидова! – чуть не вскрикнула Мария Федоровна. – Боже мой, откуда она? Ведь с того момента, когда она ушла из дворца, ее нигде нельзя было найти!
– Ваше высочество, важные известия! – шепнул сзади великого князя вернувшийся Кутайсов.
Павел Петрович лихорадочно схватил его за руку и оттащил в сторону, после чего нетерпеливо спросил:
– Ну, что ты узнал, говори!
– Ужасные вещи! – ответил Кутайсов. – Ее величество час тому назад встала с кровати, когда ей неосторожно подали депешу из действующей армии. По прочтении этой депеши ее величество схватилась за голову и рухнула на пол: с ней сделался очень сильный удар. Врачи не питают более ни малейшей надежды. Только Ламбро-Качьони уверяет, что все будет хорошо, если обеспечить ее величеству полный покой. Поэтому пришлось отказаться от намерения пригласить ваше высочество к ее величеству: в опочивальню никто не смеет войти, Ламбро-Качьони выгнал даже всех остальных врачей. Государыня забылась сном… Кто же решится в такой момент хоть чем-либо потревожить ее величество!
– Говори тише, чтобы тебя не подслушали! – шепнул ему Павел Петрович. – Не удалось ли тебе узнать, какие известия получены императрицей?
– Нерадостны эти известия, ваше высочество! Персы жестоко отомстили за взятие Дербента. Отборный кавалерийский корпус горцев заманил Зубова в западню, и вся армия уничтожена. Зубов оказался тем, чем и должен был быть: бездарным идиотом, которому нет дела до русской чести и крови… Колокола все еще вызванивают, пушки все еще грохочут, празднуя взятие Дербента, а от взявших его теперь, пожалуй, и косточек не найдешь.
– Как? – скорбным, надтреснутым шепотом спросил великий князь. – Наша армия уничтожена? Но ведь туда послали лучшие части, отборных людей? Ведь это было образцовым войском, с которым можно завоевать весь свет!
– Ваше высочество, теперь не время плакать о чем бы то ни было! И для вас, и для всей России загорается новая эра!
– Э, полно, Иван! Нет неблагодарнее работы, как работа наследника! Он не может вести дела по-старому, раз видел, что это старое никуда не годится. А стоит ему повернуть курс в другую сторону, как все начинают упираться… Чтобы гнуть – на это надо много времени, а ломать – все ли можно ломать без ущерба для дела!..
– Конечно, вашему высочеству при самом восшествии на трон придется натолкнуться на многие трудности!
– Но я возлагаю большие надежды на тебя, Иван. Ты был когда-то моим камердинером. Теперь мы оба выросли. Я стану государем, а ты – моим первым советником!
– Я буду счастлив положить к ногам своего повелителя все силы! Работы так много! Персидская война не даст ни на минуту сомкнуть глаза. Мало того, в Петербурге держат пленника, который может принести стране одно только несчастье. Я говорю о Тадеуше Костюшко, которого после последнего разгрома Польши привезли сюда в качестве трофея. Плохой это трофей!
Павел Петрович ответил на эту тираду раздраженным голосом, пожалуй, слишком громким, принимая во внимание массу дипломатов и высших чинов государства, которые издали прислушивались к разговору Кутайсова с великим князем, надеясь хоть что-нибудь уловить.
– Война с Персией будет немедленно ликвидирована. Что же касается польского генерала, то я при первой возможности верну ему свободу и шпагу, – продолжал Павел Петрович. – Я считаю это делом своей совести… Вообще я ненавижу политический маскарад и быстро выведу его в России из моды! Однако тише, к нам идет великая княгиня!
– Ваше высочество, – сказала Мария Федоровна, подводя к супругу даму, закутанную в черную густую вуаль, – я взяла на себя смелость подвести к вам свою давнишнюю подругу и помощницу Нелидову, которая так давно скрылась с наших глаз. Нелидова жила все это время в монастыре и собиралась уже принять постриг, но весть об опасности, явившейся для жизни ее величества, призвала ее сюда, чему я и обязана удовольствием видеть ее. Если вы, ваше высочество, разрешите, то я опять возьму Нелидову в число своих фрейлин: ведь мне именно ее так не хватало все это время!
Великий князь пытливо посмотрел на Нелидову, и она ответила ему таким пламенным, таким восторженным, таким любовным взглядом, что он даже вздрогнул: прежнее с новой силой проснулось в нем…
Но ответить он ничего не успел: его внимание отвлек шум, с которым распахнулась дверь из покоев императрицы.
Это выбежал Ламбро-Качьони, итальянец, игравший в последнее время какую-то странную роль при особе ее величества. Он официально числился ее врачом, хотя оставалось совершенно неизвестным, где именно изучал он врачебное искусство.
Уверяли, будто в юности Качьони был пиратом. Во всяком случае, сразу было видно, что он много путешествовал и много чего повидал на своем веку. Императрица ценила его за весьма разнородные таланты. Так, например, он с успехом играл роль первого комика на домашней дворцовой сцене.
Как врачу Екатерина верила ему с тех пор, когда он какими-то таинственными каплями сразу избавил ее от внутренних болей, с которыми не могли справиться патентованные светила медицины. Вообще его врачебный метод отличался оригинальностью. Он ни разу не прибегал к общеизвестным средствам, очень суживал роль лекарств и возлагал все надежды на природу и целительные свойства естественных причин.
Веря в свою счастливую звезду, Ламбро-Качьони и теперь авторитетно выгнал из опочивальни всех врачей, уверяя, что «сном все пройдет».
Прошло три четверти часа. Ламбро-Качьони продолжал сидеть в кресле около августейшей больной, боясь хоть одним движением спугнуть спасительный сон. Он задумался над вопросом, что именно предпринять, если по пробуждении ее величеству не станет лучше? Вдруг он заметил, что императрица лежит уже очень неподвижно. Он вскочил, тронул ее за руку, замер на мгновение в ужасе и затем с диким воплем выбежал в приемную, где и упал у ног великого князя…
Ее величества Екатерины Второй не стало!..
Павел Петрович сильно побледнел, но остался спокойным. Медленным, торжественным шагом он прошел в открытую дверь, за ним пошла великая княгиня. Вслед за ними в опочивальню двинулись все остальные, желавшие и имевшие право отдать последние почести почившей.
Тело императрицы положили на высокий постамент, и августейшая семья окружила его в сумрачном молчании.
Павел Петрович подошел к трупу матери и застыл в скорбном, грустном раздумье.
Что-то зашевелилось около него.
Павел Петрович взглянул и с отвращением увидал массивного Платона Зубова, последнего фаворита покойной государыни. Этот рослый, сильный мужчина, наслаждавшийся великолепным здоровьем и в последние годы разыгрывавший из себя настоящего царя, теперь казался какой-то руиной, калекой. Он почти не мог держаться на ногах и теперь, подойдя к великому князю, рухнул около трупа императрицы, обнимая в то же время ноги Павла Петровича.
Великому князю в свое время приходилось много терпеть от заносчивого, вульгарного Зубова, но теперь он не чувствовал в душе ни малейшей злобы или ненависти к нему – смерть сглаживает все…
Повинуясь благородному движению души, он поднял с земли Зубова и сказал ему:
– Вы можете быть совершенно спокойны. Я понимаю, что вы не можете не оплакивать этой потери, которую вместе с вами оплачет и вся Россия. Но вы можете почерпнуть утешение в сознании, что верно и честно служили покойной государыне императрице. Служите и мне так же, как служили моей матушке. Разумеется, вы останетесь во всех прежних чинах, званиях и должностях.
Зубов замер в восторге, но Павел Петрович отвернулся и вышел из опочивальни.
В приемной к нему навстречу бросился какой-то молодой человек и упал перед ним на колени. Это был князь Алексей Куракин.
Куракин долго путешествовал за границей, а потом, вернувшись в Россию, жил там уединенной и тихой жизнью вдали от шума двора. Теперь, узнав о болезни императрицы, он поспешил во дворец, где и встретился со своим бывшим другом.
– Я очень рад видеть тебя, Алексей, – сказал ему Павел Петрович. – Ознаменовываю эту радость тем, что назначаю тебя моим первым государственным канцлером!
Куракин рассыпался в выражениях благодарности, но Павел Петрович уже отошел от него, заметив двух вновь прибывших.
Это были два офицера, одетые в мундиры странного покроя и грубого сукна. Одним из них был генерал Мелиссино, другим – Ратиков. Узнав о смерти императрицы, они оделись в мундиры, принятые Павлом Петровичем для своей гатчинской армии, но не бывшие до сего времени официально признанными, и поспешили приветствовать своего царственного вождя.
Павел Петрович был тронут этим вниманием, поспешил обнять престарелого генерала и юного поручика и осыпал их тоже царской милостью.
Но в этот момент к нему подошла Мария Федоровна, и они под руку принялись обходить собравшихся.
Постамент с телом усопшей императрицы, окруженный до того густой толпой придворных, вскоре остался одиноко стоять в опочивальне, явно свидетельствуя о преходимости всего земного и тщетности всяческой суеты. Императрица умерла, все взысканные ее милостью, все обласканные августейшими щедротами стремились показаться на глаза нового монарха, ожидая теперь от него новых милостей. И лица опытных придворных старались разрешить нелегкую задачу: как совместить прилично-умеренную скорбь с восторгом, как найти ту тонкую грань, чтобы не возмутить нового монарха неблагодарностью, но и не рассердить его недостатком радости по поводу его воцарения.
Часть четвертая
Друг народа
I
Свершилось!
Великая и в добре, и в зле, и в гневе, и в милости «Семирамида Севера», как называли иностранцы императрицу Екатерину II, окончила свой земной путь. Ее царственные останки еще не были преданы земле, повсюду, казалось, еще витал великий дух покойной, а из дворца уже неслись веяния больших перемен. Все, что еще недавно гордо выступало, купаясь в лучах царственного благоволения покойной, теперь спешило отойти в тень, пригнуться, съежиться. А другие, наоборот, торопились выползти из тени, в которую они были отодвинуты прошлым царствованием, и уповали на милости нового императора. Ведь всякая смена правителя всегда сопровождается крушением одних надежд и пышным расцветом других. Что же было и говорить-то о данном случае, когда всем была известна глухая вражда покойной матери к воцарившемуся сыну, когда всем было известно, насколько ярым противником внутренней и внешней политики императрицы был Павел Петрович?
А тот, на ком сосредоточивались надежды и опасения царедворцев, менее всего думал о каких-либо счетах с прошлым. Да, ликвидировать это прошлое необходимо, в нем было слишком много темных страниц и кровавых пятен. Но это потом, через некоторое время. А сначала надо было отдохнуть от всех треволнений, обид, оскорбительных утеснений, перенесенных при жизни матери; надо было спокойно обсудить все, что предстояло сделать в ближайшем будущем. И, приказав поскорее переустроить императорские апартаменты Зимнего дворца сообразно изящной простоте, присущей его вкусам, Павел Петрович с наслаждением проводил первые дни в кругу своей семьи, оставляя это мирное житие только для необходимых приемов и некоторых дел, за которые надо было приниматься теперь же.
Одним из таких дел был указ о престолонаследии. Император лично ездил в сенат, чтобы поторопить и ускорить издание этого указа, объявлявшего наследником цесаревича Александра. Ведь сам Павел Петрович достаточно натерпелся при жизни матери от неопределенности положения, потому что Екатерина II вечно высказывала намерение обойти сына и передать корону своему внуку. Павел Петрович знал, что, помимо незаслуженных обид, такое положение вещей создает вечную угрозу порядку внутри страны, и хотел начать свое царствование с закономерной ясности во всем. Вообще ему хотелось согреть и осветить все вокруг себя, и это желание так ярко сверкало во взорах молодого царя, что совершенно преображало его внешность.
Да, теперь и следа не осталось от сутулого, некрасивого, желтолицего, сумрачного великого князя. Павел Петрович словно вырос; его движения вместо судорожной порывистости приобрели величественную сдержанность, взгляд очаровывал умом, проницательностью, благородством мысли. Впервые во всю жизнь ему по вступлении на трон пришлось говорить открыто и прямо с людьми самых различных званий и положений, и его обращение положительно очаровало всех. Здесь были простота без фамильярности, величие без надменности. И все уходили обласканными, умиленными, полными надежд на новую, блестящую эру для страны.
С непривычки все эти приемы сильно утомили государя, и он, как мы уже упоминали, с радостью отдался отдыху среди своих близких. Но этот отдых был недолгим. Дела не ждали; многое, по мнению государя, нуждалось в реорганизации, переустройстве; несчастная персидская война, результат авантюры, еще не была ликвидирована; во Франции свирепствовала революционная резня, и кровь Людовика XVI и Марии-Антуанетты еще не была отомщена. А кроме всего этого, надлежало еще исполнить давнишнюю просьбу Марии Федоровны и озаботиться судьбою пленного польского генерала Костюшко, с которым, по мнению государыни и государя, при покойной императрице обращались незаслуженно сурово.
Ведь Костюшко был только патриотом, разве же это – преступление? Разумеется, политическая необходимость требовала подавления независимости Польши, и волей-неволей приходилось принимать все меры для умиротворения присоединенной страны. Но это не давало основания трактовать героя, храбреца, самоотверженного сына своей родины как преступника!
Павел Петрович и сам хорошо сознавал это, а потому охотно пошел навстречу новой просьбе супруги поспешить с улучшением доли пленного. Доклад о прибытии во дворец генерала, вызванного по приказанию императора, застал Павла Петровича как раз над разработкой сложного проекта финансирования войны с французской революцией. Если бы прервать теперь работу, то потом пришлось бы начинать ее сначала. Но как ни мало времени было у государя, он даже не подумал заставить Костюшко подождать хоть полчаса. Если бы Костюшко был послом, иностранным принцем, вообще важной персоной – тогда другое дело, но польский генерал был несчастен, унижен, и рыцарская душа Павла Петровича не могла допустить и мысли о малейшем промедлении.
Приказав ввести генерала в свой кабинет, государь вышел из рабочей комнаты и направился к императрице.
– Ну, Маша, – ласково сказал он ей, – пойдем теперь к твоему Костюшко. Ты достаточно похлопотала за него, и тебе надлежит теперь быть свидетельницей, обойдусь ли я с ним согласно твоим желаниям.
Мария Федоровна с улыбкой взяла супруга под руку, и они весело пошли по направлению к кабинету.
II
Генерала Костюшко ввели в кабинет в тот же самый момент, когда туда с другой стороны входил государь с государыней. Царственная чета с выражением глубочайшего интереса окинула взором польского генерала, который, несмотря на свой вид, красноречиво говоривший о крайне бедственном положении пленника, держался совершенно бесстрашно, гордо и с полным достоинством. Он был мал ростом и худ до ужаса. Головы и лица почти не было видно из-за перевязок, которыми были прикрыты его раны. Только глаза горели неугасимой энергией и юношеским блеском.
Государь быстрыми шагами подошел к нему и с ласковой сердечностью протянул пленнику руку. Костюшко, видимо не ожидавший такого приема, пробормотал поздравление с вступлением на престол, высказав надежду, что новое царствование ознаменует собою новую эру для всех стран. «Из которых, – уже совсем твердо добавил он, – я не исключаю и своей несчастной родины!»
Государь выслушал это приветствие с величайшим участием и ответил:
– Дорогой генерал, я непременно хотел повидать вас, так как нам придется расстаться. Ваше пребывание в Петербурге протекало при таких обстоятельствах, которые я считаю равно оскорбительными и для вас, да и для меня самого. Я никоим образом не могу разделять те соображения, которые понуждали в прошлом к подобному обращению с вами. Но эти соображения разделяла покойная императрица, тогда как я во всех отношениях порываю с прошлой политикой, а потому не могу согласиться и с упомянутыми мотивами. Поэтому я и говорю вам то, что приказывает мне мой царственный долг: Костюшко освобожден!
Польский генерал вздрогнул, и вся его тощая фигурка отразила величайший испуг. Он хотел что-то сказать, но не мог от волнения выговорить ни слова. Только его большие, блестящие глаза стали еще больше и еще ярче засверкали.
Государыня, до сего времени не проронившая ни слова, теперь в свою очередь подошла к Костюшко и с очаровательной улыбкой сказала:
– Ваше превосходительство, я никогда не могла постигнуть, почему вас до сих пор держали в качестве государственного преступника, и потому крайне рада решению его величества. Разве можно считать преступником того, кто до последней капли сил боролся за свободу своего отечества? Нет, только великие души способны на подвиг, и наш государь признал это, воскликнув: «Отныне Костюшко – свободный человек!» Примите мое сердечное поздравление, генерал!
– Я – свободный человек? – воскликнул Костюшко с потрясающей скорбью. – О, это слово кажется неподходящим для того, кто, как я, полон решимостью служить моей несчастной родине до последней капли крови. Могу ли я быть свободным, раз не свободна моя родина, раз не свободны ее лучшие сыны? Ведь моя участь была еще сносной в сравнении с участью других… Болезнь и тяжелые раны спасли меня от заключения в крепости, где томится мой благородный друг Игнатий Потоцкий.
– Граф Потоцкий уже освобожден в данный момент, – перебил его государь, который отступил назад отыскивая что-то в шкафу кабинета.
Предмет, который он искал, лежал на самом видном месте, и потому-то государь не сразу нашел его. Это была шпага Костюшко, отобранная у него при пленении и тщательно хранившаяся в качестве трофея покойной императрицей. Павел Петрович, отдавая распоряжение о вызове Костюшко, в то же время приказал отыскать эту шпагу и положить ее в кабинете. Найдя ее наконец, он взял шпагу с выражением величайшего уважения и, снова подойдя к польскому генералу, улыбаясь, спросил:
– Не желаете ли получить обратно из моих рук свою шпагу, дорогой генерал? Покойная императрица спрятала ее в надежное место, потому что не хотела, чтобы столь губительное в ваших руках оружие вновь обратилось против России. Но я не считаю себя вправе лишать доблестного воина его оружия. Возьмите свою шпагу, генерал, и, если хотите, возвращайтесь на родину. Я не ставлю вам никаких условий и высказываю только пожелание, чтобы эта шпага никогда не обращалась против нас!
Костюшко отступил назад на шаг и протянул вперед руку, как бы умоляя и защищаясь.
– Ваше величество, – сказал он, – вы хотите окончательно подавить меня великодушием и милостью. Я чувствую себя очень польщенным и превознесенным выше меры… Но к чему мне? Ведь моя личность не может быть возвышена или унижена сама по себе, для этого она слишком тесно связана с Польшей. Но Польши нет более – к чему же мне шпага? Нет, ваше величество, оставьте эту шпагу у себя. Зато разрешением уехать из Петербурга я воспользуюсь с восторгом. Я могу уехать куда угодно, потому что Польши фактически не существует…
Император Павел с уважением смотрел на доблестного патриота, а затем сказал:
– Ее величеству и мне очень хотелось бы вознаградить вас за перенесенное по вине русского правительства. Поэтому я хочу сделать вам два предложения. Вот в этом пакете, – государь достал из ящика письменного стола какой-то конверт, – дарственная на полторы тысячи русских крестьян. Я был бы очень рад, если бы вы приняли от меня этот подарок, так как в этом случае генерал Костюшко остался бы у меня в России. Раз Польша погребена в недрах России – хотя я и должен признаться, что сам я никогда не желал этого, – ну, так вот, раз это случилось, то генерал Костюшко отлично может остаться в России в качестве доказательства того, что Россия не питает ни малейших дурных намерений против подвластных ей поляков. И если вы примете мое предложение, то обещаю вам, что вскоре генерал Костюшко станет одним из богатейших помещиков России.
Костюшко побледнел, заволновался и с большим трудом ответил:
– Польша несчастна, и я не хочу быть не кем иным, как только несчастным поляком, в качестве какового я и отправлюсь в Америку через Париж и Лондон. Единственно, что в настоящем положении я могу принять от вашего величества, о чем буду смиренно умолять, – это чтобы: меня снабдили небольшой суммой, необходимой для поездки. Разумеется, я прошу эти деньги только взаймы и буду счастлив, если мне будет разрешено перевести их из Лондона, где хранится все мое состояние.
– Прежде чем обращаться с этой просьбой, вам следовало бы подождать, пока я договорю до конца, генерал! – ответил государь, тон которого стал внезапно холодным и суровым. – Ведь я начал с того, что собираюсь сделать вам два предложения. Я заранее считался с тем, что вы можете не пожелать жить в России в качестве лояльного и верного подданного; поэтому, чтобы хоть отчасти вознаградить вас за перенесенное и дать возможность устроить жизнь получше, я собирался предложить вам сумму денег, равноценную полутора тысячам крестьян. Это не подарок, не подачка, а долг. Разумеется, деньги не могут возместить перенесенные страдания, но это – единственная возможность для меня хоть как-нибудь загладить оказанную вам несправедливость. И только в качестве возвращаемого долга я прошу вас принять вот это!
С этими словами государь достал из ящика запечатанный сверток, в котором находилось несколько тысяч червонцев. При этом его лицо опять несколько просветлело: первая минута раздражения на упрямство генерала сменилась сознанием, что иначе не мог поступить такой рыцарь и герой.
А на лице Костюшко боролись разнородные ощущения. Он, с одной стороны, чувствовал себя тронутым великодушием и благородством государя, который так открыто, так смело сознавался в ошибке правительства, не считая нужным прикрываться фразами. Но, с другой стороны, этот самый великодушный государь в данный момент олицетворял собой угнетательницу-Россию, тогда как сам он, Костюшко, оставался представителем плененной, но не смиренной, не задаренной милостями Польши. И таким должен был он оставаться и впредь!
– Я с сердечной благодарностью приму эти деньги, – не без волнения сказал он, – но не могу отступиться от уже высказанной ранее просьбы: разрешите мне, ваше величество, вернуть эти деньги обратно из Лондона!
– Можете делать с этими деньгами, что хотите, – холодно ответил государь. – Ноне скрою от вас, что отправка такой значительной суммы денег из Лондона может причинить мне большую досаду. Дело в том, что, вступив на престол, я первым делом прекратил получение субсидий от Англии… Пожалуй, будут говорить, что эта субсидия стала только тайной, а это было бы мне очень неприятно. Я считаю унизительным для достоинства России быть на содержании у чужеземного правительства и преследовать не свои цели, а цели и интересы какого-нибудь Питта. Вообще я – большой враг всяких денежных дел между нациями, как и между людьми чести, между которыми не должно быть денежных счетов по пустякам.
– Я понимаю и смиренно принимаю в свой огород камень, брошенный мне вашим величеством последней фразой, – с горечью сказал Костюшко. – Конечно, лучше всего было бы мне не брать этих денег, но без них я не могу обойтись, как не могу и удержать их у себя. Если вашему величеству неудобно, чтобы эта сумма была переведена из Лондона, тогда я устрою это из Парижа. Но иначе я не могу поступить! Только в одном случае я мог бы принять столь милостиво пожалованные мне деньги, а именно в том, если бы они представляли собою свободу и независимость Польши. В таком случае я не только не вернул бы царского подарка, но так глубоко спрятал бы его у сердца, что подарок нельзя было бы вырвать у меня, не вырвав и сердца. Но это пустая утопия. Независимость Польши! Да существует ли такая монета, которой точно и бесспорно могла бы быть выплачена свобода моей родины?
– Не будем портить последние минуты своего свидания, милый генерал, – возразил Павел Петрович. – Свобода Польши в данный момент представляет собою пустой риторический оборот, лишенный конкретного содержания. Пусть в прошлом была допущена ошибка, но для настоящего эта ошибка стала уже исторической необходимостью, даже правом. Такой монеты, про которую говорите вы, генерал, не существует и не может существовать. Россия должна с холодным, незыблемым спокойствием настаивать на своем праве. Ну а противопоставлять право национальной свободе – это печальная почва для возможности компенсации. Мне было бесконечно жаль, что такой храбрый, благородный человек, как вы, должен был принять участие в войне между национальной честью и исторической необходимостью. Результатом этого было тюремное заключение героя Костюшко… Какая печальная картина! Но что делать, что делать… Только, милый генерал, не обижайте меня и не возвращайте мне этих денег! Помимо того что мне лично был бы неприятен самый факт, пересылка крупной суммы денег может повредить мне политически. Вам известно, что по решению покойной императрицы Россия должна была совместно с Австрией выступить против негодяев санкюлотов, осмелившихся поднять руку на своего короля. Я всецело разделяю взгляд матери, но нахожу выполнение плана преждевременным, так как Россия еще не готова для серьезной войны. Поэтому я отложил пока это дело. Так вот, клеветники России начнут связывать получение этой суммы денег с медлительностью России, будут уверять, что русский государь подкуплен санкюлотами! Нет, милый генерал, я надеюсь, что такой неприятности вы мне не доставите!
Сказав это, император милостиво кивнул генералу и, взяв супругу под руку, быстро вышел из кабинета.








