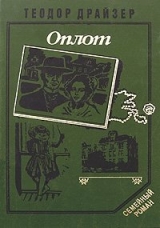
Текст книги "Оплот"
Автор книги: Теодор Драйзер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА XLIX
Казалось бы, посещение Орвила и неприятный разговор, который при этом вышел, должны были испугать Этту и заставить ее отказаться от Уилларда Кейна. Но случилось наоборот. Она восприняла это так, словно еще одна преграда легла между нею и всем тем, что составляло ее прежнюю жизнь. Орвил поднял совсем новый вопрос – о скандале в обществе, о людских пересудах, и все в ней возмутилось против этого гораздо больше, чем против религиозных и нравственных доводов отца; те по крайней мере шли от сердца – горячего сердца человека, который хоть и был ограничен в своем кругозоре, но искренне верил и любил. А в злобных упреках Орвила лишь сказалась мелкая душонка, не знающая иных стремлений, кроме стяжательства и погони за житейским благополучием, и Этта с радостью думала о том, что больше не принадлежит к его миру. Она не хотела причинять огорчения родным, но не могла допустить, чтобы их обывательские, узкоморалистские предрассудки стесняли ее свободу.
Орвил, получивший от нее достаточно резкий отпор, никогда не узнает о том, как глубоко была она уязвлена на самом деле, а она никогда не забудет этого тупого филистерского выражения на его лице. Но за время, проведенное вдали от дома, Этта не только лучше узнала жизнь и приобрела некоторый опыт, она стала более смелой и независимой в своих взглядах. Что ей в конце концов презрение и осуждение мира богачей и мещан – мира, где брат может возненавидеть сестру, недавнюю подругу своих детских лет? Она радовалась при мысли о том, что ушла из этого мира – навлекла на себя его презрение, – ибо в нем все подчинено условным житейским правилам, которые душат стремление личности развиваться и совершенствоваться. Дружба с Волидой и общение с такой богатой артистической натурой, как Кейн, помогли ей окончательно сбросить гнет этого мира.
Таким образом, все способствовало тому, что Этта умом и сердцем сильней и сильней привязывалась к Кейну. В отличие от ее отца и брата он так хорошо понимал смысл и красоту жизни. Он побуждал ее стремиться к духовному росту, учил ее находить наслаждение в мысли и понимать радости творчества. Он говорил с ней о книгах и музыке, водил ее в картинные галереи и так умно и хорошо объяснял все, что ей было непонятно. И в то же время он приобщал ее к таинствам любви, проявляя такое умение чувствовать и выражать свои чувства, которое как нельзя лучше отвечало самым сокровенным потребностям ее существа.
Волида, несмотря на свои передовые идеи, была поражена и даже несколько разочарована, обнаружив в Этте свойственную всем обыкновенным смертным ее пола потребность любви и физической близости с любимым человеком. Впрочем, тут скорей всего проявилась безотчетная зависть или ревность, шевельнувшаяся в Волиде, потому что ей самой ни разу не случалось затронуть сердце мужчины, хотя бы и не такого привлекательного, как Кейн. Она много раз бывала вместе с Эттой в мастерской художника и восхищалась его умом и высоким мастерством его произведений. И она не теряла надежды, что когда-нибудь ей посчастливится внушить нежные чувства человеку, столь же красивому и внутренне утонченному. А пока дружба с Эттой заменяла ей более сильные привязанности. Она и в самом деле была беззаветно предана подруге, сознавая, что значительно уступает ей в богатстве мыслей и чувств. Услышав о встрече Этты с Орвилом, она тут же посоветовала ей выбросить из головы эту тяжелую и неприятную сцену. Ведь у нее есть свои деньги, правда? Она не должна спрашивать у старшего брата разрешения жить так, как ей хочется. Он и сам уже, наверно, понял, что не имеет над нею никакой власти.
В этом Волида не ошиблась. Орвил действительно уехал из Нью-Йорка с чувством полного поражения. Больше всего его мучила мысль о скандале, боязнь, как бы слух о неподобающем образе жизни, который ведет его сестра, не достиг ушей жены и жениной родни. Он решил ни отцу, ни матери и никому в семье не говорить о своей поездке. Лучше молчать и ждать; надо посмотреть, как все сложится дальше. Быть может, Этта еще одумается и изменит свое поведение. Все равно ему скоро придется побывать в Торнбро – он аккуратно раз в месяц ездил навещать родных, – и тогда уж он на месте оглядится и надумает, как ему быть.
Но когда на следующей неделе он приехал в родной дом, там все были увлечены подготовкой к свадьбе Доротеи, которая должна была состояться в октябре. Минувшим летом она стала невестой Сатро Корта, того самого молодого человека, с которым она танцевала в памятный вечер своего первого приезда к тетушке Роде; отец его был крупным подрядчиком по прокладке трамвайных линий, и Доротея не жалела изобретательности ради того, чтобы свадьба явилась событием в жизни местного общества. Орвил застал ее за изучением «Светского справочника», откуда она выписывала имена и адреса лиц, достойных приглашения на торжество. Она очень обрадовалась приезду брата, считая, что в этом вопросе он может быть неоценимым советчиком.
Они были одни в кабинете Солона. Орвил стоял у окна и смотрел на лужайку перед домом, а Доротея сидела за отцовским столом. Она читала вслух имена, а он делал свои замечания, большею частью одобрительного свойства.
– Рэнс Кингсбери с женой. – Карандаш Доротеи задержался в воздухе. – Пригласим?
– Кингсбери? – Орвил отскочил от окна и поспешно подошел к ней. – Нет, нет, ни за что!
– А почему? – удивилась Доротея. – Чем он нехорош?
– Дело вовсе не в том, хорош он или нет, – сказал Орвил. – А просто ему кое-что известно об Этте, что нам вовсе не желательно распространять, особенно сейчас.
Доротея выпрямилась в кресле.
– Что такое? Я не понимаю, Орвил, о чем ты говоришь?
Орвил нахмурился и приложил палец к губам, как бы в знак того, что это тайна.
От этого, разумеется, любопытство Доротеи только разгорелось, и, пустив в ход присущую ей настойчивость, она в несколько минут вытянула из Орвила всю историю. То, что она услышала, потрясло ее и в то же время испугало: перед ее мысленным взором сверкнуло страшное слово «скандал». Подумать только, что ей и ее семье угрожает такая опасность – и именно сейчас, перед ее свадьбой! Она решила ничего не говорить родителям, но случилось так, что на следующий день, когда они с матерью обсуждали какие-то хозяйственные приготовления, Бенишия вдруг сказала:
– Доротея, тебе, по-моему, следует написать Этте сердечное, теплое письмо и попросить ее приехать на свадьбу. Я не сомневаюсь, что она и так приедет, но пусть видит, что ты этого хочешь.
– Но, мама... – начала Доротея и запнулась.
– Что, дитя мое?
– Мама, ты не все знаешь об Этте. Если б вы с отцом знали правду о ее нью-йоркской жизни, вы бы ее не похвалили. Мне кажется, лучше ей совсем не приезжать.
– Доротея! – воскликнула Бенишия. – Как ты можешь так говорить о своей сестре!
– Это не я говорю, мама, это Орвил; и он тоже считает, что ей лучше не приезжать.
– Ты меня очень огорчаешь, Доротея, таким отношением к сестре. Это ее дом в такой же мере, как и твой. А если у Орвила есть в чем обвинить ее, пусть придет и расскажет мне все сам.
И сразу у Бенишии мелькнула мысль о художнике, про которого упоминала Этта. С тех пор прошло немало времени, в письмах Этта почти не касалась своей личной жизни, и у Бенишии тревожно защемило сердце – не случилось ли чего-нибудь нехорошего с чистой, задумчивой, мечтательной девочкой, которая несколько недель назад так прямо смотрела матери в глаза, уверяя, что ей нечего скрывать.
Последовавший затем разговор между Бенишией и двумя ее детьми был болезненно тягостным для всех троих. Орвил повторил все, что говорил Доротее, только в иных выражениях, менее оскорбительных, по его мнению, для слуха матери.
Ошеломленная и подавленная услышанным, Бенишия прежде всего подумала о Солоне. Она теперь опасалась худшего, но не хотела подавать виду перед Орвилом и Доротеей, что ее вера в Этту поколебалась. Она продолжала твердить, что они, может быть, ошибаются; что во всяком случае им не пристало так дурно говорить о своей сестре; напротив, пусть приедет и оправдается. Она требовала, чтобы Солону ничего не говорили до тех пор, пока она не узнает правду от самой Этты. Она сейчас же напишет ей, и из ее ответа все будет ясно.
Но этот долгожданный ответ оказался настолько уклончивым, что на душе у матери стало еще тяжелее и тревожнее. Мучительное волнение отразилось на ее здоровье; несколько раз, пока шли приготовления к свадьбе, ее одолевали приступы слабости, и она хорошо знала, что виной тому не усталость, а боль и страх за Этту, от которой больше не приходило ни строчки.
Обеспокоенный Солон в конце концов заподозрил неладное, тем более что Бенишии плохо удавалось скрывать свое горе. Он стал настойчиво расспрашивать детей, в особенности Доротею, не знают ли они, что так тревожит их мать.
– Она, наверно, огорчается из-за Этты, – не задумываясь, ответила ему Доротея. – Этта написала, что не может приехать к свадьбе, потому что будет очень занята, а мама все надеется.
Услышав это, Солон сразу подумал, что за отказом младшей дочери приехать скрывается нечто большее, чем те общие соображения, которые она ему высказывала при их последней встрече. Он пошел к Бенишии и попросил ее рассказать все, что ей известно об Этте, так как ему кажется, что от него что-то скрывают. И Бенишия нехотя призналась ему: да, в жизни Этты появился мужчина, художник, пользующийся известностью, но каковы отношения между ними, она не знает и не хочет верить, будто это отношения предосудительные; сама Этта говорила ей, что их связывает только искусство, и родителям остается лишь молиться и верить, что бог не допустит ее до чего-либо дурного.
Теперь они разделили это тяжкое бремя, и невесело было у обоих на сердце в день, который должен был бы стать самым большим праздником для Солона, – день свадьбы его дочери в прекрасном доме, где прошла его юность.
Часть третья
ГЛАВА L
Осенью того самого года, когда Этта начала новую жизнь в Нью-Йорке, а Доротея вышла замуж, в судьбе Стюарта тоже произошли перемены. Отец отдал его в училище Франклин-холл, заведение, проникнутое религиозным или, во всяком случае, высоконравственным духом, где при наличии искренней тяги к знанию многому можно было научиться. Оно помещалось в тихом, живописном и довольно уединенном уголке, который когда-то был одним из предместий Филадельфии, а теперь представлял собой нечто среднее между дачным местом и городской окраиной. При училище был парк акров в двадцать, обнесенный высоким сплошным забором, с аккуратно подстриженными лужайками и нарядными цветочными клумбами. К услугам воспитанников были спортивные площадки, теннисные корты. Посреди парка стояли три дома: один был отведен под аудитории и административные помещения, в двух других жили воспитанники.
Стюарту, который все шестнадцать с половиной лет своей жизни провел безвыездно под родительским кровом, здесь сразу понравилось: и обстановка и люди были совсем иные, чем дома. Впрочем, распорядок дня учащихся был строго регламентирован: в таком-то часу вставать, в таком-то ложиться, столько-то тратить на еду, занятия, отдых.
Стюарт к этому времени выровнялся в складного красивого юношу без малого шести футов росту, весьма осведомленного во всем, что касалось радостей жизни, и весьма неглубокого в других отношениях. Он был веселого нрава, и здесь, в училище, его привлекала не столько возможность расширить свой кругозор, сколько перспектива знакомства и дружбы с более искушенными сверстниками, которые введут его в желанный мир спорта и развлечений.
Надо сказать, что все его интересы сосредоточивались теперь вокруг девушек. Он испытывал то же томление пола, которое причиняло столько мук старшей из его сестер, только в нем оно было гораздо сильнее и не умерялось, как у Айсобел, привычкой обуздывать и сдерживать себя. Его постоянно терзал неутоленный голод плоти. Вид округлой шейки или щечки, грациозная походка, блеск глаз, прикосновение руки хорошенькой девушки – все это словно заряжало его электрическим током. От одной только мысли о чем-либо подобном ему становилось жарко, радостно, сладко-тревожно. Но, верный себе, он мечтал не об одной, а обо всех. Ему редко случалось пройти по улице, чтобы не встретить девушку, которая показалась бы ему неотразимо привлекательной. И он тотчас же воспламенялся, не думая о том, насколько мимолетны его восторги.
Однако училище оставляло гораздо меньше времени и даже возможностей – так по крайней мере казалось на первых порах – для тех неуклюжих флиртов, которых он так жаждал. Чтобы провести у товарища субботний вечер или воскресенье, требовалось письменное разрешение родителей. Правда, некоторые мальчики – те, у кого родители были не слишком строги, – ухитрялись все же бывать в театрах или иным способом развлекаться вне стен училища. Но Солон и Бенишия требовали, чтобы он по субботам приезжал домой или же оставался в училище и готовил уроки.
Немудрено, что Стюарта очень скоро начал злить этот бдительный родительский надзор, по его мнению, обидный и ненужный. Дело еще усугублялось тем, что у него никогда не бывало денег. Солон заранее подсчитал его бюджет и пришел к выводу, что если одежду и необходимые учебные пособия он будет получать от родителей, то пяти долларов в неделю вполне хватит на проезд и карманные расходы. В случае непредвиденных надобностей Стюарт должен был обращаться к отцу каждый раз особо, и предполагалось, что такие случаи будут редки. Солон хотел, чтобы сын знал деньгам цену и тратил их разумно и осмотрительно.
Но Стюарту такая система вовсе не нравилась. Рядом, чуть ли не у самых ворот, был большой город со всеми его соблазнами – магазинами, ресторанами, театрами, которые ему никогда не разрешалось посещать. И некоторые из его сверстников, не нуждавшиеся в деньгах, как он, часто, в обход строгих школьных правил, отправлялись по субботам в Филадельфию и поочередно «ставили угощение» товарищам в каком-нибудь ресторане или павильоне с мороженым. У многих чемоданы были полны изысканных предметов туалета, о каких он и мечтать не мог, а больше всего его задевало, когда какой-нибудь юнец начинал хвастать, что у его отца есть автомобиль: Стюарту никак не удавалось уговорить Солона купить машину.
Автомобиль в те годы являлся предметом особой роскоши, и были такие любители пустить пыль в глаза, которые залезали в долги, лишь бы его приобрести. Дорогие американские марки соперничали с заграничными, и сотни больших и маленьких, окрашенных в яркие цвета автомашин с оглушительным ревом мчались по улицам Филадельфии и других городов, заставляя простых смертных трепетать от зависти.
Среди однокашников Стюарта был один мальчик, отец которого недавно завел первоклассный автомобиль. Лестер Дженнингс-младший даже научился сам править и в разговорах любил упомянуть об этом вскользь, как о предмете, не заслуживающем внимания, хотя на самом деле ему до смерти хотелось покрасоваться перед товарищами за рулем.
Однажды, когда он с увлечением описывал автомобильную прогулку, совершенную семейством Дженнингс в прошлое воскресенье, другой мальчик из их кружка, Виктор Брудж, вдруг прервал его похвальбу.
– Послушай, Дженнингс, а что бы тебе как-нибудь взять у отца автомобиль и покатать нас, – сказал он. – Вот была бы красота! Отсюда не больше часа езды до Атлантик-Сити, а то можно поехать и в Уилмингтон. В Уилмингтоне у меня есть знакомые девушки.
И Лестер ответил, что непременно постарается устроить это, когда автомобиль не будет нужен отцу.
Вполне естественно, что Стюарт, жизнерадостный, жадный до развлечений, сразу пришелся ко двору в этой компании. Особенно он сдружился с Дженнингсом и Бруджем и быстро подпал под их влияние. Оба отличались таким же легкомысленным нравом. Дженнингс был добрый малый, хоть, пожалуй, чересчур напористый. Коротенький, коренастый, с широким, почти квадратным лицом и выдающейся челюстью, он при разговоре словно сверлил собеседника своими маленькими глазками сквозь круглые очки в металлической оправе. Он питал пристрастие к хорошим вещам, носил дорогое белье и костюмы, ездил всегда с превосходными кожаными чемоданами всевозможных размеров; говорили, что он единственный наследник миллионного состояния.
Виктор Брудж, высокий, фатоватый юнец лет восемнадцати, был другого склада – нервный, чувствительный, себялюбивый. Он тоже щеголял своими костюмами и у него в комнате было полно всяких занятных и необычных вещиц. Мать баловала его, считая, что ее муж слишком строг к сыну, и Виктору ничего не стоило получить от нее письменное разрешение на что угодно – поехать к Дженнингсу в гости, например, или просто провести воскресный день в Филадельфии. Она только сетовала при этом, что редко его видит.
Вскоре у приятелей вошло в обыкновение собираться втроем в чьей-нибудь комнате среди дня или даже вечером, после того, как погасят свет, хотя это и запрещалось правилами. При всяком удобном случае они совершали вылазки в соседний поселок. Разговаривали преимущественно о девушках – обсуждали их сравнительные достоинства, спорили о том, проявила или не проявила такая-то ответный интерес к кому-нибудь из них. Не забывали и о таких вещах, как карты, сигареты, театр. И у Бруджа и у Дженнингса были щегольские портсигары, из которых, когда позволяли обстоятельства, они небрежным жестом вынимали «гвоздик», как на тогдашнем жаргоне именовались сигареты. Дженнингс, кроме того, играл в безик и покер, а Брудж считал себя первоклассным бильярдистом – он недавно выучился играть на бильярде и очень этим гордился.
Как именно он изловчится воспользоваться отцовским автомобилем для задуманной экскурсии, Дженнингс еще не знал, но он не сомневался, что это ему удастся – хотя бы на несколько часов. Нужно будет только прихватить с собой каких-нибудь девушек. Об этом и шел у них разговор в одну из суббот, перед тем, как всем троим разъехаться по домам.
– Ох, и здорово же будет! – вскричал Стюарт, вспоминая Маршу Уоррингтон, школьницу из Даклы. Она была такая хорошенькая, полненькая, с розовыми щечками.
Бруджа тоже взволновала эта затея. У него была привычка садиться на стол, конторку, сундук – все равно что, лишь бы повыше, и, разговаривая, беспокойно болтать ногами и размахивать руками.
– Можно поехать в Уилмингтон, – снова предложил он. Его семья была из Уилмингтона и только недавно переехала в Филадельфию. – Я там знаю таких девчонок – пальчики оближешь.
– Или в Атлантик-Сити, – вставил Стюарт. – Поедем в Атлантик-Сити. Думаете, мы за один день не обернемся?
Брудж и Дженнингс сомневались, удастся ли обернуться за один день. Но в конце концов главное было достать автомобиль и уехать, все равно куда, лишь бы уехать, и на это они теперь направили всю свою изобретательность.
ГЛАВА LI
Для осуществления этого увлекательного плана Стюарт решил попросить у отца немного денег сверх положенной ему суммы, а также заручиться разрешением на поездку в гости к Дженнингсу или Бруджу, приурочив это к той субботе, когда выяснится, что Дженнингс может располагать автомобилем.
Однако в следующий свой приезд домой он сразу увидел, что разумнее будет не обращаться сейчас к отцу с просьбами. Как оказалось, Солон получил из Франклин-холла письмо, в котором декан сообщал ему, что Стюарт сильно отстал по трем предметам и если не выправится до конца семестра, то будет исключен.
«Я очень сожалею, что должен огорчить Вас, мистер Барнс, – писал декан. – Стюарт, безусловно, способный мальчик, но с наклонностью к легкомыслию и поэтому нуждается в особо бдительном надзоре. Кроме того, он здесь сдружился с несколькими юношами, которые склонны бесцельно проводить время и его приучают к тому же. Ввиду всего этого полагаю, что Ваше родительское внушение явится сейчас весьма своевременным и, быть может, предотвратит необходимость более крутых мер в дальнейшем».
Это письмо ошеломило Солона. Он еще не успел оправиться после того удара, который нанесло ему вызывающее своеволие Этты – и вдруг новое потрясение. Столько молитв, столько размышлений, столько заботы со стороны его и Бенишии, и тем не менее вот уже второй из их детей ведет себя недостойным образом. Разумеется, он поговорит со Стюартом, но поможет ли это? Ему хорошо запомнилось то странное, испуганное выражение, которое было в больших голубых глазах Этты, когда он отчитывал ее по поводу найденных в ее комнате книг и ее желания ехать в Висконсин с Волидой Лапорт. И тем не менее несколько дней спустя она покинула родной дом, не побоявшись лишить себя родительской ласки и защиты. А теперь и Стюарта одолевает такая же, пожалуй еще более неуемная, жажда жизни. Если его исключат, то из страха перед суровым осуждением домашних он может броситься навстречу еще большим опасностям. Нет, нет! Что бы ни случилось, у этого мальчика никогда не должно возникнуть мысли, что ему тяжело в родном доме и что отец не понимает его и не сочувствует ему. Видно, в самом деле мир изменился. Нужно научиться понимать детей, не поступаясь своими представлениями о том, что хорошо и что плохо – поскольку поступиться ими для него невозможно.
После длительного раздумья Солон решил, что попробует подойти к Стюарту по-новому. Когда тот в субботу приехал из Франклин-холла, отец встретил его ласково. Но письмо декана он положил в комнате сына на видном месте, где его нельзя было не заметить.
И в самом деле, как это письмо, так и неожиданная снисходительность, проявленная отцом, произвели сильное впечатление на Стюарта. Он сам пришел к Солону, откровенно сознался в том, что запустил занятия, и пообещал исправиться. При этом он был вполне искренен: ему вовсе не хотелось, чтобы его исключили из Франклин-холла, не хотелось расставаться с товарищами, общество которых сулило столько интересного и неизведанного.
После этого случая его отношения с отцом как будто наладились; но прошло немного времени, и Стюарт снова убедился, что настоящая близость и взаимопонимание между ними невозможны. Отец всегда оставался для него только серьезным, почтенным человеком, который постоянно разбирает какие-то бумаги, ведет душеспасительные беседы или восседает торжественно за обеденным столом, человеком, который ко всему подходит обстоятельно, осторожно, без улыбки, тогда как ему, Стюарту, столь многое в жизни казалось забавным – взять хотя бы даклинских квакеров в их старомодной одежде, часами просиживавших в молитвенном доме, храня благоговейное молчание. Даже старый Джозеф, кучер, вызывал у Стюарта смех: он так потешно семенил по двору, шамкая беззубым ртом, а брови у него были такие густые и лохматые, что из-под них почти не видно было глаз. При ходьбе он смешно выворачивал ноги пятками внутрь, и Стюарт не раз забавлял Доротею, очень ловко передразнивая старика. Однажды отец застал его за этим занятием и сурово отчитал.
Привычка Стюарта употреблять жаргонные словечки тоже стоила ему строгого выговора. Как-то субботним вечером, сидя дома из-за дождя, он от скуки принялся подбрасывать и ловить трость, мячик и книги, подражая жонглеру, которого они с Бруджем видели в трентонском мюзик-холле. Доротея была у него за публику.
– Смотри на меня, Додо! Смотри во все гляделки! – пыхтя, приговаривал он. – Вот я тебе сейчас покажу класс. Закачаешься! – Тут он уронил все три предмета на пол. – Здорово, а? Шик-блеск!
Доротея, войдя во вкус забавы, уже хотела попробовать сама, но в это время в комнату вошел Солон.
– Что за выражения ты употребляешь, Стюарт? – спросил он, глядя на сына поверх очков. – Я был в соседней комнате и случайно слышал.
– Да это так, ходовые словечки, папа, – признался Стюарт. – Я тут Доротее фокусы показывал.
– А разве при этом необходимы подобные выражения? Где ты им научился?
– У нас все мальчики так говорят. – Стюарт закусил губу, чтобы сдержать непочтительную улыбку. – Но дома-то, пожалуй, правда не стоит, – добавил он нерешительно.
– Вот что, Стюарт, – сердито сказал Солон, – и дома, и в училище, и где бы ты ни был, потрудись говорить нормальным человеческим языком. Ты с каждым днем становишься все более дерзким, все менее похожим на воспитанного юношу. Это товарищи на тебя так влияют? В таком случае придется взять тебя из Франклин-холла и определить в другое учебное заведение.,
Он вышел из комнаты, оставив детей одних. Им обоим было не по себе после этой сцены. Доротея сочувственно улыбнулась Стюарту, потом сослалась на какое-то дело и ушла, а Стюарт вышел на веранду и принялся расхаживать из угла в угол. Ну и семейка, нечего сказать! Уж какой теперь может быть разговор о деньгах, когда отец так настроен!
Было от чего прийти в отчаяние: ведь, может быть, в ближайшую субботу Дженнингсу удастся заполучить отцовский автомобиль, и тогда – страшно даже подумать! – Стюарту не придется принять участие в этом долгожданном похождении!







