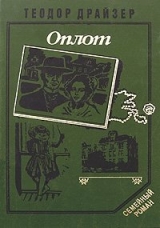
Текст книги "Оплот"
Автор книги: Теодор Драйзер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА XXXVI
Нельзя сказать, чтобы новая подруга Этты произвела особенно благоприятное впечатление на ее домашних. Когда обе девушки приехали в Торнбро, Солон и Бенишия приняли гостью ласково и сердечно, но она показалась им дерзкой и невоспитанной, и ни ее рассуждения, ни манера держать себя не пришлись им по душе.
– Это что же, девчонка или мальчишка? – спросил Стюарт у сестры, застав ее одну в гостиной. Его смешили и короткие волосы Волиды, и ее упрямый подбородок, и размашистая мальчишеская походка.
– Вот и не водись с ней, если она тебе не по вкусу, – сказала Этта, слегка обиженная.
– Да оставь ты ее себе, очень она мне нужна! – пренебрежительно заявил Стюарт. Впрочем, в обращении с гостьей он был неизменно вежлив и мил.
Айсобел и Доротея – они обе тоже приехали домой на каникулы – отнеслись к Волиде довольно сдержанно. Доротее она просто не понравилась, а Айсобел сочла ее не заслуживающей внимания по молодости лет. Но после нескольких дней знакомства эта совсем еще юная девушка заинтересовала Айсобел своим недюжинным умом и самостоятельностью мнений и поступков. Старшая невольно почувствовала уважение к младшей, слушая, как твердо и уверенно говорит та о своих жизненных планах.
Зато для Бенишии самый тип такой девушки, как Волида, был чужд и непонятен. Она привыкла видеть назначение женщины в том, чтобы создавать домашний очаг мужчине и быть матерью его детей. Таков удел, определенный ей господом богом.
Немудрено, что желание Этты уехать с Волидой на Запад и поступить в Висконсинский университет не встретило у Солона ни малейшего сочувствия. Он уже раньше написал представителю Торгово-строительного банка в Мэдисоне и просил его навести справки о семействе Лапорт. Полученные сведения оказались достаточно благоприятными, чтобы развеять его первоначальные опасения по поводу новой привязанности Этты; но когда он увидел Волиду, то сразу же смутно почувствовал, что это все-таки неподходящая подруга для его дочери. К тому же Висконсин был слишком далеко; молодой девушке не следовало так далеко уезжать от дома. Солон сделал вид, будто в этом все дело, не желая говорить Этте о том, какое тревожно-неприязненное чувство внушает ему Волида.
Этта, чутьем угадавшая правду, промолчала, но в глубине души окончательно пришла к выводу, что ее родители – люди безнадежно отсталые и старомодные. И она решила, что все равно поедет в Висконсин, пусть даже против их воли. До окончания пансиона остается еще год, а за это время можно будет что-нибудь придумать.
По возвращении в Чэддс-Форд подруги сблизились еще больше, и мечта Волиды о самостоятельности сделалась их общей мечтой. Они строили планы о том, как вместе будут учиться в университете, а потом, может быть, поедут в специальное учебное заведение, чтобы усовершенствоваться в профессии врача. Этта готова была подражать Волиде решительно во всем: Волида на целый год старше, лучше знает жизнь и вообще так хорошо разбирается во многих вещах!
В самом деле, у Волиды почти на все были свои взгляды, даже по таким вопросам, как экономика, политика, религия. И в Этте под ее влиянием зародилась глубокая жажда знаний. Но если Волиду интересовали практические области науки, Этту больше влекли музыка, история, искусство, поэтические предания старины. Огромное впечатление на ее ум и чувства произвела «Дама с камелиями» Дюма. Эту книгу она увидела у Волиды и, уезжая на летние каникулы, взяла с собой, чтобы прочесть на досуге дома. Разумеется, она тщательно прятала ее от посторонних глаз, но трагический образ двух любовников не покидал ее целыми днями. Она еще не вполне понимала физическую сторону любви, и многие детали сюжета от нее ускользали, но все же ей казалось, что перед ней открылся новый, неведомый прежде мир, где поэзия сливалась с действительностью.
ГЛАВА XXXVII
Внутренний протест Этты и Стюарта против домашнего уклада становился тем сильнее, чем лучше они понимали, что этот уклад совершенно не отвечает душевным потребностям каждого из них, и яснее всего это сказывалось в их отношениях с отцом.
А между тем в глазах своей жены Солон Барнс был безупречным человеком, какого она и ожидала в нем найти. За двадцать лет она не могла припомнить случая ни в личной, ни в деловой его жизни, когда бы он, больной или здоровый, кстати или некстати, вышел из себя, допустил какую-нибудь некрасивую вспышку, сделал что-либо бесчестное и нехорошее. У него словно все время находился перед глазами излюбленный квакерами библейский текст, который гласит: «Но да будет слово ваше: «да, да» и «нет, нет». Когда к нему в дом или в его кабинет в банке являлся какой-нибудь коммерсант, банкир или адвокат, ему в голову не приходило прежде всего заподозрить посетителя в желании обмануть его, провести или подвести, нарушив свои обязательства перед ним или перед другими. Скорее напротив. Он всегда ожидал от людей только хороших и честных поступков и, надо сказать, редко ошибался. А если обнаруживал, что все-таки ошибся, то это скорее огорчало его, чем возмущало.
Правда, он всегда старался иметь дело с людьми, которые выше подозрений. Его часовщик, бакалейщик, мясник, портной – все это были люди с безукоризненной личной и деловой репутацией. Он считал, что величайшее предначертание, данное человеку от бога, – вступить в брак, иметь детей и вырастить их добронравными и послушными божьей воле. Изменить этому предначертанию – значит играть с огнем, и если, оглядываясь кругом, он видел, что кое-где массив, который представляет собой общество, дал трещину и появились люди или целые группы людей, позабывшие о долге и о добродетели, то всегда искал корень зла в ранее совершенных ошибках, в том, что кто-то уклонился от брака и рождения детей или же, вступив в брак, не сумел выполнить свои родительские обязанности.
Бывают, конечно, необъяснимые на первый взгляд бедствия, несчастные случаи, болезни и разные слабости, нарушающие порядок вещей и мирное течение жизни, но если бы можно было добраться до первопричины, то, вероятно, оказалось бы, что и тут дети в третьем и даже четвертом поколении караются за грехи отцов. Господь восседает на престоле своем. Он повелевает и солнцем и мраком. Человеку в его ничтожестве не пристало восставать, глумиться или отрицать. Пусть лучше благоговейно преклонит колена и возблагодарит за многократно явленную ему милость, радуясь, если, наставляемый Внутренним светом, он сумел уберечь от зла свое потомство.
Однако для собственных детей – причем для всех пятерых по-разному – Солон Барнс был загадкой. Айсобел и Этта любили его и уважали, как человека строгих нравственных правил, но Этта с каждым годом все сильнее ощущала между собой и отцом пропасть, через которую не перекинуть моста. Только Доротея, с присущей ей беззаботностью, считала, что отец «прелесть» и «золото», потому что ей обычно удавалось его обойти. Орвил, думая о нем, создал себе отвлеченный образ человека властного и неприступного, которого можно чтить и уважать, но любить нельзя – разве только некоей условной сыновней любовью. А Стюарту чудилась в отце какая-то особая нежность, ничуть не умаляющая силу его личности, но тем не менее сокрытая в глубине его души, точно драгоценная порода в шахте, и почти недосягаемая, потому что ход к ней прегражден тяжелыми глыбами морали и долга.
Солон не понимал, что если ему до сих пор удавалось контролировать поступки своих детей, то над мыслями их он не был властен. Вероятно, сумей он проникнуть в мысли и желания, волновавшие его младшего сына, он бы ужаснулся. Стюарт был самым жизнерадостным и легкомысленным из всех пятерых, в нем особенно сильна была жажда удовольствий, и в четырнадцать лет любопытство неудержимо влекло его ко всему тому, что запрещалось домашними правилами и порядками. Он видел, что многие из его школьных товарищей живут гораздо веселее, и завидовал им. Особенную зависть внушал ему Перси Парсонс. Перси был не из квакерской семьи, хотя и учился в ред-килнской школе; отец у него был инженер, и жили они неподалеку от Торнбро. Этот черноволосый, черноглазый, задорный паренек очень нравился Стюарту. Он охотно после школы заходил к нему домой, всякий раз, когда удавалось разрешить себе подобную вольность. У Перси было так интересно! Можно было играть в разные игры, и книги там попадались такие занимательные – про индейцев, про следопытов, про дикий Запад – не то, что дома, где единственным чтением служили старые скучные квакерские трактаты.
Но примерно в это же время Стюарт познакомился с книгами другого рода, которые еще сильнее поразили его воображение. Просветил его в этой области Космо Родхивер. У отца Космо была книжная лавка в Дакле около почты, и Стюарт никогда не упускал случая завернуть туда, потому что у Космо всегда находилось для него что-нибудь интересное. Космо слыл докой по книжной части; кроме того, он уже разбирался в вопросах пола. Роясь среди книг, выставленных на продажу в отцовской лавке, он выискивал разные пикантные места, а то и прямую порнографию, и с особым наслаждением давал читать это другим мальчикам. Когда приходил Стюарт, он тотчас же вел его в глубину лавки и там демонстрировал свою очередную находку. Иногда это была фотография в каталоге какой-нибудь художественной выставки, изображавшая соблазнительную в своей наготе женскую фигуру.
– Хороша штучка, а? Неплохо бы провести с ней часок наедине? – говорил он, причмокивая, и оба впивались в фотографию жадными глазами.
С помощью Космо Стюарт узнал о многих вещах, о которых не опоздал бы узнать и через три-четыре года.
Достойным завершением этого периода его жизни явилось событие, происшедшее несколько месяцев спустя: вместе с Родхивером и Вилли Вудсом, тоже юнцом из Даклы, он побывал в трентонском театре на так называемом «ревю». Затея принадлежала все тому же Космо.
– Ребята, поехали в Трентон, там в «Орфеуме» каждый вечер шикарное представление и вход всего двадцать пять центов, – сказал он, и оба приятеля с готовностью согласились.
Родителям они решили сказать, что едут в гости к дяде Вилли Вудса, владельцу большой молочной фермы неподалеку от Трентона. Предлог показался вполне основательным, и разрешение было получено.
Представление отдавало дешевым балаганом: с десяток тощих девиц в трико маршировали по сцене под сальные шутки, отпускаемые двумя красноносыми клоунами. Но Стюарту это показалось волшебным зрелищем. Особенно сильное впечатление произвела на него одна из девиц. На ней было зеленое трико, расшитая курточка, доходившая только до талии, золотые туфли и золотой колпачок. Последующие дни он провел словно в экстазе. Смотрел ли он в окно классной комнаты, за которым цвели поля, брел ли домой по обсаженным кустарником проселочным дорогам, девица в зеленом неотступно была перед ним. Она плясала над полями, пряталась за деревьями в лесу, купалась в сверкающих струях ручья, шептала слова, слышные только ему. Девочки-школьницы, сидевшие вместе с ним в классе, теперь совсем по-иному притягивали его взгляды. Самых хорошеньких из них он мысленно раздевал донага.
Но неделю спустя ему пришлось вернуться с небес на землю и познать ту горькую истину, что все тайное рано или поздно становится явным. Один знакомый Орвила, заехавший в Торнбро узнать его трентонский адрес, в разговоре случайно упомянул о том, что в прошлую субботу встретил Стюарта в Трентоне, в театре «Орфеум». Никогда еще Стюарт не видел отца таким суровым и мрачным, как в тот вечер, по его приказанию явившись к нему в кабинет.
– Смотри мне в глаза, Стюарт! – строго сказал Солон, усадив мальчика в кресло напротив себя. – Я должен с тобой серьезно поговорить! Мне сказали, что в прошлую субботу тебя видели в трентонском театре. Я хочу знать, правда ли это.
Стюарт, с первой минуты заподозривший истинную причину неожиданного приглашения в отцовский кабинет, немного помялся, но потом чистосердечно рассказал все, как было.
Дослушав до конца, Солон встал со своего кресла, подошел к мальчику и остановился перед ним, заложив руки за спину.
– Я требую, чтобы это было в первый и в последний раз! Все театры – зло, и тебе там не место! – Он помолчал с минуту, затем продолжал: – Но больше всего меня огорчает, что ты солгал мне. Лживость – большой порок. Если ты приучишься лгать, не жди от жизни ничего хорошего. Ты никогда не сможешь смотреть в глаза порядочным людям. Они будут сторониться тебя, как прокаженного.
– Стюарт, сын мой, – продолжал он уже несколько более мягким тоном, заметив, что мальчик сидит совсем пришибленный, – у меня такие прекрасные планы относительно твоего будущего. Я не хочу, чтобы мои надежды оказались обманутыми. Через год или два я намерен определить тебя во Франклин-холл, а потом в специальный колледж, где ты получишь хорошее техническое образование. Если же ты предпочтешь карьеру банковского дельца, я и в этом готов пойти тебе навстречу. Но прежде всего я должен знать, что ты заслуживаешь моего доверия. А о каком доверии может быть речь, если ты станешь лгать мне? Я хочу, чтобы ты сейчас же дал честное слово, что никогда больше не скажешь неправды о своих намерениях, о том, куда ты идешь, с кем и тому подобное. Ты должен быть откровенным, правдивым и чистым при любых обстоятельствах.
Стюарт низко опустил голову, но по-прежнему молчал.
Отец, подождав немного, возобновил свою речь, и в голосе его опять зазвучали строгие нотки.
– Предупреждаю тебя, Стюарт, если я утрачу доверие к тебе, не жди от меня впредь снисходительности. Мне нельзя быть снисходительным, потому что я за тебя в ответе. Так вот, обещай мне, что ты больше никогда не будешь лгать.
Стюарт пообещал, но хмуро и нерешительно. Он не был уверен, что ему удастся сдержать обещание, точно так же как Солон не был уверен, что вопрос разрешен раз и навсегда.
ГЛАВА XXXVIII
В почтительности предупреждайте друг друга.
Живя среди колеблющегося, изменчивого мира, Солон находил утешение в незыблемой упорядоченности своего трудового дня. Окончив ровно без пяти пять работу, он принимался «наводить у себя порядок», как он это называл, чтобы к поезду 5.15 поспеть на вокзал. Важные деловые бумаги он тщательно запирал в ящики и потайные отделения своего бюро; перья, карандаши и всякую мелочь складывал в маленькую плетеную корзинку, стоявшую на крышке, и, наконец, клал в портфель те документы, над которыми рассчитывал поработать дома. Затем он неизменно вытаскивал из кармана маленькую записную книжку в черном переплете и делал в ней необходимые отметки для памяти. Покончив с этим, он надевал пальто из прочного, без износу, тяжелого коричневого драпа – если дело было зимой; а летом застегивался на все пуговицы, брал с вешалки круглую соломенную шляпу с высокой тульей, излюбленного квакерами фасона, и отправлялся на вокзал.
Но в тот весенний день, о котором идет речь, он собрался уходить немного раньше обычного, так как ему предстояло сделать кое-какие покупки. Утром он получил известие о том, что скончалась тетушка Эстер, и хотел послать цветов ей на гроб. Кроме того, в книжной лавке издательства «Альянс» он давно уже приглядел на витрине вставленный в рамку текст, который, по его мнению, должен был понравиться Бенишии. Слова: «В почтительности предупреждайте друг друга» («Послание к римлянам», 12, 10), вышитые желтой, зеленой и синей шерстью, приобретали особое значение сейчас, когда смерть так внезапно напомнила о тщете земного существования; а между тем не проходило дня, чтобы газеты не сообщили об очередном бракоразводном процессе или о каком-нибудь преступлении, явившемся следствием распутного образа жизни. Не далее как в это самое утро Солон прочел о том, что кассир одного из трентонских банков скрылся с крупной суммой, бросив жену и ребенка.
– Беда нашего времени в том, – заметил Солон мистеру Эверарду, выходя вместе с ним из здания банка и продолжая начатый разговор о трентонском происшествии, – что люди перестали думать о боге. Они забыли, что они лишь управители, исполняющие его волю.
– Вы правы, мистер Барнс, – с серьезным видом согласился Эверард, а сам в это время думал: «Не совратила ли сбежавшего кассира какая-нибудь хорошенькая женщина?»
Расставшись с Эверардом, Барнс зашел в цветочный магазин и распорядился послать корзину цветов в Дэшию, по адресу тетушки Эстер, а потом отправился в книжную лавку за понравившимся ему текстом.
В Дакле на станции его поджидал кабриолет, в котором сидела Айсобел, держа в руках вожжи. К вороту ее темно-синего платья был приколот цветок – это сразу бросилось в глаза Солону. Завидя отца, идущего по усыпанной гравием дорожке, она улыбнулась ему, впрочем довольно равнодушно.
– Устал? – спросила она, когда он усаживался с нею рядом. Она заметила сосредоточенно-грустное выражение его лица.
– Нет, дочка, – ответил он. – Но я привез печальные вести. Тетя Эстер скончалась. Тебе с матерью нужно будет завтра поехать в Дэшию. Есть что-нибудь от детей?
– Было письмо от Этты, – сказала она и тут же спросила, слегка оживившись (все-таки, хоть печальная, а новость): – А когда умерла тетя Эстер?
– Сегодня утром. Я узнал около полудня.
Кабриолет катился среди зеленых полей, пестревших крокусами и подснежниками. Проехали речку; над ней склонялись ивы, шевеля на ветру бледной зеленью молодых побегов.
– Красивое время года – весна, – мечтательно уронила Айсобел.
Солон оглянулся, но ничего не ответил; его чувства оставались глухи к томлению, разлитому в природе.
Старый Джозеф вышел из ворот встретить хозяина и отвести лошадь на конюшню.
– Добрый вечер, мистер Барнс, – прошамкал он. Рот у него совсем ввалился, выдавая отсутствие зубов, а морщин вокруг глаз стало еще больше.
– Добрый вечер, Джозеф, – ответил Солон, выходя из экипажа и направляясь к веранде.
– Миссис Барнс дома? – спросил он у горничной, попавшейся навстречу.
– Она, кажется, наверху, мистер Барнс.
Он повесил шляпу, положил на стол сверток и пошел искать Бенишию, тогда как Айсобел поднялась к себе.
Бенишия, с годами слегка располневшая, но все еще молодая лицом, поздоровалась с ним по квакерскому обычаю, без бурных проявлений чувства, но задушевно и тепло.
– Ты слышала новость? – спросил он, думая, что, может быть, компаньонка тетушки Эстер уже дала знать в Торнбро о ее смерти.
Бенишия, по его виду угадав неладное, забеспокоилась.
– Что-нибудь случилось?
– Тетушка Эстер скончалась сегодня утром.
– Не может быть! – вскричала Бенишия. – Бедная, милая тетушка Эстер. Ведь она собиралась к нам на будущей неделе!
Она всплеснула руками в горестном изумлении. Солон шагнул вперед и обнял ее, подавленный грозной неотвратимостью смерти.
– Ах, Солон, Солон, как мы должны быть благодарны, что столько лет прожили, не зная горя утраты! – сказала Бенишия с глубокой скорбью в голосе. – Бедная Эстер! Но такова воля божия, и никто не избегнет этой участи.
С минуту они постояли молча, потом, не сговариваясь, пошли в гостиную. В связи с предстоящими похоронами возникало, разумеется, множество мелких дел, которые нужно было уладить. Но, проходя мимо большого шератоновского стола, Солон заметил сверток и вспомнил о своей покупке. Он развернул бумагу и протянул Бенишии вышитый текст.
– Бенишия, – сказал он взволнованно, – мне это очень понравилось, и я решил, что тебе понравится тоже.
Она взяла, прочитала и подняла на мужа глаза, полные слез.
– Какие чудесные слова! – сказала она тихо и еще раз прочла текст вслух.
– Мне кажется, хорошо будет повесить это в столовой, – сказал Солон.
Она согласилась, и он тут же вбил гвоздики и повесил коврик с текстом на стену, против окон. Окна выходили на запад, мягкий вечерний свет лился в них, оттеняя теплые, сочные тона вышивки, и казалось, выведенные здесь слова выражают самый дух этого дома.
ГЛАВА XXXIX
На похороны Эстер Уоллин, состоявшиеся двумя днями позже, съехалась в Дэшию вся родня. Покойница не только была старшей сестрой Джастеса Уоллина и любимою теткой Бенишии; она состояла в родстве и свойстве еще с двумя-тремя десятками Уоллинов, Стоддардов, Парришей и прочих, и все они не замедлили прибыть – кто из Уилмингтона, штат Делавэр, кто из Трентона, Нью-Брансуика, Метучена и других городов, расположенных на севере штата Нью-Джерси, а кто даже из безбожного Нью-Йорка.
Среди явившихся отдать последний долг покойнице было немало лиц, присутствовавших двадцать лет назад при бракосочетании Солона и Бенишии. Кое-кто из них до сих пор носил традиционную квакерскую одежду – в том числе Солон с Бенишией и две молодые родственницы тетушки Эстер, жившие в том же старинном городке Дэшии. Но большинство было одето вполне по-современному, и только Доротее пришла фантазия нарядиться для этого случая в одно из девичьих воскресных платьев матери и надеть на голову ее чепец. Когда она, прибыв из Льевеллина, чтобы вместе со всем семейством отправиться на похороны, выразила желание ехать в таком костюме, Айсобел недоверчиво покосилась на сестру – она сразу же заподозрила в этом одну из ее привычных уловок, рассчитанную на привлечение внимания, но, впрочем, сочла за благо оставить свое мнение при себе.
Доктор Сигер Уоллин с женой тоже не преминули явиться, хотя покойница относилась к ним не слишком благосклонно, ввиду легкомысленного светского образа жизни, который они вели; бывшая Рода Кимбер, несмотря на черное платье и длинную траурную вуаль, сразу бросалась в глаза, выделяясь на фоне прочих родственников своими тщательно завитыми локонами, ярким румянцем, блестящими глазами и всем своим элегантным обликом. Ее супруг, подтянутый, учтивый, безукоризненно одетый, подстриженный и выбритый, представлял собой законченный образец той породы врачей, что занимаются лечением лишь модных недугов.
Джастес Уоллин и его жена от всей души оплакивали Эстер; ведь она была не только их любимой сестрой, но и последней, кроме них самих, представительницей старшего поколения семьи. Уоллин тоже прихварывал последнее время, и Солон предусмотрительно встал с ним рядом, готовый поддержать его в случае надобности. Бенишия, стоявшая подле мужа, казалась воплощением глубокой, искренней скорби.
Молодые Барнсы сбились в кучу в дальнем углу комнаты: Айсобел довольно равнодушно взирала на все происходящее; Орвил, приехавший прямо из трентонской конторы, держался чопорно и натянуто; Доротея была скромна и мила в своем квакерском наряде; Этта, маленькая и хрупкая, с бледным личиком, обрамленным пепельными локонами, удивленно водила по сторонам широко раскрытыми голубыми глазами, а Стюарт даже в этой торжественно-печальной обстановке сохранял веселый, цветущий вид.
– Какой прелестный мальчуган! – вполголоса заметила Рода мужу. – Я даже не представляла себе, что у Солона уже такие большие дети. А взгляни на Доротею! Просто красотка, правда?
Доктор Уоллин, внимательно оглядев девушку, согласился с женой, а Рода уже думала о том, что хорошо бы залучить Доротею к себе на один из своих ближайших званых обедов. Она только что собиралась обсудить этот вопрос с мужем, но в это время кругом задвигали стульями, рассаживаясь, и ей пришлось отложить исполнение своего намерения.
Теперь в комнате нависла гнетущая тишина. Ждали, когда на собравшихся снизойдет вдохновение. Однако нашелся всего один человек, почувствовавший желание заговорить. Это была старая миссис Уитридж, многолетний друг тетушки Эстер; она встала и довольно долго распространялась о добродетелях и щедротах покойной. После этого гроб повезли на кладбище.
Бенишия поплакала немного; поплакала и София Кроуэлл, сморщенная, седая старуха, которая тридцать лет прожила при тетушке Эстер в качестве горничной и компаньонки. Наконец толпа у могилы понемногу стала редеть. Родственники обменивались традиционными квакерскими рукопожатиями, садились в свои экипажи или автомобили – больше было автомобилей – и исчезали в солнечном просторе.
– Знаешь, у меня из головы не выходят Доротея и Стюарт, – сказала Рода мужу, сидя рядом с ним в машине, мчавшейся по направлению к Нью-Брансуику. – До того хороши оба! Зато Айсобел просто ужасна! А маленькая Этта? Она по-своему недурна, но кажется такой пресной, такой безжизненной. Бедные дети! Воображаю, как им живется при строгих нравах их папаши! Подумай только, он даже автомобиля себе не завел! Может быть, он просто скуп?
– Нет, не думаю, – сказал Сигер, которому несколько раз приходилось иметь дело с Солоном в банке. – Он только человек осмотрительный и притом старомодных взглядов.
– Но все-таки – разъезжать всем семейством в этом допотопном рыдване! Согласись, что это нелепо.
– Готов согласиться, хотя мне от этого ни холодно, ни жарко, – шутливо ответил Сигер. – Интересно, много ли тетушка Эстер ему оставила.
– Говорят, по завещанию только девочки и старая София получат кое-что, остальное отойдет на благотворительные нужды, – сказала Рода. – А все же я уговорю Солона отпустить свою хорошенькую дочку ко мне в гости.







