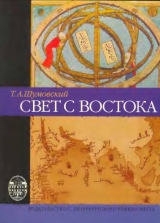
Текст книги "Свет с Востока"
Автор книги: Теодор Шумовский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Внимание, бригада! Переходите в распоряжение конвоя. В пути не растягиваться, не нагибаться, с земли ничего не поднимать, не разговаривать. Шаг вправо, шаг влево считаются попыткой к побегу, конвой применяет оружие без предупреждения. Все ясно? Вперед, направляющий!
118
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
Двинулись, пошли, нестройно покачиваясь.
– Не отставать, задние!
Люди перескакивали с одной обледеневшей шпалы на другую, не поскользнуться бы: глубоко внизу под шпалами – река, лед крепок ли?
– Шире шаг, направляющий!
Это «шире шаг!» слышалось поминутно, то с обращением к направляющему, шедшему первым, то просто так.
... Давно идем. Кто-то что-то проговорил идущему рядом.
– Разговоры! Прекратить разговоры!
За всеми, за каждым надо следить, все время восстанавливать порядок! Трудна работа у конвоиров, а никуда не денешься: служба. Одни томятся, но многие упиваются властью над людьми. Интересно ведь, когда страх заставляет человека выполнять любое твое приказание. Вон хотя бы тот, очкарик, наверное, важным начальником был, в личной машине ездил, а сейчас я его могу на колени поставить, и будет стоять, как миленький. Да черт с ним, вот уже их рабочий участок.
– Бригадир! Пошли пару человек людей ставить запретки!
Так они, охранники, выражаются: «люди» – название товара, «человек» – единица измерения. Это примерно то же, что сказать: «Пошли-ка, пастух, на выгон пару голов скота».
Что касается запреток, то, поскольку веление конвоира – закон, бригадир немедленно посылает кого-то пошустрее втыкать в снег вокруг участка палки с дощечками, на которых написано: «запретная зона». Ступишь за дощечку – выстрел, смерть.
– Бригадир! Дай человека разжечь мне костер!
Еще один назначенный нарубил растопку из смолистого пня, собрал сухих сучьев, обломки бревен, боязливо потащил это все в сторону конвоира. Уложил щепки, поджег, раздул костер, чувствуя на себе сверлящий взгляд.
– Ладно, кончай, иди в бригаду!
Остальные, которых не трогали, успели тем временем покурить, побеседовать вполголоса. Бригадир поднимает всех на работу.
– Давай, приступай!
Нам предстояло штабелевать бревна делового леса, разбросанные по складу. Бывшие в бригаде крымские греки оказались наиболее «ушлыми», «хитроумными»: они сразу выделились в отдельное звено, которое взялось укладывать в штабеля крупную древесину– большой диаметр верхнего среза дает большую кубатуру, это позволяет скорее
Утренний свет
119
выполнять норму, а то и перевыполнять, значит, увеличится хлебный паек. Другим, в том числе мне, осталось работать со средним, а бывало и с мелким лесом: катать пиловочник, строевик, телеграфник, рудничную стойку, дрова-долготье. Здесь кубатура была малой, нарастала ничтожными долями, за целый день тяжелого труда удавалось выполнить норму на 60-70 процентов, а то и на 51 – за меньшее полагались штрафной паек, то есть триста граммов хлеба на сутки и карцер. Этого нужно было избежать, чтобы не обессилеть, я работал в жарком поту. Дошло до того, что однажды, несмотря на мороз, мне пришлось сбросить бушлат и катать бревна в одной телогрейке. Но в это время на оставленный бушлат упала искра ближнего костра, и он сгорел. Назавтра я не вышел на работу, вследствие чего меня после утренней поверки вызвали к начальнику лагпункта Савватееву. У него ко мне было всего два вопроса:
– Почему не вышли на производство?
– Сгорел бушлат, а в телогрейке при морозе в тридцать градусов работать нельзя, тогда телогрейка тела не греет.
– По какой статье сидите?
– Пятьдесят восьмой.
Он повернулся к охраннику, ждавшему приказаний:
– Трое суток штрафного изолятора без вывода на работу. Уведите.
Так я оказался в ледяном подвале – «шизо», как сокращалось название «штрафной изолятор».Там было негде сесть, негде лечь, можно было только стоять: но я ходил из угла в угол, чтобы согреться. Суточное питание состояло из трехсот граммов хлеба и двух кружек теплой воды. Проведя весь срок на ногах, я через три дня, выпущенный обратно в широкую зону, получил в каптерке ветхий бушлат и снова стал штабелевать лес на складе.
Потом штабелевка сменилась распиловкой бревен. Здесь моим напарником был Варнер Карлович Форстен, в прошлом нарком, которого я знал еще в котласской «пересылке». Мы пилили ствол за стволом, и одновременно я, под руководством Варнера Карловича, продолжал занятия финским языком, начатые на берегах Северной Двины и Вычегды.
Была поздняя весна, когда нас привели на расчистку глухого участка в тайге. Мои ватные брюки не доходили до портянок, на оголенные места ног набросилась мошкара. Я расчесал искусанную кожу, и, так как у меня был авитаминоз, ноги покрылись гнойниками до колен.
120
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
Фельдшер назначил автогемотерапию, помогало это мало. Прибывшая в одном этапе со мной москвичка Роза Львовна Зиглина, ставшая медсестрой, переливая мою кровь из верхних конечностей в нижние, тревожно качала головой: «Не остаться бы вам без ног!»
Но я верил в свое выздоровление: болей-то почти нет, а тело молодое, справится. Только надо... надо, чтобы рядом постоянно был друг, были его участие, свет его. Не от случая к случаю, а постоянно – и чтобы я тоже был ему всегда нужен. Взаимное влечение двух людей зовется простым словом: любовь. Она есть во мне, теперь необходимо поднять ее на новую ступень. Этого поднятия не будет, если я хоть одной частицей почувствую, что стану в тягость своему другу. Разделенная любовь помогает каждому из ее участников жить и творить.
Так 26 мая 1940 года родилось мое письмо Ире Серебряковой с предложением брака.
В конце июля меня отправили в больницу. Моими попутчиками до столицы лагерного отделения – Нижней Поймы – были уголовники, которых вызвали на освобождение по отбытию срока. Три километра от лагпункта до поезда на Пойму они почти бежали, я едва поспевал за ними на забинтованных ногах, конвоир подгонял.
Три больничные недели в августе принесли мне исцеление от фурункулеза. Но, кроме того, в те дни меня нашло очередное письмо Иры. Майское мое признание, пробиваясь через частокол цензуры, еще не успело дойти до нее, от строк веяло ровным дыханием устоявшейся дружбы, не более того. Письмо было написано в июне, Ира, сдав зачеты, собиралась на летний отдых в Белоруссию. Вернется осенью, и тут – откровение в ожидавшем ее сибирском послании. Что дальше? Одно дело – переписываться с товарищем по университету, сочувствовать и даже сердцем переживать его беду, помогать ему, внушая мысль, что о нем помнят. Другое дело – брак, соединение на всю жизнь. Судьба человека, объявленного «врагом народа»... Конечно, все это обвинение – преступный вздор... Но враги этого «врага» наделены огромной властью, «враг» до конца своих дней останется отверженным, общество от него отвернулось навсегда и... его судьба распространится на всех, кто будет с ним связан: жену, детей... Но ведь у каждого– одна жизнь, и он хочет себе счастья... Дорогой, единственный друг, оказавшийся в Сибири, в заключении, должен это понять... Милый, ты, конечно, поймешь, что я не могла решить иначе, и простишь меня...»
Утренний свет
121
И тогда – конец всей этой переписке, всем этим напряженным ожиданиям вестей, страхам, что очередной глоток радости – строки и строки – затеряется где-то на тысячеверстных путях из Ленинграда в Сибирь. Конец! Потому, что все окажется перегоревшим, не о чем станет писать, нечего будет ждать.
Я волновался в ожидании следующего письма Ирины. И чтобы унять волнение, пытался сосредоточиться на том, что меня окружало, что пополняло кладовую моих «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Вот уже два года лежит на больничной койке заключенный азербайджанец Мамедов: что-то решающее у него переломлено, может быть, на допросе– расспрашивать как-то неловко, он страдает. Но его не отпускают на волю, пусть из него уже ничего нельзя выжать, но – «враг народа», значит, пускай будет под стражей. Юноша-поляк тоже два года лишен счастливой возможности исправляться через лагерный труд: у него к спине привязана доска для выправления больного позвоночника, спать он может, лишь лежа навзничь. Но и за ним нужен глаз да глаз, а то, неровен час, еще сбежит на Украину, где его взяли, или, хуже того, в Польшу. А вот сидит на койке дряхлый литовец Можутис. У него водянка, медсестра вставляет в его раздувшийся живот резиновую трубку, подставляет литровую банку, туда из живота стекает вода. Наполнив банку, сестра закрывает краник на трубке, выливает воду в ведро, вновь оставляет банку, открывает краник, и так много раз. И старика Можутиса охраняют, оберегают от побега, а соседу его по койке, еще вчера общительному венгру, это уже не нужно: он умер сегодня ночью, на койке чернеет обнаженный матрац.
Из больницы меня переправили на Комендантский лагпункт, воздвигнутый у края поселка Нижняя Пойма. Здесь я попал в бригаду Дикарева, работавшую на строительстве железнодорожной ветки. Мы готовили полотно, таскали на себе лиственничные и сосновые шпалы, укладывали их, засыпали «гнезда» между ними балластом; переносили рельсы, настилали и рехтовали их. Строили вагонные весы; запомнился день 2 ноября 1940 года, когда сильный мороз мешал перепиливать мелкими зубчиками пилы нужный рельс, но пришлось это делать несколько часов кряду. И все-таки вольный мастер Алексей Алексеевич Подшивалов был первым из встретившихся мне в лагерях людей его положения, кто относился к заключенным по-человечески, то с ободряющей улыбкой, то с доброй русской шуткой. Униженные, устав от зла, остро ценят чужую теплоту, обращенную к ним. После Алексея
122
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
Алексеевича я не раз ощущал внутреннее сочувствие вольных граждан к арестантам, но тем дороже, что он был первым из них на моем пути.
Русский характер незлобив, незлопамятен, отходчив. Отсюда родилась поговорка «кто старое помянет, тому глаз вон». Естественно же возникшая ответная – «а кто забудет, тому оба вон» – не прижилась. Но лишь покорность, которую выработали в россиянах века жизни под гнетом восточных рабовладельцев, отечественных князей, вельмож, крепостников привела к тому, что народ огромной России позволил коммунистическим тюремщикам поступать с ним как со скотом.
В январе 1941 года все пути были построены, и нас перебросили на дальний шпалозавод, где мы стали работать в ночную смену. Стояли жестокие морозы – помнятся слова «сорок шесть градусов», прозвучавшие в разговоре двух конвоиров. Тайга, обступившая шпальный стан, казалось, трещала и содрогалась от стужи. Я и мой напарник, средних лет китаец Ван Чжи-ян, распиливали бревна шпальника длиной пять с половиной метров, готовя болванки («тюльки») для циркульной пилы. Работа происходила во дворе, мороз проникал во все щели одежды, движение рук при распиловке – в лагере это движение называли «тебе-себе-начальнику» – чуть согревало. С Ваном я хорошо познакомился, потом узнал и его земляка Ван Чжися, тоже «вкалывавшего» в нашей бригаде. Первый Ван, уступая моим просьбам, помог расширить мой запас китайских слов, начавший образовываться еще в ленинградских «Крестах». Общение с Ван Чжи-яном оказалось настолько основательным, что даже спустя три пестрых лагерных года, мы уже давно ничего не зная друг о друге, встретились однажды и в последний раз, как старые добрые приятели.
Медленно подступала весна, когда мне принесли письмо от Иры, долгожданное, – а может быть, лучше не дошел бы до меня этот взрезанный цензурой конверт?.. В письме было согласие. Ирина принимала на себя тяжкий труд быть невестой гонимого, навсегда внесенного в черные списки государства.
Ира, как все-таки мало я тебя знал! Предался каким-то сомнениям, писал за тебя строки вежливого, оправдываемого отказа... Как будто ты, чистая, способна ради себя предать любовь! Для тебя это невозможно, прости меня.
Раскаты грома
123
РАСКАТЫ ГРОМА
Весной 1941 года я при совершенно неожиданных обстоятельствах превратился из рабочего шпалозавода в ... машинистку штаба Нижне-Пойменского отделения лагеря. Арестантку, работавшую на пишущей машинке, угнали на этап, других профессионалов не оказалось, а тут я и вспомнил в случайном разговоре, что когда-то имел некое отношение к машинописанию. Действительно, в студенческие годы мне доводилось перепечатывать свои первые статьи самому – сперва в деканате, потом в Институте востоковедения, и теперь это умение пригодилось в моем лагерном «трудоустройстве», причем на довольно длительное время.
Пишущая машинка «Смит-Премьер» с раздельными клавишами для прописных и строчных букв (84 знака) стояла в угловой комнатке штабного барака, построенного на огороженном участке зоны Комендантского лагпункта. В бараке за многочисленными столами работали заключенные бухгалтеры, счетоводы, статистики, экономисты, плановики. Имена Сергея Петровича Колчурина, ФедогаГпвановича Лазару, Бориса Филипповича Стибунова, Леонида Ивановича Полубоярова, Сергея Николаевича Стефанского, Ивана Филипповича Алексеенко, Николая Васильевича Силуянова, Анатолия Николаевича Пономарева и других «штабников» до сих пор живы в моей памяти, ибо с каждым из них я был связан по своей новой работе. Кроме этих сотрудников Главной бухгалтерии, для которых приходилось печатать всякие сводки, Сергей Викторович Синельников из Плановой части приносил в работу огромные «простыни», состоявшие из сплошных цифр – «технико-экономические показатели деятельности Нижне-Пойменского отделения Краслага НКВД». Широким потоком шли бумаги из Лесо-сбыта, ЧОС (Части общего снабжения), Гужчасти, остальных подразделений штаба. Рядом с машинописным столом помещался стол юрисконсульта, откуда поступали к печатанию многочисленные приказы о начетах за недостачи на товарных складах. Словом, дела было много, никто не хотел ждать, успевай поворачиваться. Конечно, при этом страдало мое и без того не блестящее зрение – но деваться было некуда. После изнурительного и беспросветного труда то в пору жестоких морозов, то среди туч мошкары, при вечном недоедании, внезапно свалившееся на меня с лагерных небес занятие, было счастьем.
К этому относительному счастью добавлялось безусловное: до конца пятилетнего срока моего заточения оставалось менее двух лет.
124
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
Через год счет пойдет на месяцы! 11 февраля 1943 года я попрощаюсь с оставшимися товарищами, уйду на станцию и... «пожалуйста, билет до Ленинграда». А там: «Ира... Ира, здравствуй!» Мы поедем в Москву – к Вере Моисеевне, в Азербайджан – к моему брату. И там я скажу: «Здравствуйте, это я стою перед вами, перед тобой, брат. А это Ира, которая бесстрашно переписывалась с "врагом народа", своей любовью помогла ему выстоять. Мы теперь вместе навек. Мои путешествия по владениям ГУЛАГа были испытанием не только для меня, но и для нее. Как говорится, полюби нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит...»
И еще счастье – я смог сберечь мозг. Он не распался от страха перед палачами, не огрубел в борьбе за существование, не обмяк от усталости. Он творит.
Вот кругом высятся серые заборы с колючей проволокой и всматриваются в тебя часовые с угрюмых вышек по углам, вот среди бараков то и дело мелькают плоские лица, злые глаза стражей – а все-таки как прекрасна жизнь!
Воскресным вечером 22 июня заключенные «штабники» сидели в своем бараке за большим общим столом: одни беседовали, другие, с досадой оглядываясь на шум, пытались читать; на краю стола двое играли в шахматы, а за ними стояла толпа болельщиков, напряженно следивших за ходом сражения. Слышались голоса: «Рокировку-то рано делать, он ведь может...» – «Помолчи!» – «Эх, слон тут ни при чем, вот если сдвоить коней...» – «Понимаешь ты!» – «Да уймитесь вы, не мешайте играть!» На другом конце стола: «Хочу писать заявление о пересмотре дела. Под лежачий камень, знаешь ли, вода не течет...» – «Думаешь, поможет? Я вот...» Вдруг из-за стола порывисто вскочил Гольдфайн, работавший, несмотря на свое арестанство, начальником ТНБ (технико-нормировочного бюро). Он замахал руками, призывая к тишине, и указал на черную тарелку радио, прикрепленную к столбу около стола. Все стихли и прислушались. Внятно и оглушающе, словно гром, прозвучало сообщение: германские войска перешли советскую границу, началась война.
Люди – везде люди. Только что говорившие о будничном, привычном, часто мимолетном, они внезапно онемели, словно пораженные раскатом нежданного грома. Так, вероятно, было в миг первого сообщения о войне и на воле.
Не знаю, когда возник в нашем бараке возбужденный разговор о возвещенном событии, потому что я сразу по окончании радиопереда
Раскаты грома
125
чи вышел во двор и стал взволнованно ходить по деревянным дорожкам зоны.
Что теперь будет?
Невозможно, чтобы нашу огромную страну победили – это не укладывается в сознании. Но ее сопротивляемость осложнена уничтожением образованных военноначальников, а с другой стороны – созданием громадной армии «врагов народа», которую надо по-прежнему кормить и сторожить, которой приходится бояться – вместо того, чтобы опираться в тяжкий час на эту тьму невиновных людей.
Может быть, нас уничтожат? Произвол, жертвами которого мы стали, допускает все. Но кто же тогда будет работать в тылу? Одни женщины? И все-таки– должна же быть справедливость, ведь мы невиновны.
Мысли, мысли... Но уже отбой, надо в барак. Никто не спит. Хорошо, что охрана не проверяет отхода ко сну, резкий окрик слишком болезнен сегодня для нервов.
Потекли дни новой, военной жизни. Каждый продолжал заниматься своими служебными делами, по-прежнему от стола к столу перелетали слова: «контокоррентный счет», «красное сальдо», «мемориальный ордер», но воздух был пронизан тревогой. По утрам вольнонаемные работники штаба сходились в угловой нашей комнатушке: здесь мой сосед по рабочему месту юрисконсульт Федор Михайлович Лохмотов, когда-то красногвардеец в Царицине, теперь «враг народа» с восьмилетним сроком, показывал на карте передвижение советских и вражеских армий – сведения об этом поставляли сводки Совинформ-бюро. Когда, выслушав его очередной рассказ о положении на фронтах, вольнонаемные уходили, Федор Михайлович хватался руками за свою седую голову и сокрушенно повторял: «Что это! Что это! Как можно допускать такое отступление! Смотри, где уже немцы, это ужас, что же мы-то!» Если не все, то многие, большинство, были угнетены и ждали перемен к лучшему.
От Иры пришло письмо уже с печаткой военной цензуры, но еще довоенное, писанное всего за несколько дней до грома. Такой безмятежностью веяло от строк, полных покоя и надежд, предвкушения летнего отдыха! Она радовалась и цветам, и музыке, лившейся из чьего-то окна, раскрытого навстречу лету, ее восхищали изваяния львов на мосту и задумчивый Крюков канал. И она ждала меня, отсчитывая оставшиеся месяцы тюремного срока.
126
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
Осенью я получил еще одно Ирино письмо. Учась уже на пятом, последнем курсе, она одновременно работала медсестрой в госпитале для раненых бойцов. Трудно ей приходилось, но духом не падала: «Беру с тебя пример, твоя-то жизнь потруднее моей, и давно, а ты все идешь, не садишься отдыхать на придорожный камень... Да, похудела, побледнела, круги под глазами, что поделаешь– воюем... Но все беды пройдут, все будет хорошо у тебя и у меня. У нас».
Время шло, война продолжалась, делаясь все более ожесточенной, все гуще усеивая свой путь жертвами. «Шемаха, где живет брат, расположена далеко от места боев. Вера Моисеевна эвакуирована из Москвы в Среднюю Азию. Но Ира ходит под вражеским огнем в осажденном Ленинграде. Вот где наибольшая опасность». Об этом думалось днями и ночами. Я ждал вестей с нараставшей тревогой. «Понимаю, хорошо понимаю, как сложно сейчас отправить письмо в далекую Сибирь, как нелегко прорваться посланию с берегов Невы на большую нашу землю». Но верилось в чудо, я ждал новых и новых писем. Однако их больше не было. Когда прошли все возможные сроки, я отправил запросы в университет, в госпиталь, на дом. Ответом было глухое молчание.
1 и 2 июня 1942 года мне принесли, одно за другим, два письма от Ольги Александровны Серебряковой. Она сообщила, что ее дочь Ирина погибла при воздушном обстреле госпиталя, где она работала. Это произошло 28 ноября 1941 года в два часа дня.
Все померкло передо мной, мысли смешались. Впервые стала ощущаться усталость от постоянного внутреннего напряжения, ушла способность сосредоточенно обдумывать что-либо. Я начал курить – показалось, что этим притупляется нервное возбуждение. Приходилось горестно радоваться тому, что теперь, в условиях военного времени, к дневной работе заключенным «штабникам» добавили вечернюю: перепечатка бесчисленных деловых бумаг отвлекала от мучительных дум и воспоминаний. Когда нам изредка давали выходной день, меня уже не тянуло ходить, задумавшись, по дорожкам зоны, теперь было страшно оставаться наедине с собой. Во время неожиданно предоставленного отдыха, нежеланного, я часами неподвижно лежал в своем углу на нарах, рассеянно слушая барачный шум и тупо глядя в одну точку. Год назад в этом углу спал бухгалтер Калабухов, потом он умер, сейчас на его спальном ложе простерся полутруп – некогда живший я. Так, наверное, чувствовал себя Аррани, несколько веков назад:
Раскаты грома
127
Вы, разные реки, текущие в мире!
Та уже и мельче, та глубже и шире,
Одна широко разлилась по равнине,
Другая несмело ползет по пустыне,
Виясь в раскаленных прибрежных песках,
А эта – в высоких крутых берегах.
Не льните к бессмертию: в вечном просторе —
Да! – всех упокоит вас Мертвое Море.
Одна – в ледяной ли безбрежной пустыне, Под звездами ночи полярной, доныне Средь вечных снегов, от порога к порогу Упорно себе пробивая дорогу, В песках ли волна ее льется живая, Веселый оазис века омывая, Вольется в застывшее, в сером уборе, Всегда неподвижное Мертвое Море.
Другая меж скал и зеленой прохлады Кипящее кружево мчит – водопады. В серебряной пене прибрежные розы, На них семицветные брызги, как слезы. Ей горный простор и любезен, и тесен, И сколько тут грома, и смеха, и песен! Но ярость, и смех, и движение вскоре Убьет равнодушное Мертвое Море.
Рекой протекает судьба человека
По разным просторам короткого века.
В ней радость, мешаясь с тревогой и грустью,
Плывет от истоков – к предвечному устью.
Все судьбы людей – пестротканные реки
Смиренье и страсти сливают навеки
В гасящее счастье гасящее горе
Безбрежное, вечное Мертвое Море.
Одним суждены золотые чертоги.
Другим – власяница, а третьим – остроги,
И каждый себя потешает, считая,
Что он – у преддверья бессмертного рая.
И сколько возни, суеты и разлада
У мнимых ворот первозданного сада!
Их всех примиряет в бессмысленном споре
Живых усыпальница – Мертвое Море.
128
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
А жизнь в лагере шла своим чередом.
Однажды нас выстроили на «главной улице» Комендантского лагпункта – широкой деревянной дороге. И в этот миг из подземного карцера вывели трех истощенных, измученных людей, еле удерживавшихся, чтобы не упасть от слабости. Они дрожали не то от осенней стужи, не то вспоминая, как их били, и опасаясь новых расправ. Начальник лагпункта Козырев, оглядев собравшихся, обратился к нам с речью:
– Лагерники! Перед вами три бандита, которые не достойны ходить по советской земле. Они покрыли себя вечным позором!
Оказалось, что все просто: эти трое пытались бежать. Я по рассказам знал, что бывает в таких случаях: окрестных деревень приходится бояться – там сразу выдают беглецов; а по тайге уже идет погоня с овчарками, и вот где-то обессилевший от голода и страха узник становится ее добычей. – «Ложись! – велит охранник. – А то спущу собаку, разорвет». Потом подходит к несчастному, ударяет ногой в бок: «встать!» Защелкнулись наручники, пойманного привозят на старое место, бросают в карцер. Потом – новый срок и особо тяжелые работы.
И это чьи-то дети. Матери, вы слышите их боль?
А вот... Недавно привезли на лагпункт по спецнаряду бухгалтера. Тихий, неразговорчивый, только и узнали, что имеет восьмилетний срок и скоро должен освобождаться. Потом он вдруг исчез. Заметили, что дверь одного из отхожих мест при штабе постоянно закрыта. Взломали, увидели: приезжий бухгалтер стоит на коленях, он затянул на себе петлю. Охранники, вытаскивая окоченевший труп, ожесточенно пинали его ногами и злобно ругались.
Тоже ведь был чьим-то сыном: ребенок, подросток, юноша, учившийся, любивший. И все мужало, все зрело в нем для этой петли.
Лагерная жизнь шла своим заведенным ходом: переваливалась из года в год, перешагивала через упавших, забитых, умерших.
«Ума холодные наблюдения» и «сердца горестные заметы» понемногу приподнимали сникшую мою мысль.
...А кто этот рослый, чуть одутловатый человек с тревожными глазами на бледном лице? Быть может, его глазам никак не привыкнуть к ежедневному созерцанию клетки, в которой мы живем, потому и тревожны? Может быть, и уму все еще не смириться с арестантским положением, поэтому и лежит на лице несмываемая печать глухой тоски. Познакомились, оказалось – Урицкий. Да, племянник того
Раскаты грома
129
самого Урицкого, председателя Петроградской ЧК в первый год революции. «Дядю убил студент-эсер Канегиссер», – сказал он мне. А кто сегодня убивает племянника?
Думаю и надеюсь, Урицкий-младший, хоть вы и связаны кровью с «часовым революции», как его называли, с человеком, имя которого долго носила главная площадь Ленинграда – надеюсь и верю, что вы не считаете себя единственным невиновным в окружении злокозненных «врагов народа»? А ведь есть в тюрьмах и лагерях такие лица. Вот и не хочешь, а определенно кажется: фельдшер Орест Николаевич Конокотин, вечно встречающий обратившихся к нему заключенных замкнуто-брезгливым выражением лица и речью сквозь зубы, уж, наверное, говорит про себя: «Я-то сижу ни за что, а вы – не уверен, все-таки у нас, как правило, людей зря не берут». А мы считаем, что он – жертва, как и все, пусть же когда-то и он выйдет на волю вместе с нами.
...И вдруг все мысли рушатся, я закрываю рукой глаза. Ира! Ира... Почему, ну почему же эти окровавленные куски тела, разорванного осколком бомбы – ты, а не я, проживший до того страшного дня на шесть лет больше тебя? Где мудрость природы, отнимавшей жизнь у только что начавшей жить? Вот она – слепая безумная пляска природы, а не мудрость. И вновь приходит на память Аррани:
Я хожу и твержу, умерла, умерла, умерла.
Ибо розу-тебя бестелесная тень сорвала
И. рассвета роса не умчалась к полдневному солнцу,
А с твоих лепестков, как слезинка с ресницы, стекла.
Ты ушла, растворилась, исчезла, растаяла вдруг. Растерявшийся – где ты? – с тоской озираюсь вокруг. И не слышу тебя я в смелеющих песнях рассвета И не вижу в зрачках у твоих беззаботных подруг.
Безмятежность не сходит с холодного воска лица, Потому, что любви ты не знала еще до конца И уснула влюбленной, не зная, что в мире живущих Умирает любовь, потому что стареют сердца.
Истекал 1942 год. В начале следующего меня должны были освободить из заключения с окончанием срока. Январь 1943. Остался месяц. Дни недели... Неделя... Четыре дня, три... Настал день 11 февраля, которого я ждал, шагая по камерам, скитаясь по этапам, работая на
130
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
пристанях и в тайге, отстукивая на машинке лагерные бумаги. День, которого ждала и не дождалась Ира, день, годы до которого отсчитывали другие мои близкие. Меня, между тем, не вызывали. В два часа дня я пошел справиться в УРБ (учетно-распределительное бюро). Полусонный от «блатной» работы арестант-статистик Чижов лениво перелистывал формуляры личных дел, процедил: «Да, срок истек, запросим Управление». 23 февраля вызвали и предложили расписаться под извещением. В нем стояло: «Объявите заключенному (мои фамилия, инициалы), что он оставлен под стражей до конца войны».
Ладно. Пусть это уже третий – после известия о войне и гибели Иры – третий раскат грома, пусть я почти сломлен. Но «почти» это ведь не «конец». Мозг еще жив. И в особенно трудные часы жизни он требует работы, рвется к ней. Действие рождает противодействие, чем больше одно, тем сильнее другое, так должно быть. Смотри, слепоглухонемая Елена Келлер овладела тремя европейскими языками – помнишь, ты мальчиком читал об этом в старом журнале «Нива»? Это – человек. А пасть, превратиться в ничтожество куда как легко. Тем более что в самом человеколюбивом государстве для этого созданы сейчас все условия.
1943 год прошел в напряженной работе. Я восстановил по памяти все свои лингвистические записи – те, которые украли у меня на раскурку уголовники на Беломорканале, и те, которые я спас от обыска в Котласе, но не мог спасти от следующего тления. И появились новые стихи и переводы. Но самым важным в то время было то, что начали собираться, все плотнее прилегая одна к другой, мысли вокруг будущей кандидатской диссертации.
В начале 1944 года война все еще длилась, но меня вызвали на освобождение. 20 января дежурный охранник открыл передо мной проходную, подозрительно оглядел с головы до ног. Прочел и перечитал справку об освобождении. Потом открыл вторую дверь – на улицу, и я вышел, крепко держа сундучок, подаренный мне товарищами в зоне. На дне сундучка лежали тетради с записями.
Пешком по шпалам
131
ПЕШКОМ ПО ШПАЛАМ
Справку об освобождении из лагеря надо было обменять на паспорт– милиция находилась в Ингаше, за пятьдесят километров от Поймы. 27 января 1944 года, под вечер, я пришел на местную железнодорожную станцию Решеты. Зал ожидания был наполнен разноголосым гулом и табачным дымом.
Ко мне подошел низкорослый человечек в новых валенках, добротном полушубке, теплой шапке-ушанке.
– Дозвольте прикурить.
Затянулся, выпустил густую дымную струю.
– Морозы-то какие стоят, а? Наверно, градусов далеко за тридцать будет, как считаете?
– Может быть, и за тридцать, – ответил я. – В общем, не жарко.
– Да-а... – протянул человечек. – А не знаете, скоро придет поезд?
– Вроде, должен быть в семь часов, а там кто его знает. Говорят, иногда опаздывает.
– Да, бывают заносы в пути... А далеко едете?
– Близко, в Ингаш.
– Ингаш – да, это рядом. Что, родственники там?
– Нет, по делу.
– Да-а, делов-то всем хватает: у одного, глядишь, то, у другого – это. А я вот еду к теще погостить, давно собирался, да все некогда, недосуг.
Мне стало скучно и тоскливо. В непрошеном собеседнике томила бившая в глаза сытая пустота, и в то же время что-то настораживало – не то «влезание в душу» при назойливых попытках завязать разговор, не то колючий взгляд бегающих глаз. Я уже хотел отойти в сторону, как вдруг с лица человечка сбежало беспечное выражение, и его пропитый голос отрывисто произнес:








