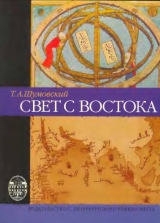
Текст книги "Свет с Востока"
Автор книги: Теодор Шумовский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Ваши документы!
Привычным жестом был отогнут лацкан полушубка и сразу возвращен в прежнее положение. Из тайника матово мелькнула какая-то бляшка, дававшая ее владельцу право задержать среди вольных людей любого показавшегося подозрительным: вдруг– беглец из лагеря? Вот ради чего передо мной разыгрывалась комедия с невинными вопросами. Вздрогнув, будто наступил на змею, я достал и с отвращением протянул сыщику справку об освобождении, подписанную его хо
132
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
зяевами. Он тупо смотрел в бумагу, медленно шевеля губами, потом сложил, вернул ее мне и пошел прочь. Я поглядел ему вслед с чувством омерзения. Люди по-разному добывают себе хлеб.
Подошел поезд, все вагоны были закрыты. Я вскочил на подножку и, отворачиваясь от ледяного ветра, боясь хоть на миг отпустить поручень, промчался до Ингаша. Назавтра вернулся в Пойму с паспортом. Теперь-то я уже совсем вольный гражданин.
Жизнь внесла уточнение: такой вольный гражданин, как я, не имеет права вернуться домой, на запад страны: он должен (должен!) остаться на работе в лагере, но теперь это зовется «работой по вольному найму», а для того, чтобы это осуществилось и было незыблемо, он обязан сдать паспорт в отдел кадров отделения лагеря.
Все это было предписано спущенной в низы директивой ГУЛАГа. Поэтому ее жертвы стали называться «директивниками». Таковых насчитывалось довольно много; теперь, отбыв ни за что шесть, вместо назначенных пяти, лет заключения, я пополнил их число.
– Можете остаться у нас «машинисткой», – сказал мне вольнонаемный главный бухгалтер Кузьма Иванович Дудин. Он хорошо относился к заключенным, в голосе его звучала озабоченность по поводу моего трудоустройства. – Работали вы как надо, штаб весь обслуживали. Но у «машинистки» зарплата дохленькая, жить на нее трудно, хоть и несемейный вы...
Сдавая паспорт в отдел кадров за зоной, я столкнулся в коридоре с Сергеем Викторовичем Синельниковым, который когда-то приносил мне печатать «простыни» с «технико-экономическими показателями» плановой части штаба. Сейчас, вдруг освобожденный «по чистой», то есть в связи с прекращением дела, он был назначен начальником Шестого лагпункта – того самого, где я содержался в 1940 году. Синельников предложил мне переехать на Шестой и занять пост заведующего пекарней.
– Сейчас война, продуктов не хватает, и много рук – жадных и бесчестных – тянется к хлебу, – говорил он убежденно. – На пекарне нужен честный человек.
– Сергей Викторович, не по мне это дело. Меня там красивенько обворуют. Из-под замка вытащат муку или хлеб. Должен же я временами отлучаться, а ночью спать, наконец.
– Тогда, может быть, пойдете ко мне секретарем?
На том и поладили. В доме солдатки я ночевал на скамейке у кухонного окна, из которого постоянно дуло; может быть, вдали от сто
Пешком по шпалам
133
лицы лагерного отделения легче найти сносное жилье? С другой стороны, секретарские доходы хоть и малы, но, вероятно, на них можно будет завести огород с картошкой да морковью? 13 февраля я перебрался на Шестой лагпункт.
Потекла своеобразная жизнь. «Гражданин секретарь», как меня теперь называли заключенные, следил за доставкой писем этим работягам, напряженно ждавшим очередных весточек из дому; сопоставлял списки вольнонаемных дежурных на лагерной кухне: учитывал количество освобожденных по болезни на каждый день; переписывал приказы начальника лагпункта Синельникова – не на бумагу, которой из-за войны не хватало, а на обструганные доски, постепенно образовавшие «деревянный архив». Заведующий овощехранилищем Михаил Николаевич Концевич приютил меня в своем доме. Того, что выдавали, не хватало, и по выходным дням я то возился на своем огороде, то ездил в Пойму докупать кое-что для еды на имевшемся там рынке. Среди покупок бывало твердое молоко. Эту жидкость хозяйки, державшие коров, ставили на мороз, молоко застывало, потом его выбивали из мисок, и на прилавках появлялись бело-желтые кружочки. Их покупали, на зимней сибирской улице они не таяли, а уж дома-то не забудь положить кружочки в посуду.
Бывая в Пойме, я встречался с Арпеник Джерпетян, которую все ее знакомые звали просто «Арфик». Ее освободили незадолго до меня из того же Комендантского лагпункта, она тоже была «директивни-ком». Когда-то учившаяся в московском Литературном институте, Арфик теперь была банщицей. Но прошлого не перечеркивала. Я приходил в ее крохотную комнатку при поселковой бане, мы вели долгие разговоры о поэзии и прозе. Однажды я даже начал переводить стихами ее написанную по-армянски поэму, которую она посвятила близившемуся восьмисотлетию Москвы. Поговорив, мы угощались ломтиками холодного вареного картофеля с луком и подсолнечным маслом– Арфик почему-то называла это кушанье «английским блюдом».
Как-то раз она сказала:
– Хочу в будущий выходной съездить в Тинскую – двадцать километров от Поймы в сторону Ингаша. Надо там, на рынке загнать носки теплые, новые, из Москвы полученные. На крупу или муку или что-нибудь из продуктов.
Когда в следующий раз я к ней зашел, то не увидел ни крупы, ни муки. Вместо них на столике, за которым Арфик и ела, и писала, лежал
134
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
толстый том Шекспира из полного дореволюционного издания. Здесь были «Король Лир», «Макбет», «Отелло» и другие сокровища.
– Вот, – с гордостью сказала молодая женщина, – вот что на носки выменяла, приобрела прямо на рынке. Без крупы проживу, без Шекспира – нет. Будем вместе читать.
И это когда мы, «директивники», вели полуголодную жизнь! К моему горлу подступил комок.
– Здорово, – только и смог я произнести. – Будем вместе читать.
Начальник лагпункта Синельников распорядился, по согласованию с узником-врачом Кочетковым, ежедневно варить и давать заключенным хвойную настойку – все-таки в ней присутствуют какие-то витамины. У входа в столовую появился бачок с настойкой, а возле него – седобородый человек, разливавший напиток в подставляемые кружки.
Это был содержащийся на Шестом лагпункте Сидамонидзе, местоблюститель патриарха всея Грузии.
Как только мне об этом сказали, я пригласил Сидамонидзе в свой секретарский «кабинет» – комнатку рядом с начальничьей – и попросил его поучить меня грузинскому языку. Я до сих пор помню сверкающие живым блеском глаза на усталом старческом лице и доныне храню грубые листочки оберточной бумаги с грузинскими словами, каллиграфически выписанными рукой местоблюстителя патриарха. Как и при изучении других языков, меня, прежде всего, занимали обозначения простейших общечеловеческих понятий: «земля», «вода», «небо», «отец», «мать», «один», «два» и так далее. Сравнение разноязычных слов для одних и тех же явлений и предметов давало обильную пищу для моих размышлений о происхождении языков и об их последующих взаимоотношениях.
Занятия грузинским, проводившиеся по вечерам, после рабочего дня, заставляли меня поздно уходить на ночлег за зону. Надзиратели Груздев и Шульга смотрели на это косо – вольнонаемным, даже в моем бесправном положении, не положено было слишком долго задерживаться среди заключенных. Как-то они даже «застукали» меня за тем, что, решив не проходить лишний раз мимо подозрительных вахтеров-охранников, я преспокойно улегся ночевать на скамейке, стоявшей в моем «кабинете». Это было прямым нарушением лагерного распорядка, стражи подали донесение старшему надзирателю – седому сержанту Окладникову, называвшему себя «начальником режима».
Пешком по шпалам
135
Но тому в это время было не до меня: показалось ему, что один арестант не так на него посмотрел, как должно, и он принес мне свой рапорт на имя Синельникова о том, что з/к (заключенный) такой-то хочет его, Окладникова, «уничтожить». Мы с Сергеем Викторовичем посмеялись – и над страхами бравого «начальника режима», и над его правописанием. А Окладников, поскольку его никто не стал «уничтожать», приободрился и начал было выговаривать мне за ночлег в зоне. Но я ответил: «Товарищ сержант! Мне действительно пришлось допоздна задержаться в зоне, потому что никак было не оторваться от страниц гениального труда товарища Сталина «Краткий курс». Потом прилег на пару минут, чтобы, передохнув, дальше читать. Вы-то, конечно, уже знакомы с этим великим произведением!» Окладникова моя горячая речь так сбила с толку, что он чистосердечно проговорил: «Я еще не читал...» – «Товарищ сержант, как же так? Вся страна читала, а вы нет! Странно, очень странно!» Бедный старик побледнел и быстро пошел прочь; мне стало его жаль. А «Краткий курс» у меня и в самом деле был, я попросил его у командира взвода охраны Попова, чтобы познакомиться с книгой, о которой говорилось денно и нощно. Кое-что прочитать в ней я успел, но судьба этого экземпляра «гениального труда» оказалась печальной: уголовники выкрали ее из моего служебного стола на раскурку. Такая же участь постигла и учебник терапии, присланный мне матерью Иры. Вверху титульного листа стояло: «С приветом из Заполярья. О. Серебрякова» – родители Иры жили в Мурманске. Эта книга стоит перед моими глазами до сих пор – так же, как присланные Ирой номера журнала «Ленинград» со стихами Леконта де Лилля и Артюра Рембо.
...Лето 1944 года кончалось. Однажды, зайдя в санчасть, я увидел в углу на скамейке тело, накрытое простыней. Мне сказали: у юноши-армянина завтра кончался срок заключения, а сегодня он решил пойти на лесоповал в последний раз, попрощаться с тайгой. От падавшего дерева отвалился небольшой сук, ударил юношу в висок, смерть наступила мгновенно.
Позже, зимой, предстало передо мной как бы продолжение скорбного зрелища. Был ясный морозный день, когда воздух как будто звенит от стужи. У санчасти, во дворе зоны, понуро стояла запряженная в повозку лошадь. На повозке помещался наспех сколоченный ящик, в нем лежал обнаженный труп, вынесенный из стационара. Возница-заключенный вышел из санчасти с дощечкой, на которой значились «установочные данные» умершего: номер личного дела,
136
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
фамилия, инициалы, статья уголовного кодекса, по которой он был осужден, срок заключения, начало и конец этого срока. Больше ничего Возница приподнял крышку ящика, бросил дощечку на лицо покойнику. Она звонко стукнулась об окаменевший нос и провалилась куда-то вглубь. Живой человек тронул вожжи, лошадь поплелась, увозя мертвого человека к проходной. Через одиннадцать лет, уже в тайшетском заключении, я услышал: за проходной охранник молотком разбивает череп мертвецу – так надежнее, потому что вдруг заключенный притворился мертвым, а там, в лесу, куда его отвезут, выскочит из гроба и давай бог ноги! Враги народа – они ушлые, на все горазды.
Синельникова «за мягкотелость» сняли с должности начальника лагпункта еще в апреле. Конечно, инженер. Может, еще и непонятные книжки читает, какой из него начальник лагеря? Прислали хмурого и жесткого Василия Алексеевича Иванова. Этот меня невзлюбил, до поры до времени терпел, потом, осенью, отставил от секретарства.
Пришлось искать новую работу. Как раз понадобился предстви-тель от Нижне-Пойменского отделения на инвентаризации лесных складов нового подразделения лагеря– в Тунгуске. Меня послали туда. Тунгусское подразделение, недавно основанное среди еще более глухой тайги, чем старые «лагточки», располагалось километрах в двадцати пяти за Шестым лагпунктом, где я жил. Местный поезд ходил редко, я отправился по шпалам пешком.
Тайга прекрасна. Кто однажды ее увидел, тот не забудет стройных и сильных деревьев, прозрачных родников и чистого, наполненного хвойным запахом воздуха. Но жизнь тайги отравлена проклятием рабского труда и скорбью, витающей над лесными могилами загнанных узников. Тысячи подневольных бригад, сотни тысяч безвестных могил.
Если бы тайгу не отдали тюремщикам, она могла бы стать земным раем.
...Ты помнишь? В закате зимнем Снегов золотое море, К лесам и вершинам синим Уносится лыжный след, Я мчусь по нему. Навстречу Вечерние мчатся зори, И ветра мне сладки речи, Как сладок любовный бред.
Пешком по шпалам
137
И вдруг я увидел неясность. Стремительность в каждом нерве, В ресницах – небес безбрежность И льдинок солнца хрусталь. Я тихо промолвил: «Пайва!» И ты отвечала: «Тере!» И судеб двойная лайка Помчала нас вместе в даль.
Как хочется, чтобы все на земле было совершенным!
Я быстро шел по шпалам, оглядывая бежавший назад бесконечный лес. Кругом было пустынно и тихо, в чутком покое серого осеннего дня, наполненного неподвижным светом, стук шагов отдавался резко и остро.
– Стой!
Что такое? А, это я прохожу мимо какого-то лагпункта и меня окликает часовой с охранной вышки.
– В чем дело?
Я ведь уже «вольный», значит, могу и так разговаривать с охраной – недовольно, возмущенно.
– Кто такой?
– Вольнонаемный!
– Покажи документ!
Опять документ! Я вспоминаю того плюгавого на станции. Достаю удостоверение лаг-работника, где уже стоит не «з/к» – заключенный, а «тов.», иду к вышке.
– Не подходи! – вновь раздается голос. – Положь под камень, сам отойди в сторону!
– Черт с тобой...
Я выполняю приказание. Часовой опасливо подходит, берет удостоверение, одним глазом читает, другим следит за мной. Потом кладет спасительную мою бумагу под камень и возвращается на свою вышку, оглядываясь: не собираюсь ли я на него наброситься? Удостоверение-то да, конечно, а вдруг...
Я стараюсь быстрее уйти от бдительного служаки-охранника, от забора, который он сторожит. Тайга, снова простая тайга без людей, тихая и бесстрастная, смотрит на меня, я ищу успокоения в ее тишине и бесстрастности.
Но вдруг новый оклик:
– Шу-му! Шу-му!
138
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
Это уже теплый голос. «Шу-му» – так звучала моя фамилия в устах китайца Ван Чжияна, давнего собрата по несчастью. Вот он сам стоит у небольшого придорожного домика, приветливо машет рукой.
– Шу-му, ходи сюда, ходи сюда! Подхожу, кладу руки ему на плечи.
– Ни хао! Здравствуй! Ван суй! Десять тысяч лет жизни тебе! Он смеется, отвечает по-китайски, тащит меня в домик. Сидим, вспоминаем Комендантский лагпункт, железнодорожные
свои работы, свой шпалозавод. А что теперь? Ван, отбыв срок, работает путевым обходчиком на этой крохотной таежной станции, где мы сейчас обретаемся. А я, освободившись, вот, иду в какую-то дальнюю Тунгуску считать на складах деловой лес. Оба все еще ходим по лагерным дорогам, а что будет завтра? Надо надеяться на лучшее, а худого и так хватило, Ван угостил меня молочным супом с картофелем. Потом покурили, я встал.
– Прощай, Ван! Мне надо успеть дотемна в незнакомое место.
– Прощай, Шу-му...
Я пошел дальше. Так мы расстались навек.
Имеющихся тысяч лагерей – им мало. Тунгуска и Сосновка – новые дети, свежие отростки раскидистого древа ГУЛАГа. Где-то рядом были «трудармейцы» – население бывшей республики Немцев Поволжья со столицей в городе Энгельс. «Т/а» – трудармейцы представляли собой нечто среднее между «в/н» – вольнонаемными и «з/к» – заключенными: у них действовали партийная и профсоюзная организации. Вольнонаемные именовали их «товарищами», но – уехать нельзя, извольте работать там, куда вас привезли.
В Тунгуске я ежедневно выходил на склады с бригадой учетчиков леса. Судя по немецким фамилиям – иногда русифицированным: «Шиллеров»– многие трудармейцы были привлечены к участию в инвентаризации. Все сортименты – авиационник, палубник, понтон-ник, шпальник, строевик, телеграфник, рудстойка, дрова-долготье, дрова-швырок – были мне хорошо знакомы, давний труд на штабелевке научил многому. Работа по переучету всего наличия заготовленной древесины и сверка с бухгалтерскими данными шла довольно быстро, к исходу ноября инвентаризация была закончена. Печальным ее итогом стало выявление преступной бесхозяйственности: арестантов заставили спилить и уложить в штабеля шестьдесят пять тысяч кубометров леса в такой местности, откуда его нельзя было вывезти – этому мешали болота и сильная холмистость лесоповальной деляны;
Пешком по шпалам
139
древесина, естественно, сгнила. Говорили, что начальник Тунгусского подразделения Тихон Васильевич Баранов был осужден за это на восемь лет лишения свободы. Если это так, то, к сожалению, высокому начальству Красноярского лагеря урок не пошел впрок: я позже видел, с каким бездушным проворством перебрасывались рельсы с одного склада лесопродукции на другой – вместо того, чтобы пошевелиться и раздобыть несколько пар недостающих рельсовых плетей по 12,5 метра! Безрельсовый склад обрекался на умирание, труд многих людей и богатство страны растаптывались – видеть это было больно.
По возвращении на Шестой лагпункт мне на рубеже 1944-1945 годов довелось побывать и заведующим столовой, и заведующим пекарней. Там вскоре выяснилось, что я был прав, отказываясь в свое время перед Сергеем Викторовичем Синельниковым от таких постов: кое-кому из власть предержащих полагалось «класть в лапу», это было противно, а по отношению к заключенным и безнравственно. Однако честность подстерегли неприятности вплоть до нового тюремного срока, и я был рад, когда столовая и пекарня остались только в области моих воспоминаний – невеселых, но это были уже лишь воспоминания.
Явившись в Пойму, где находился отдел кадров, я спросил: «Куда можно устроиться на работу?» Здесь пришлось вплотную столкнуться с инспектором Истоминой, оставившей во мне тяжелое впечатление. За протекшие к тому времени семь лет общения с жизнью НКВД я насмотрелся всякого, но сейчас нравственное падение впервые передо мной воплотилось в женщине. Евгения Александровна Истомина была надменна – ее супруг являлся начальником лагерного отделения, где она подвизалась. Но, кроме того, она ненавидела интеллигенцию – в кругу охранителей правопорядка это считалось признаком благонадежности. Ненависть и мысли выплеснулись в истерическом выкрике, которым инспекторша заключила свой разнос меня за то, что я нигде подолгу не работаю: «Мне плевать на то, что вы философ!» После этого помощник Истоминой с усмешкой предложил мне должность пастуха телят. Я всегда считал, что всякий честный труд почетен, однако дурацкая усмешка провинциального грамотея заставила меня молча повернуться и уйти. Вскоре представилась возможность устроиться пожарным сторожем на лесосклад.
Место моей работы располагалось в шести километрах от Шестого лагпункта. Снова надо было ходить по шпалам, на этот раз ежедневно и бесконечно – я охранял склад, начиная от семи часов утра и
140_Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
до семи вечера или в течение стольких же часов ночью. Чтобы сберечь единственную пару обуви приходилось, миновав лагерный поселок, ее снимать и продолжать путь босиком. Этим пользовались вечно голодные комары.
Штабеля разновидных и разносортных бревен окружала нехоженая тайга. Невозмутимая первозданная тишина стояла вокруг меня памятными днями летнего умиротворенного покоя и под звездным небом. Ни звука, ни шороха. Идешь по складу или прохаживаешься у сторожки, и сам вдруг ненароком настораживаешься, услышав свои шаги. Здесь, посреди леса, я был наедине с природой. Где-то шумят города, кипят страсти, даже в шести километрах отсюда мои соседи по крохотному поселку волнуются, спорят, приказывают,– а тут все неподвижно, и в то же время все живет, каждая былинка и каждый кузнечик.
Здесь, на складе, моим постоянным спутником было творчество без помех, без нежданных окриков. И вновь Аррани:
Слава тебе, засветившему солнце во мраке вселенной, Зодчему храма таинственных вечно красот мирозданья... В капле ничтожнейшей солнце находит свое отраженье. Так отражаешься ты, всепроникший, всевечный, В каждой пылинке и в каждом незримом движенье, В каждом мгновенье стихии времен быстротечной...
Над складом висел тихий августовский полдень, когда к моей сторожке подъехали три всадника.
– Стой, кто такие? – спросил я подходя. Один, указав на ехавшего чуть впереди, ответил:
– Начальник Первого ОЛПа (отдельного лагерного пункта) Сур-нин, мы с ним.
Они спешились, и Сурнин обратился ко мне:
– Хорошо дежурите. Вы кто?
– Сторож. Пожарный сторож.
– Всю жизнь, что ли, сторожем были? Кем раньше-то?
– Студент Ленинградского университета. По восточным языкам.
– Какие языки знаете?
Я начал перечислять и дошел до финского. Сурнин оживился:
– Хорошо, как по-фински «нож»?
– «Пуукко».
– А по-нашему, на коми языке – «пурто». А как... ну, «костер»?
Пешком по шпалам
141
– «Нуотио».
– А у нас – «нодья». Похоже.
– Финский и коми – родственные языки, товарищ начальник. Меня потянуло сказать об этом подробнее, привлечь тюркские
данные, но Сурнин вдруг спросил:
– Вы, видать, образованный, так, может, и на машинке умеете печатать?
– Да, приходилось.
– Что тут вам делать? Приходите в наш отдел кадров, передайте: я сказал, чтобы вас назначили на машинку. У нас на ней некому работать.
Он и его спутники посидели в сторожке, потом, отдохнув, снова сели на коней и поехали дальше – как я понял из их разговора, на охоту. А для меня в этот день обозначился еще один поворот в моих скитаниях. Пробыв сторожем до сентября, я затем перешел на работу в Первый ОЛП. Он помещался в трех километрах от моего обиталища на Шестом лагпункте, туда надо было идти в сторону, противоположную складу, по широкой лесной дороге.
И вновь я – «машинистка» Главной бухгалтерии. И опять я встретился с юрисконсультом Федором Михайловичем Лохмотовым, знакомым по Комендантскому лагпункту. Он и здесь пребывал в этой должности, но теперь у бывшего красногвардейца уже кончался восьмилетний срок, он жил надеждой на скорое свидание с дочерьми – инженерами на Сталинградском тракторном заводе; а сына уже не увидеть, пропал без вести во время войны. Снова мы с Федором Михайловичем работали в одном помещении и говорили о разных разностях.
Нередко приносила мне работу Паперкина, секретарша Сурнина. От «кадровички» Кикиловой она знала, что я «директивник», и относилась ко мне соответственно: ни «здравствуйте», ни «пожалуйста» не говорила, а лишь небрежно роняла, кладя работу к машинке «отпечатать (столько-то) экземпляров, срочно». Главный бухгалтер Львов был высокомерен и груб. Однажды я не сдержался, ответил резкостью, он пожаловался заместителю Сурнина – командиру взвода охраны Куч-мелю, тот долго и нудно мне выговаривал. А охранник Мосиенко уже приготовился было меня застрелить. Все дело было в том, что я как-то шел в проходной ОЛПа вдоль забора контрольной полосы. «Эй! – крикнул хриплый голос. – Отойди прочь!» Я узнал Мосиенко, на которого был давно зол, и решил проявить твердость, продолжал путь, не сворачивая. «Эй, ты, оглох, что ли? Отойди, а то стрелять буду!» Но
142
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
я дошел до проходной по избранному мной пути, а ретивый страж, видимо, сообразил, что перед ним какой ни есть, а вольнонаемный, и выстрел в него может принести стрелявшему осложнения. С Мосиен-ко у нас были старые счеты: один раз, когда я работал заведующим пекарней, нужно было в сумерках быстро перевезти муку со станции на склад, а этот упрямый служака, охранявший тогда на Шестом лагпункте, загонял арестанта-возчика в зону: «уже темно!» Я доказывал, что ночью не из чего будет печь хлеб, Мосиенко же твердил свое – конечно, ему хотелось не конвоировать подводу с мукой, а скорей уйти в казарму. То, что завтра заключенные останутся без хлеба, его не волновало, ему все равно. И тут меня прорвало – годы унижения, которое приходилось молча сносить, на миг отшвырнули мою обычную сдержанность, и я осыпал ошалевшего от неожиданности охранника самыми изощренными непечатными ругательствами, какие только поселило в моей памяти длительное заключение. Я бушевал ради того, чтобы завтра у заключенных был хлеб, и в то же время мстил за все зло, причиненное мне и множеству других людей неправдой, лживыми и продажными судами, злобными конвоирами. Кончилось тем, что мука была перевезена в склад, но Мосиенко затаил обиду и охотно послал бы пулю в меня, только «бы» помешало. А все-таки жаль этого пожилого солдата – он, должно быть, никогда не задумывался о том, что можно и нужно жить не так, как он, а по-человечески.
Исполнилось шесть лет моей жизни в заточении, шел третий год ссылки. Итого восемь с лишним лет неволи. Кто я? Недоучившийся студент, которому перевалило за тридцать, человек, освобожденный из-под стражи, но лишенный возможности заниматься избранным делом жизни, поденщик, отдающий время, зрение и нервы – а то, и другое, и третье невосстановимы – случайным работам, чтобы продлить свое существование.
...Творчество– постоянное, наперекор обстоятельствам– утешает меня. Те свершения, которые кажутся удачными, приносят мне удовлетворение, наполняют гордостью. Ради этого я во все годы заключения старался сберечь свой мозг. Но иногда я себе кажусь бабочкой, бьющейся о стекло закрытого окна. Откроется ли оно раньше, чем упаду, обессилев?
Должно открыться. В самые тяжелые мгновения я говорил себе: «моя жизнь не может кончиться в неволе, не для этого она мне дана».
Были приложены все усилия к тому, чтобы вырваться в Ленинград – к университету, к Институту востоковедения. Еще летом 1944
Пешком по шпалам
143
года, едва освободившись от лагерных решеток, я восстановил связь со своим учителем Игнатием Юлиановичем Крачковским. Началась постоянная переписка. В 1945 году Крачковский прислал мне экземпляр первого издания своей только что вышедшей книги «Над арабскими рукописями. Листки воспоминаний о книгах и людях». Там я нашел строки о моей работе над рукописью средневековых арабских лоций в студенческие годы. Слова наставника особенно волновали и поддерживали в моем положении:
«У меня появился /.../ ученик, который без всякой моей инициативы оказался энтузиастом арабской картографии и географии. С большой радостью он познакомился с /.../лоциями и по достоинству оценил их значение. Я с удовольствием видел, как он упорно преодолевал трудную терминологию и настойчиво добивался идентификации географических названий. Его неслабеющий энтузиазм обещал хорошие результаты, он рос на моих глазах, но ряд обстоятельств прервал его научную работу в самом начале».
Академику пришлось не называть фамилии ученика, потому что под неопределенным выражением «ряд обстоятельств» было скрыто определенное: «арест». Но в кругах востоковедов знали, о ком идет речь, поэтому в последующем переиздании книги Крачковского на арабском языке инкогнито было раскрыто.
Вскоре в том же 1945-м на имя начальника Красноярского лагеря НКВД полковника Филиппова пришло ходатайство Института востоковедения Академии наук СССР о снятии с меня «директивы» и разрешении вернуться для продолжения научной работы в Ленинград. Одновременно я получил письменное разрешение на въезд в Свердловск, откуда до Ленинграда было, конечно, ближе, чем от моих лагпунктов.
И обращение Института, и позволение въезда остались без последствий. Это ожесточало и усиливало желание непременно добиться своего. Сказал же любимый вождь: «для великой цели дается великая энергия», я испытал это на себе. Бороться и победить, иного быть не должно. И все же не раз приходила усталость и ныло сердце.
– Где же справедливость, правосудие? – однажды воскликнул я, разговаривая с другим «директивником», бывшим товарищем по этапу в Сибирь. Мы оба по делам службы оказались в зоне одного небольшого лагпункта неподалеку от моего Шестого.
Собеседник пристально взглянул на меня и криво усмехнулся.
– Эх, дорогой! Вы до сих пор не знаете, где справедливость? Пойдемте, покажу.
144
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
Я, недоумевая, последовал за ним. Обогнули барак, вышли к широкой площадке. Спутник, чтобы не привлекать внимания охранника на вышке, чуть заметно указал рукой и понизил голос.
– Видите? Вон там старый человек в ушанке, ватнике, валенках расчищает лопатой дорожку от снега? Повезло, ведь все-таки не на общих подконвойных работах, а в зоне трудится. Это Генеральный прокурор нашей страны Рубен Катанян. Большевик-подпольщик, по должности – страж государственной справедливости. А ныне самого сторожат. Вот где справедливость, а вы ищете...
Но, мучаясь, отступая и вновь наступая, удалось остановить нараставшее отчаяние. Я смог добиться осмотра меня высокопоставленной медицинской комиссией Красноярского лагеря. Она установила, что из меня уже ничего выжать нельзя, постоянное недоедание и нервная истощающая напряженность в течение многих лет сделали свое делсд. На основании заключения медиков «директива» была с меня снята. 17 июня 1946 года эшелон гвардейцев, возвращавшихся с дальневосточного фронта – в другие поезда было не попасть – помчал меня в Москву, к полной свободе, как я тогда думал.
ТРИ АРАБСКИЕ ЛОЦИИ
Понадобилось около трех недель, чтобы добраться из Красноярского края до азербайджанского города Шемаха – в первом послевоенном году поезда были переполнены, железная дорога ввела дополнительный поезд № 501, в просторечии «пятьсот веселый», где путники располагались прямо на полу товарных вагонов.
Сердечная встреча с братом оставила первое глубокое впечатление в моей послесибирской жизни. Мы дружили с детства, он, старший, как мог, всегда помогал мне и советами, и средствами из своих скромных заработков. На протяжении моих тюремных лет мы постоянно тосковали друг о друге и теперь не могли наговориться.
– Ты спасся чудом, – говорил брат. – Было много ужасных дней и ночей, когда казалось, что мы уже не встретимся.
Другое переживание ждало нас в шамахинской милиции. Мы принесли туда заявление о моей временной прописке ради краткого отдыха. Офицер-азербайджанец, просмотрев мой паспорт, спросил:
Три арабские лоции
145
– Почему хотите временную прописку? Уедете?
– Да, в Ленинград.
– В Ленинград? – Он покачал головой. – Вам туда нельзя.
– Как это... нельзя?
– Тут написано. – Он повернулся к моему брату: они были знакомы. – Смотрите, Иосиф Адамович: «Статья 39. Положения о паспортах. Это плохая статья. Вашему брату нельзя жить во всех крупных городах СССР и даже приезжать в эти города. Нельзя находиться ближе ста километров от них. А в Шемахе жить можно, мы от Баку помещаемся в ста четырнадцати километрах. Я потому спросил: «Зачем временная прописка?» Здесь разрешается постоянная.
Я попросил о временной прописке, офицер, недоумевая, удовлетворил мое желание. Когда мы вышли из милиции, брат вздохнул и сказал:
– Вот как печально получилось. Мало того, что человека ни за что, ни прочто держали за решеткой, словно какого-то преступника, так теперь еще и жить не везде позволяют! Вот где бесправие!
Мы прошли несколько шагов молча, потом он заговорил снова:
– Слушай, ты знаешь, я подумал: не надо тебе ехать в Ленинград. Это опасно, могут найти, схватить, что тогда? Потом, ты столько пережил, надо отдохнуть, я помогу тебе в этом. Да и еще: ты много учился-мучился, хватит уже, здоровье надо беречь. Найдем тебе со временем нетрудную работу и будем помаленьку-потихоньку...








