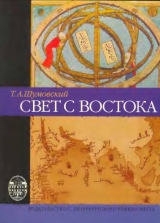
Текст книги "Свет с Востока"
Автор книги: Теодор Шумовский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
«Наука не терпит спешки». Глубоки и правильны ваши слова, Игнатий Юлианович. «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Но разве я спешу? Да, я студент, накапливающий знания; таким останусь и будучи профессором, иначе ученому смерть. Но что бы я в арабистике ни
Поэт при дворе ширваншахов
59
делал, «Лепестки» всегда будут рядом. И каждый день я буду пробиваться в их мир хотя бы на строку...
Шел мой четвертый, предпоследний, особенный курс: оглянешься – все еще совсем внове, будто лишь вчера поступил в университет; посмотришь вперед – уже явственно брезжит весна диплома, выход в самостоятельную научную жизнь. Как летят студенческие годы! Не удивительно, ведь каждый день до краев наполнен чужой и своей мыслью, их диалог выходит с тобой из аудитории на улицу, когда спешишь в общежитие, возвращается с тобой в библиотеку, продолжается, когда едешь в трамвае или стоишь в какой-нибудь очереди... Трудную работу студента нельзя делать по часам; наука требует уже от первокурсника: все или ничего.
Учебник Василия Васильевича Струве по истории древнего Востока, который я подготовил к печати на первом курсе, конечно, не был моей оригинальной работой: я строго шел в фарватере мысли любимого профессора. Но, не говоря уже о том, что эта работа навсегда привязала меня к Струве личными узами, я тогда впервые смог представить себе масштабы и глубину зрелого исследования. Это был серьезный урок. Первая статья, написанная мною уже на третьем курсе, – «Арабская картография в ее происхождении и развитии», несмотря на солидное название, была узкой по охвату материала, хилой по доказательности и претенциозной по языку. Однако я и сейчас не могу опровергнуть ее основных положений, а тогда, на том же третьем курсе, именно для этой статьи проделанная подготовка позволила мне выступить с возражениями против частностей в одной книге крупного ираниста. У порога четвертого курса появилась и третья статья, содержавшая поправки к карте арабских торговых путей в Большой Советской Энциклопедии.
И вот четвертый курс: окрыляющая неожиданность – индивидуальные занятия с Крачковским; окрыляющая находка– три лоции проводника Васко да Гамы, неизвестные произведения неизвестного жанра арабской литературы. Штурм уникальной рукописи, еще никем не прочитанной, штурм, где оружие куется на ходу, а время не ограничивается. И рядом – окрыляющее сопровождение: «Лепестки золотой розы».
Да, окрыляющее сопровождение. Человек может хорошо делать какую-то одну работу, но постепенно он от нее устает, она, даже любимая, становится ему в тягость. Что делать, все мы – порождение хрупкой материи. Но эта же работа может всегда оставаться желанной,
60
Книга первая: У МОРЯ АРАБИСТИКИ
если ее сочетать с другой, столь же милой сердцу; работа над книгой и симфонией – поэзия и ваяние оттеняют, обогащают и стимулируют друг друга. Тогда я еще не знал, что стихи Аррани, сохранившиеся в моей памяти, будут помогать мне не только творить, но и жить, хотя иногда и спрашиваю себя – могу ли я вообще представить жизнь вне творчества?
В багдадский полдень, в тяжелый жар, Когда свернулся клубком базар, Молчат, уткнувшись в лазурь, дворцы, Под сказки дремлют в садах купцы, Восток и запад спрямляют лук, По минарету ползет паук, Комар супруге поет: «Ля-иль»1, В кофейнях нищий глотает пыль, Уходит Дигла2 в свои пески, Ложится буйвол на дно реки, И лишь, бросая в песок следы, Бежит разносчик: «Кому воды!»
В багдадский полдень, в урочный час Пришел к халифу Абу Нувас3, Поэт придворный, певец вина И женской ласки – любви струна. Рукой прикрывши усмешку глаз, Другою – сердца певучий саз4, Он сплел из лести узорный бейт5, Каких не слышал и сам Кумейт6.
Халиф поэта не услыхал: Он забавлялся с прекрасной Хал7. Царь эфиопов ему прислал В подарок этот бесценный лал8.
1 «Ля-иль!..» начало призыва к молитве.
2 Дигла – река Тигр, на которой стоит Багдад.
3 Абу Нувас (747-815) – выдающийся поэт арабского средневековья.
4 Саз – музыкальный инструмент.
5 Бейт – по-арабски: стих.
6 Кумейт, ибн Зайд ал-Асади (679-743) – один из выдающихся поэтов раннего ислама.
7 Хал – «родинка», имя чернокожей рабыни. 9 Лал – рубин.
Поэт при дворе ширваншахов
61
Невольниц властных слуга и бог Холодным взглядом певца обжег. Упали тени певцу на чело, Обиды чувство его сожгло. Вскипело сердце – и тот же час Дворец покинул Абу Нувас.
Но, полон думы о тех двоих,
Он на воротах оставил стих:
«Мой ненужный стих зияет посреди твоих дверей,
Как зияет ожерелье на любовнице твоей».
Прошло мгновенье – и страж донес
«Венцу вселенной – ничтожный пес.
Твои ворота черней чернил:
Нувас безумный их осквернил.
Ключу Сезама, презрев хвалу,
Поэт ослепший изрек хулу.
Не знает страха! И чужд стыда!»
Халиф разгневан: «Подать сюда!»
Приказ исполнен – ив тот же час Вошел в ворота Абу Нувас, Но мимоходом, достав чернил, Он букву в каждой строке сменил. Халиф ломает любви кольцо, Чернее бури его лицо. «Печать шайтана, собачья кровь! Так вот кому я дарил любовь! Пророк недаром – да чтится он! – Из Мекки выгнал поэтов вон. Клянусь: не будет тебе удач! Молись аллаху: к тебе в закат Прибудет, волей моею свят, За головою твоей палач».
Поэт смиренно простерся ниц: «О, свет в решетках моих ресниц, Зенит ислама, звезда времен, Копье и панцирь земных племен! И смерть услада, коль бремя с плеч Твоей рукою снимает меч. Но, правоверных сердец эмир, К словам аллаха склонивший мир,
62
Книга первая: У МОРЯ АРАБИСТИКИ
Тебе известен удел певца: Безмерна тяжесть его венца. Глотая зависть, в годах враги Подстерегают его шаги.
Капризно слово: перевернуть
Его значенье – трудней вздохнуть.
Ты сам на надпись мою взгляни,
Потом – помилуй или казни».
Гоня внезапно восставший стыд.
Идет к воротам Харун Рашид1.
А там, как будто два голубка,
Прижались нежно к строке строка:
«Мой ненужный стих сияет посреди твоих дверей,
Как сияет ожерелье на любовнице твоей».
Поэт халифу к ногам упал. Халиф поэта поцеловал. «Ты – мозг поэтов. Но ты бедняк. Клянусь аллахом – не будет так! Ты был нижайшим в моей стране. Теперь ближайшим ты станешь мне. Врагам навеки закроешь пасть: Тебе над ними дарую власть».
Он долго смотрит в глаза ему, В рабе такому дивясь уму, В ладоши хлопнул – ив тот же час Осыпан златом Абу Нувас: Повел бровями – ив тот же час Бессмертным назван Абу Нувас. Потом простился – ив тот же час Багдад покинул Абу Нувас.
1 Харун ар-Рашид (786-809) – халиф из династии Аббасидов
Книга вторая Путешествие на восток
Ветер задувает свечи и раздувает пламя.
Ларошфуко
У «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ»
«Каждое слово хранит в себе тайну своего происхождения. Она продолжает оставаться тайной, пока мы не любопытны, пока пользуемся словами по привычке, переданной нам старшим поколением, не вглядываясь в их собственное лицо».
...«Познавая при помощи языка мир вообще и более глубоко – одну из его областей, мы оставляем слова в стороне. За нами остается загадочный остров посреди исплаванного нами мелководного залива, того залива, который мы принимаем за покорившийся нам океан науки. Такого заблуждения не было бы, прильни мы мыслью к острову слова – ведь тогда удалось бы проникнуть в такие глубины истории мира, взойти на такие вершины, что трудно себе и представить: языки земли – это еще одна вселенная со своими яркими и тусклыми звездами, своими страстями и летописанием».
...«Те же, кто все-таки избрали своей специальностью филологию, даже если они не видят в этой "тихой" и "чистой" науке просто убежище от житейских бурь... если для них филологический труд – не источник земного благополучия, а призвание, влекущее их за грань усвоенных ими знаний... как часто эти люди оказываются во власти гипноза! Да, не надо отводить глаза – есть он, гипноз имен, званий, традиции – извечна она, эта страшная заразная болезнь студентов и зрелых ученых: не позволять себе и думать о проверке сложившихся взглядов; исповедывать их всю жизнь, потому что "так принято", "так считает Иван Иванович"; ни в чем не соглашаться с редкими инакомыслящими, спорить ради спора. Насколько это замедлило шаг филологической мысли!»
...«Сколько открытий было бы сделано, не будь мы слишком сговорчивы, не уставай мы чересчур быстро от возражений, не изменяй мы строгости принципа! Это не призыв к свержению учителей, нет, да здравствуют наши учителя! Однако не истина должна существовать, поскольку ее высказывают авторитеты, наоборот, авторитеты неизменно должны существовать лишь постольку, поскольку они высказывают истину...»
66
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
Так думал я в один из февральских дней 1938 года, шагая по камере в ленинградском Доме Предварительного Заключения. Спереди и сзади меня размеренно, как часы, двигались другие арестанты; одни вполголоса переговаривались, другие, опустив голову, предавались раздумьям – о семье ли, оставшейся без кормильца, о своем ли неясном будущем. Стоял тот поздний утренний час, когда призрачная утеха от кружки кипятка с куском черного хлеба уже давно растаяла, а обеденной баланды еще не несут, и заключенные коротают время в хождении кругом посреди камеры, один за другим, пара за парой. Шаг следует за шагом, минута за минутой. Только что пущены в ход часы арестантского срока– только что, хотя кое-кто просидел уже несколько месяцев. Ибо что значат месяцы в сравнении с годами и десятилетиями жизни в тюрьме?
Люди, не знавшие за собой вины, со дня на день ждали освобождения. Скептики, умудренные жизнью, не были столь оптимистичны в прогнозах: всякое бывает, могут осудить и невиновного. Они составляли пока немногочисленную группу, большинство же, особенно молодежь, твердо верило в справедливость: «такое» не может продолжаться долго, «там, наверху» разберутся и освободят всех, кому не место в заключении, кого ждут родные, друзья и работа.
Я, студент последнего курса университета, арестованный за четыре месяца до защиты диплома, озабоченно думал: вот мне пришлось провести в тюрьме целых две недели; это, в конце концов, еще не так много: если завтра-послезавтра выпустят, можно быстро наверстать упущенное, написать и защитить диплом в намеченный срок, в июне, а осенью поступить в аспирантуру. Если освобождение задержится – нас-то здесь немало, с каждым нужно разобраться – наверстывать будет, конечно, все труднее... Но все должно хорошо решиться, не далее конца года! Я живо представлял себе радость встречи с учителями, товарищами и древними арабскими рукописями.
Но освобождение не приходило, и мысли о нем постепенно отступали на второй план. Их место заняла филология, которой годами была полна голова; для студента-филолога это естественно. Занятия на факультете давали большой простор и необходимые данные для создания работ на частные темы. Теперь, лишенный рукописей, книг, бесед с учителями, я обратился мыслью к общим вопросам языка, к предварительным построениям, к обоснованию своего взгляда на происхождение человеческой речи, и посвященные этому раздумья все больше отвлекали меня от окружавшей трагедии.
У «всех скорбящих радости»
67
За четыре с лишним университетских года память сделала некоторые основательные приобретения в мире общей лингвистики, они вели к смелым выводам: не все решения выдержали испытание временем, но ряд из них сохраняет значение и сейчас. Главное же состоит в том, что сосредоточенный труд ума позволил мне от первого до последнего арестантского дня – с 1938 по 1956 год – сохранить активно работавший мозг. Он мог переносить углубленное внимание от предмета к предмету, но никогда не дремал и не погружался в пучину безразличия. В тюрьмах, в ссылке, в каторжных лагерях пришлось убедиться, как это важно для будущих, послетюремных свершений, к которым я себя готовил. Мысли, начавшие эту главу, сопровождаемые моими шагами по камере, явились одной из живительных частиц, сберегших меня самого.
... Итак, мы пока находимся в камере 23 ленинградского Дома Предварительного Заключения, сокращенно ДПЗ. Три буквы, мрачно звучащие при их соединении, остряки за решеткой растолковывают по-своему: «Дом Пролетарской Закалки», «Домой Пойти Забудь». Невдалеке от нашей «внутренней тюрьмы» квартал замыкает старинная церковь по имени «Всех Скорбящих Радость». Название не случайно: ДПЗ был Домом Предварительного Заключения и при царях, здесь, в камере I и соседних, провели последние дни перед казнью Софья Перовская и ее товарищи, отсюда, через темные кованые ворота, поглотившие меня две недели назад, «цареубийц» увезли на виселицу: примыкающее к «внутренней тюрьме» тяжелое коричневое здание местного управления НКВД воздвигнуто в 30-х годах нашего века на месте бывшего окружного суда, где Перовскую и других участников дела 1 марта 1881 года осудили на смерть. Улица Воинова, прежде Шпалерная, в петровское время – Первая линия, многое ты повидала! На месте Всех Скорбящих Радости когда-то стоял деревянный дворец Натальи Алексеевны, любимой сестры Петра I, но напротив двенадцатью окнами выходили на Первую линию покои злосчастного царевича Алексея, умерщвленного отцом, а дальше по той же стороне возвышались палаты казненного тогда же в новорожденном Петербурге адмирала Кикина. А незадолго перед моим арестом электромонтер, пришедший чинить проводку, рассказывал: «Иду по Шпалерке мимо НКВД и вдруг вижу – оттуда, из окна верхнего этажа, выбросился человек. Он умирал на моих глазах в луже крови на тротуаре». А давние кованые ворота распахиваются и смыкаются, вбирая в тюремный дом новых и новых узников. Да,
68
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
недаром возникло на малоприметном старом углу название «Всех Скорбящих Радость»...
Память сохранила мельчайшие подробности ареста. В три часа ночи с 10 на 11 февраля 1938 года раздался стук в дверь комнаты 75 общежития на Петроградской стороне. Вспыхнул свет, вошли двое в шинелях, спросили паспорта проживающих. Недавно такая проверка уже была, я протянул выдававшийся иногородним студентам листок с годичной пропиской. Один из ночных гостей бегло взглянул на фамилию и произнес:
– Одевайтесь, поедете с нами.
Рядом с покидаемой койкой на столе помещались мои книги из университетской библиотеки, книги, приобретенные в букинистических лавках, бумаги, рукописи. Чтобы проверить весь этот скарб увозимого студента охранникам понадобились четыре часа. Составленную мной по-арабски цветную карту средневекового мусульманского государства взяли с собой – подозрительная самоделка – к ней присоединили письма покойной матери, остальное бросили в шкаф, опечатали. В семь часов утра черная «маруся» помчала меня мимо Петропавловской крепости, через Неву, мимо Летнего сада к улице Воинова. Тяжелые ворота раскрылись... Вспомнилась терцина Данте:
Пройдя меня, вступают в скорбный град, Где лоно полнят вечные печали, Где павших душ ряды объемлет ад...
Из тесного двора я попал на второй этаж; здесь были отобраны часы, срезаны пуговицы с одежды. После этого меня заперли в узкой каморке без окна; помещение было уже туго набито жертвами ночного улова, один старик стал задыхаться, ему не хватало воздуха. Вскоре всех арестованных перегнали в большую сборную камеру, полную народа. Проходя туда по тесному коридору, я мельком взглянул на длинную и высокую решетчатую стену справа; за решеткой молчаливо извивалась густая толпа, месиво заросших мужских лиц и полуобнаженных бледных тел медленно ворочалось в смрадной духоте. Потрясенный всем пережитым в течение бессонной ночи и первого тюремного утра, я свалился на каменный пол сборной камеры и забылся тяжелым сном. Потом почувствовал, что кто-то ко мне прикоснулся и зовет по имени.
У «всех скорбящих радости»
69
А, это Ника Ерехович, студент-отличник нашей кафедры семито-хамитских языков и литератур, только не арабист, как я, а египтолог. Ника – большой книжник и весьма искусно рисует пиктограммы. Специальности не выбирал, она его нашла сама: еще школьником упросил крупных наших востоковедов Наталию Давыдовну Флиттнер и Юрия Яковлевича Перепелкина преподавать ему древнеегипетский язык.
– Ника! И ты здесь!
– Да, меня взяли сегодня с лекции. Вызвали к ректору, а там уже были двое в штатском... Повезли на Правый берег Невы – я там снимал комнатку – перерыли все, потом привезли сюда...
Почему он здесь? Наверное, «подвело» происхождение: отец Ники был генералом в свите Николая И, а его крестным отцом был сам последний император.
Из гудевшей встревоженными голосами сборной камеры мы попали в баню, где «вольную» одежду обработали хлорной известью. И, наконец, вечером всех арестованных развели в постоянные камеры. Ника попал в 24-ю, я с тремя другими – в соседнюю 23-ю, остальные – кто куда.
...Загремел замок, решетчатая дверь в решетчатой стене приоткрылась, впуская нас в просторное, полное людей обиталище. Долго ли мне тут быть? Какое-то недоразумение, спутали, что ли, с кем? Ведь за мной нет никакой вины, ничего, я... Десятки заросших лиц обращены к двери, десятки блестящих и потухших глаз осматривают вошедших.
– Новички, сюда! Какие новости на воле?
– Есть ли еще Советская власть?
– Где же она, где?
15 февраля вечером черный занавес, навешенный на решетчатую стену камеры со стороны коридора, всколыхнулся, прозвучал голос охранника:
– Кто на «шэ»?
Так, по первой букве, тюремная охрана вызывает арестанта. Произносить полную фамилию нельзя – вдруг человек содержится не в этой камере, а ведь узникам запрещено знать о запертых в других помещениях.
– Кто на «шэ»? – нетерпеливо повторил голос, не получив ответа в первую секунду.
– Шин дер.
70
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
– Нет.
– Шелебяка.
– Нет.
Третьим назвался я.
– К следователю!
Застучал замок. Меня повели полутемными внутренними коридорами. Яркая, как лезвие ножа, стремительная, как его удар, вдруг пронеслась мысль: сегодня, после многолетнего перерыва, в оперном театре дают «Аиду». Вот сейчас польются в замерший зал бессмертные звуки увертюры... Мы, четверо друзей, договорились неделю тому назад: отложить все и быть сегодня на Театральной площади. И вот!... Глухой каземат, меня конвоируют... Куда я иду, зачем? Кто этот следователь, к которому я не имею никакого отношения? Может быть, он скажет – в чем дело?
Лифт. Поднялись, вышли в широкие освещенные коридоры, застланные дорожками. Это уже не «внутренняя тюрьма» с ее каменными заплеванными полами – это соединенное с нею лабиринтом переходов управление НКВД. Меня ввели в один из множества кабинетов. За столом восседал молодой человек с невыразительным скучающим лицом под коротко остриженными волосами.
– Садитесь, – бросил он мне.
Последовал анкетный опрос. Потом Филимонов – так звали моего собеседника – поднял глаза от протокола, пристально посмотрел на меня и спросил:
– Как думаете, за что вас арестовали?
– Не знаю.
– Не знаете! Как же так? Раз человека лишают свободы, значит, за ним что-то есть?
– Я невиновен.
– «Невиновен». Все вы говорите так, а потом оказывается... оказываются горы преступлений! Если в вас есть какая-то совесть, почему не сознаться: да, оступился. Следствие учтет чистосердечное раскаяние.
– Мне не в чем раскаиваться.
– Хватит! – Филимонов стукнул кулаком по столу. – Не вкручивайте мне шарики! Мы невиновных не берем! Если вы запираетесь, если вам не хватает простого мужества сказать правду... что же, придется помочь...
У «всех скорбящих радости»
71
Он откинулся на спинку стула и остановил на мне тяжелый неподвижный взгляд.
– Вас арестовали за систематическую антисоветскую агитацию. В частности, вы говорили: «Выборы в Верховный совет – комедия...»
– Никогда! Никогда! И в мыслях не было! Филимонов уже не слушал меня:
– Кроме того, вы состояли в молодежном крыле партии прогрессистов. Эта партия охватывала ленинградскую интеллигенцию и стремилась превратить нашу страну в буржуазную парламентскую республику. В молодежном крыле вы были главным сторонником решительных действий.
– Этого не было. Неправда это.
– Будет составлен обвинительный протокол, который вы подпишете. Мы имеем средства, чтобы заставить вас это сделать.
Нажал кнопку звонка, вошел конвоир.
– Уведите.
Я шел потрясенный, все во мне дрожало. Впервые за 25-летнюю жизнь к моим глазам вплотную приблизились мертвящие глаза человеческой лжи, и некуда было деться. Да нет, пусть лучше убьют за эти придуманные преступления, но клеветать на себя... нет, невозможно, нельзя.
В камере я втиснулся под нары, лег среди вповалку простертых хел – отбой уже прозвучал, узникам полагалось отойти ко сну. Думы о только что услышанном неотступно жгли. Внезапно из-под пола раздался протяжный стон, за ним другой, затем послышались вопли. Сосед, старый крестьянин, приподнялся; опершись о пол левой рукой, правой перекрестился:
– Опять...
– Что опять? – спросил я.
– Пытают... – голос его дрогнул. Ужас пробежал по мне.
– Пытают?! Кого?
– Вот тебе и «кого». Таких, как мы с тобой. Чтоб сознавались, чтоб кляли себя, значит...
Он рухнул на свое место, закрыл пальцами уши. Вопли продолжались, порой их перекрывала яростная брань палачей.
В следующую ночь истязания повторились. Наутро старожилы объяснили мне:
– Угол тюрьмы, где мы помещаемся, зовется «Таиров переулок». В него выходят четыре камеры: 21-я, 22-я, наша 23-я и 24-я. Под ними
72
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
в первом этаже – пыточные застенки. Там с нашим братом расправляются, как хотят. До смерти замучают – и это можно, спишут с учета, с котлового довольствия, и дело с концом. Тут никто ни за что не отвечает, наоборот, еще и награждают за усердие. Пару недель назад в тех застенках палачи также вот развлекались, потом вдруг стало тихо, мы уж подумали: все, натешились. Так нет, гляди-ка, опять...
Филимонов продолжал вызывать меня, требовал «признаний». Я все еще держался, но вопли из пыточных камер не выходили из головы. Постепенно сочиненный следователем протокол приобретал стройность и завершенность. Оказалось, что в «молодежное крыло партии прогрессистов» вместе со мной входили Ника (Николай) Ере-хович и студент исторического факультета университета Лева (Лев) Гумилев. Товарищеские отношения на воле, причем неполные – Лева и Ника были незнакомы друг с другом, – дали НКВД «основание» создать нам общее «дело», мы теперь «сопроцессники».
В камере бывалые арестанты спрашивают у каждого о ходе его «следствия», что ему «пришивают», и почти каждый охотно делится переживаниями, ищет поддержки в своей неравной борьбе. Ему дают бескорыстные советы, как держаться со «следователем», как себя вести. Мне сказали:
– Прискорбно твое дело, парень, да уж не так плохо. Здесь, в НКВД, изготовляют шпионов, изменников, диверсантов, а у тебя ничего этого нет! Теперь смотри: «буржуазный прогрессист», за это, конечно, по головке не гладят, но ведь не «фашист»! Считай, выпал счастливый номер. А погляди еще так: упрямишься, твердишь свое «невиновен». Да они, следователи, сами это знают, но ведь спущен план, и должность свою надо отрабатывать. Так вот однажды могут затащить вашу милость под нашу камеру, кости переломают, что тогда? Никакому человеку, никакому делу не будешь нужен, останется в тебе дух после такой пытки – жизни рад не станешь. Это уже называется не жить, а гнить, и может быть много лет!
Все-таки я еще держался. И – дивно устроен человеческий мозг! – несмотря на остроту моего положения, на униженное существование – или именно поэтому? – каждый день приходили ко мне новые мысли, связанные с филологией. По-видимому, настолько было живо приобретенное занятиями в университете, что эти знания развивались уже сами по себе и, вследствие этого, требовали выхода. Я не мог записать мыслей, примеров, доводов, являвшихся мне – иметь карандаш и бумагу подследственным запрещалось, – и по
У «всех скорбящих радости»
73
вторял все про себя, чтобы не забыть. Обитель слова, будящего мысль, филология наполняла мое существо, утешала и отрешала от переживаемой беды. Дошло до того, что я думал о словах разных языков, сравнивал их, приходил к выводам даже стоя в боксах. Боксы – это будки с глухими стенами, расставленные на пути следования арестантов из камер на допросы и обратно. Если по этому пути навстречу вам ведут другого узника, конвоир командует: «в бокс», и вы, войдя в будку, остаетесь там, пока того не проведут: как и в случае с называнием первой буквы фамилии заключенного, так сохраняется тайна ареста.
Упорствуя в отрицании обвинения, я как-то сказал при очередном вызове о презумпции невиновности, про которую недавно узнал. Филимонов рассвирепел – ибо не знал, что это такое, а кроме того слово «невинность» в устах арестанта его раздражало.
– К черту вашу призунцию, я знать ее не хочу! Понавыдумывали иностранных словечек, думаете за них спрятаться!
Вошел другой следователь.
– Что у тебя тут?
– Да вот, – махнул рукой Филимонов, – околесину несет.
– Ты что же, не знаешь, как разговаривать с врагами народа?
Но тут вошедшего позвали к телефону, он вышел. Филимонов мрачно сказал:
– Пора кончать нам с вами. Следствию разрешено применять крайние меры.
Тут его вызвали к начальнику следственного отдела, меня увели.
А назавтра из какого-то служебного кабинета принесли Краузе. Говорили, что это один из «латышских стрелков», первых стражей и защитников Октябрьской революции. Людей привлекали его открытое лицо и открытый характер. Недавно этого человека схватили, вскоре стали часто таскать на допросы. И вот в очередной раз он пробыл там совсем недолго, а вернулся не ногами – на руках тюремной обслуги. Приняв у дверей камеры, товарищи бережно понесли его, положили на ветхие нары, и я увидел: Краузе неподвижно лежал на животе, а посреди обнаженной спины алым пятном била в глаза рваная рана. Невозможно было отвести от нее взгляд, стоя рядом с притихшими товарищами над изувеченным телом. Зло – узаконенное, сытое, прославляемое – торжествовало победу. Но нет, век этой победы будет недолог. Я сберегу себя, чтобы противостоять злу, чтобы радостно смеяться на его тризне.
74
Книга вторая: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
Безмерно тяжко взваливать на себя несуществующую вину. Но еще тяжелее, став калекой, лишить себя возможности мыслить и созидать.
26 марта я подписал протокол дознания, «следствие» закончилось. Человек привыкает ко всему. Тюремный быт напряжен, однако мне постепенно становилось не так трудно уединяться мыслью, как вначале: каждодневность одинаковых ощущений притупляет внешние, губительные отзывы души на переживаемое и обостряет внутренние, спасительные. Чем полнее в человеке внутренняя жизнь, тем слабее воздействие на него внешних неудобств – и, конечно, наоборот.
Среди множества, в среднем примерно восьмидесяти, людей, запертых в камере на площади сорок квадратных метров, передо мной с течением времени вырисовывались отдельные фигуры.
Борис Борисович Полынов. Седой, морщинистый, но бодрый член-корреспондент Академии наук СССР, почвовед. Поездка в Англию на конгресс помимо обычных впечатлений наполнила его гордостью от того, что в лондонском научном центре он увидел на видном месте портрет своего учителя – знаменитого Докучаева. Но путешествие к берегам туманного Альбиона обошлось Борису Борисовичу и дорого: его обвинили в том, что он запродал английскому королю советскую Среднюю Азию. Раз так, то к основной вине легко «приши-лись» почти все другие пункты памятной миллионам 58-й статьи Уголовного кодекса: шпионаж, вредительство, террор, диверсия... словом, едва ли не «полная катушка» по арестантскому выражению. Следствие над Полыновым давно закончилось– он сидел уже второй год – и его не трогали, о нем призабыли; тем, кому по должности полагалось «тащить и не пущать», хватало работы по горло: ворота всех тюрем страны открывались перед новыми и новыми толпами попавших в заточение.
Старый петербуржец Александр Александрович Скарон. Я так и не узнал о его роде занятий, потому что когда он, молча присаживаясь рядом со мной, неизменно тяжело вздыхал, время общения уходило на то, чтобы попытаться его утешить, вселить в усталое старческое сердце надежду на просветление. Постоянно скорбящие долго не живут, и я опасался даже за близкое его будущее. Не знаю, много ли дней отпустила ему жизнь после того, как нам пришлось расстаться перед осенью того же 1938 года.
Староста камеры Степанов – крестьянин из какой-то ленинградской «глубинки». Представление об этом человеке связано во мне с
У «всех скорбящих радости»
75
воспоминаниями о неколебимой арестантской законности, пронизанной требованиями солидарности, справедливости, этики, если угодно – самой чести. Степанов – единственный, кто имел бумагу и карандаш, разумеется, втайне – вел список населения камеры с указанием даты ареста каждого. Соответственно тюремному стажу осуществлялось распределение скромных удобств жизни заключенных. Давние узники имели преимущество перед новичками, но так как состав заключенных постоянно менялся – одних куда-то переводили, других приводили – то новички с течением времени становились «лордами», «старичками», заслужившими уважение и почет за долгие страдания. Мне, проведшему в 23-й камере первые полгода тюрьмы, довелось полностью пройти «путь наверх»: во время обеда я сперва вместе с другими новоприбывшими стоял в углу около открытого унитаза туалета, держа в одной руке оловянную миску с баландой (жидкость с редкими капустными листьями и рыбьими костями), а в другой – ложку. По мере выбывания старших по стажу, я – в соответствии со степановским списком, передвинулся на освободившееся место за «третьим столом», где уже можно было сидеть, потом за «вторым» и, наконец, в качестве заслуженного узника уселся за «первый стол», который в камере почтительно звали «столом лордов». Этим нарастающее «благоустройство за выслугу лет» не ограничивалось: ночью столешницы «второго» и «третьего» столов снимались с козел и превращались в нары – «юрцы»; я первоначально спал в тесноте под ними, позднее – уже на них, где было чуть просторнее. Все передвижения людей на обеденных и спальных мест производились по команде Степанова, и обсуждать их не было смысла, ибо они оправдывались единственно справедливым доводом – тюремным стажем; на исключение из правила могли рассчитывать лишь инвалиды и больные.
Нужно вспомнить еще об одной благородной черте, проникшей в арестантский быт издавна, быть может, от народовольцев или даже от декабристов: заключенные, получавшие продуктовые передачи с воли, обязательно делились их содержимым с неимущими товарищами – это рассматривалось как долг тюремной чести. В ленинградском Доме Предварительного Заключения всем его обитателям, даже тем, у кого было закончено следствие, не разрешалось ни получать передачи, ни иметь свидания с родными. Но те, у кого при аресте были изъяты и зачислены на лицевой счет принадлежавшие им деньги, могли один раз в месяц выписать продукты на 25 рублей. В однообразной жизни камеры день такой «выписки» и особенно получения вожделенных








