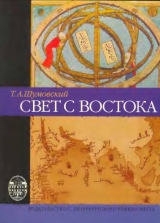
Текст книги "Свет с Востока"
Автор книги: Теодор Шумовский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
46
Книга первая: У МОРЯ АРАБИСТИКИ
тверждение или опровержение определенного места книги каким-то из ее сменявшихся владельцев, либо... Все разгадки еще впереди. Вот аккуратная каллиграфическая приписка, начинающаяся словами:
«Как сказал, да славится он и превознесется...» – это соответствующий данной мысли автора стих из Корана, то, с чем никто не смеет спорить. А вот заметка под титлом р. д. х. – эти буквы расшифровываются как фраза «Радыя ллаху анху!» – «Да будет доволен им Аллах!», которая ставится после имени первого имама (предстоятеля) одной из крупнейших мусульманских сект – шиитов – Али ибн Абу Талиба; появление в рукописи высказывания этого человека наводит на предположение, что она создана в шиитских кругах, то есть, весьма вероятно, в иранской среде, и это сразу бросает особый свет и на характер сочинения, и на историю рукописи.
Арабист-медиевист вчитывается в полустертые, иногда тщательно зачеркнутые надписи, в затейливую вязь именных печатей владельцев книги, разглядывает бумагу, на которой написан текст сочинения, присматривается к манере письма, к очертаниям отдельных букв. Ничто не ускользает от его взгляда, и постепенно, превратившись в своеобразного Шерлока Холмса, он может определить и дату возникновения памятника, отделенную от него рядом столетий, и место переписки, и другие обстоятельства, связанные с историей документа. Так он входит в мир изучаемого произведения, что позволяет ему проникнуть в содержание памятника, вскрыть его предысторию, распознать его внутренний механизм и благодаря всему этому обогатить ум человечества знанием неизвестных прежде черт истории арабского общества. А лишь совершенное знание прошлого позволяет объективно оценить настоящее и безошибочно строить нужное будущее.
Крачковский учил меня видеть за рукописью мир породивших ее страстей.
Несколько позже, в тяжкие годы войны, оторванный от любимых рукописей и книг, этот большой мастер, склоняясь над книгой воспоминаний о своем сорокалетнем пути в науке, скажет об искусстве арабиста проникновенные, глубоко поэтичные слова: «Работа над рукописями несет свои радости и свои горести, как все в жизни. Рукописи ревнивы: они хотят владеть вниманием человека целиком и только тогда показывают свои тайны, открывают душу – и свою, и тех людей, что были с ними связаны. Для случайного зрителя они останутся немы: как лепестки мимозы от неосторожного прикосновения, закроются их страницы, и ничего не скажут они скучающему взору...»
Школа Крачковского
47
Коран, сборники стихотворений крупнейших поэтов первых столетий ислама, сочинения по всемирной географии, математические трактаты – сколько произведений арабской мысли прошло передо мною в разноликих рукописных томах, которые приносил на занятия мой учитель!
Но судьба моя была заключена в скромном неприметном томике, который Игнатий Юлианович положил передо мной на последнем уроке в мае 1937 года.
– Это, как вы видите, сборная рукопись, – сказал он, когда я начал впервые самостоятельно просматривать пожелтевшие страницы. – Разные сочинения разных авторов, даже на разных языках. Вам, конечно, не надо определять каждое произведение. Выберите одно, попробуйте в нем разобраться, потом расскажете о своих наблюдениях. Пусть это будет вам испытанием, посмотрим, насколько вы преуспели...
Так мне довелось наткнуться на три руководства для плавания в разных частях Индийского океана, составленные в стихах неким Ахмадом ибн Маджидом и сохранившиеся в единственном на весь мир экземпляре, который более ста лет назад вошел в состав ленинградского академического фонда арабских рукописей.
Ахмад ибн Маджид... Кто он такой? С чего начинать исследование?
Внешние данные ясны: лощеные листы бумаги со специфическим запахом долгого неприметного тления говорят о том, что рукопись была создана давно и длительное время лежала неподвижно, не обращая на себя ничьего внимания. Случайная дата, запрятанная в недрах текста, или сопоставление нескольких дат – конечно, если они есть – позволяют хотя бы приблизительно уточнить время написания документа; но для этого надо проработать содержание. Почерк не каллиграфичен– это значит, что переписчик думал не столько о форме, сколько о смысле текста. Не следует ли отсюда, что он был близок к морским кругам, в которых родились руководства Ахмада ибн Мад-жида? Это предположение подтверждается и неравным количеством строк на страницах – от 22 до 48.
А полустишия отделяются друг от друга то простым пробелом, то черными завитками, а то и красными... Нет, не внешняя красота и не холодная симметрия прельщали переписчика. А эти приписки, лепящиеся по краю некоторых страниц то наискось, то боком, то вверх ногами? Они выполнены тем же почерком, что и основной текст, еле-
48
Книга первая– У МОРЯ АРАБИСТИКИ
довательно, принадлежат переписчику. Но так как по смыслу они идут за последней строкой страницы, то это не замечания к написанному, а его составная часть. Значит, переписчик экономил бумагу? Почему? Он был беден, а снимал копию для себя? Стало быть, его интересовали не деньги, которые он мог бы заработать, переписывая чужое сочинение... его интересовало само произведение... Это сразу характеризует и переписчика, и автора, и... и, быть может, в этом обстоятельстве надо искать нить для определения места переписки? Вероятно, там бумага была дорога, значит, ее привозили... привозили издалека...
Мысли сменяются мыслями. И уже отступили все другие заботы, обострившийся взор вглядывается в каждое пятнышко, и ум делает самые смелые предположения. Не все они выдержат испытание временем, но с них начинается ученый. Опаляемый растущим интересом к предмету исследования, он спешит проверить их в процессе разбора содержания рукописи, которое начинает манить его с того мгновения, когда он впервые склонился над старыми листами или даже когда только что услышал о них.
Содержание... Это три– мне уже удалось их разделить– три руководства для лоцманов Индийского океана. Одно, самое большое, описывает морские пути у восточного побережья Африки; второе, поменьше, посвящено «подветренным странам», расположенным к востоку от индийского мыса Коморин – здесь речь идет о плавании в Бенгальском заливе и у берегов Индонезии; третья лоция, самая короткая, говорит о маршруте от Джидды до Адена.
И тут я вспоминаю... Да, да, это было всего два месяца назад, 15 марта, в конференц-зале на Демидовом... Игнатий Юлианович выступал на годичном собрании Географического общества с лекцией «Арабские географы и путешественники» и уже под конец, вскользь, упомянул эти три лоции, эту уникальную рукопись... Даже проецировался снимок первой страницы... Но обо всем этом было сказано так бегло, что я ничего не запомнил, только звучат в ушах слова: «Первая лоция описывает...», «Вторая лоция описывает...», «Третья лоция...» И... да, назывался парижский ученый, обнаруживший в нашем веке забытое произведение Ахмада ибн Маджида, но ничего не знавший о ленинградской рукописи, ученый, раскрывший загадку личности автора, ученый... Как его фамилия? Промелькнула мимо памяти, как многое в жизни, а нужно бы узнать, не спрашивая Игнатия Юлиановича, теперь уже интересно выяснить самому, пусть он удивится, когда я с непроницаемым лицом, как давно знакомое, назову это имя, а потом и труды...
Школа Кранковского
49
Я полез в «Энциклопедию ислама», боясь ничего не увидеть там для себя, и, к своей радости, нашел большую статью об Ахмаде ибн Маджиде. Подпись под ней сразу напомнила мне имя французского исследователя: Габриэль Ферран. Дипломат, проживший много лет в странах Индийского океана, ученик знаменитого африканиста Рене Бассе, он был незаурядным ориенталистом широкого профиля, посвятившим свою жизнь изучению географической культуры народов и Ближнего, и Среднего, и Дальнего Востока. В 1912 году он, как часто бывает в науке, случайно наткнулся в парижской Национальной библиотеке на две арабские рукописи с мореходными сочинениями Ахмада ибн Маджида и другого лоцмана– Сулаймана из южноарабской области Махра. Увлеченный личностью первого, оставившего двадцать два произведения, тогда как на долю второго приходилось только пять, Ферран, сопоставляя арабские, турецкие и португальские источники, неожиданно установил, что Ахмад ибн Маджид и был тем загадочным Макто Сапа1 лиссабонских хроник, который в 1498 году провел флотилию Васко да Гамы от Малинди в Восточной Африке до Каликута на Малабарском побережье Индии. Яркий образ восточного мореплавателя вдохновил музу Камоэнша:
В кормчем, суда стремящем, нет ни лжеца, ни труса. Верным путем ведет он в море потомков Луса. Стало дышаться легче, место нашлось надежде. Стал безопасным путь наш, полный тревоги прежде.
Счастливая находка поставила фигуру старого арабского морехода в центре последующих изысканий Феррана. Он издал фотографии обеих найденных им рукописей, предполагая в будущем осуществить их перевод и комментирование. Он опубликовал ряд этюдов, в которых попытался восстановить линии связи между забытой миром океанской навигацией арабов и другими явлениями культуры восточных народов. Он увлеченно – святая сверхувлеченность первооткрывателя! – говорил: «С тех пор как нам открылись арабские источники, турецкий морской свод адмирала XVI века Челеби, который так превозносила наука прошлого столетия, потерял всякое значение». Но он
1 Маето произошло от арабского муаллим – «наставник» в значения «капитан дальнего плавания», Сапа или Сапааиа – тамильская форма санскритского ганика – «звездочет» Макто Сапа должно пониматься как нарицательное обозначение «мастер судовождения по звездам»
50
Книга первая: У МОРЯ АРАБИСТИКИ
не знал нашей рукописи... Лишь незадолго до смерти, получив ее снимок, угасающий ученый по достоинству оценил место ленинградских лоций в наследии Ахмада ибн Маджида и намеревался их издать. Но не успел, как и не пришлось ему полностью осуществить давно задуманное шеститомное издание памятников средневековой арабской навигации...
– Изрядно вы проштудировали сей предмет, – сказал Крачков-ский, когда я поделился с ним всем, что прочел и передумал. – Видите, как интересны могут быть скучные с виду рукописи! Но помните: даже после того, что сделал Ферран, здесь еще непочатый край работы, ведь все эти морские вопросы представляют в арабистике неисследованное море, и тут может не хватить целой жизни, чтобы сказать новое слово...
Скромный томик в красном кожаном переплете с застежками и тиснением, хранивший три лоции Ахмада ибн Маджида, за немногие дни успел так прочно войти в мою жизнь, что я уже не мог оторваться от его все еще темных для меня страниц. Работы Феррана помогли отождествить ряд неизвестных географических названий, труды по арабской астрономии постепенно позволяли увидеть за причудливыми названиями звезд известные нам светила, собственные раздумья родили первые выводы о структуре содержания. Осенью 1937 года, вернувшись с каникул, я показал Игнатию Юлиановичу составленное мною предварительное описание рукописи лоций.
ПОЭТ ПРИ ДВОРЕ ШИРВАНШАХОВ
Свои предпоследние студенческие каникулы летом 1936 года я проводил в Шемахе, обители моего детства, колыбели моего увлечения Востоком. Провинциальная жизнь однообразна, особенно для юнца, приехавшего на лето с шумных и великолепных берегов Невы. Удручает отсутствие моря, пляжа, концертов, привычного круга друзей. Пытаешься поддержать свое ровное настроение велосипедными прогулками, щедрыми ласками южного солнца, усиленным потреблением фруктов и, конечно, книгами, взятыми из местной библиотеки. И каждый день находишь время, чтобы ходить по городу и окрестностям.
Поэт при дворе ширваншахов
51
Ходить по Шемахе означает для меня, прежде всего, вспоминать. Первой из первых я вспоминаю свою школу. Вот улица, по которой пришел я к ней в красно-золотое октябрьское утро уже далекого года, в день, когда началось для меня ученье на всю жизнь. Вот окна моего первого класса, окна на уровне тротуара, за которыми и сейчас видны старые черные парты... Вот здесь, во дворе, мы на переменах бегали по фундаменту новой школы, строившейся для нас тогда, когда город еще ничего не строил, а ютился в немногих уцелевших в гражданскую войну домах прошлого века. В этом здании с просторными светлыми классами я получил выпускное свидетельство... Вот почта, а вот библиотека, а тут жила наша семья... Здесь... Здесь... Как звезды, вспыхивают в памяти давно забытые слова и лица.
Вот базар. Минуя кричащие прилавки, заваленные пряной снедью, огибаю невысокие холмы ближнего пригорода, круто пересекаю асфальтовую ленту шоссе и выхожу к рубежам старой Шемахи. Узкие кривые улицы, мощенные булыжником, уходят вниз. Руины... Руины... Руины... Когда-то здесь были дома и сады, фонтаны и бани, лавки купцов и мечети с высоко взметнувшимися минаретами. Землетрясение в начале нашего века и гражданская война в конце второго десятилетия превратили город в почти сплошную груду развалин. Но жизнь восторжествовала, творящие руки мира понемногу возводили на старой земле новые кварталы. Я помню пестрые многоголосые пятничные базары, как река, растекавшиеся по главной улице древнего города, которая длинной прямой нитью соединяла дорогу на юго-восток с дорогой на юго-запад... Потом жители переселились наверх, ближе к горам, где землетрясения не так опасны, и нижний город вновь пришел в запустение.
Унылый вид осыпавшихся каменных стен с пустыми проемами окон и дверей, бывших комнат, поросших буйной зеленью, одичалых деревьев и давно нехоженых улиц дополняется лесом намогильных памятников сразу за угадываемой городской чертой. Шемаха окружена поясом кладбищ – четыре мусульманских, армянское и русское. На горе за речкой, огибающей южные пригороды, четко высятся семь мавзолеев с низкими стрельчатыми входами; поодаль, к западу, одинокий квадрат дома без крыши; внутри стен чьи-то старые могилы; чахлые деревья устало склонили над ними пыльные ветви, в пустых оконных проемах здания пламенеет шафранное небо заката. Зайдешь на это кладбище – и сразу обступит тебя скорбная поросль стоящих и лежащих каменных плит, испещренных арабским письмом и изобра-
52
Книга первая: У МОРЯ АРАБИСТИКИ
жениями предметов, имевших отношение к занятию покойника. Давно распались под морем камня кости, давно истлели глаза и руки искусных каменотесов, давно не читает кружев узорного письма никто, кроме утреннего ветра, полдневного солнца и ночных звезд. Под тяжкой десницей времени незримо склоняются стоящие и врастают в землю лежащие плиты. Два царя властвуют здесь – время и тишина.
На другой горе, обрывающейся у юго-восточной дороги, тоже кладбище: узорные камни лежат в пещере и вверху, высоко над дорогой, там, где густо пахнет пряными дикими цветами. Они то взбираются на кручу, белеющую скалистыми отломами, то спускаются глубоко в лог, к пастбищам на берегу горного ручья. И ближе, на городской стороне, опять кладбище, и на северной окраине, у входа в тесное ущелье, по дну которого вьется звонкоголосая серебряная струя, тоже угрюмо теснятся, жмутся один к другому серые памятники с заросшими мхом буквами... А надо всем простерто безбрежное синее покрывало покоя, словно сама вечность прилегла под этим мирным небом, чтобы напомнить о себе. Покой...
Однажды в знойный июльский полдень этого памятного 1936 года я не пошел бродить по кладбищам. Захотелось посмотреть мечети, знакомые мне до той поры по детским впечатлениям; я должен был увидеть их глазами начинающего арабиста, уже прослушавшего в университете курс истории халифата, курс истории мусульманского искусства и только что сдавшего самому Крачковскому курс Корана. Ряд коранических сур угнездился в моей памяти так прочно, что я их читал наизусть, чем поражал своего старого приятеля по шемахинской школе азербайджанца Халила. «Когда окончишь университет, мы выберем тебя муллой», – говорил он мне, смеясь.
«Что же представляют собой ритуальные здания ислама на зрелый взгляд? – спрашивал я себя. – Действительно ли здесь в южной стене устроена ниша, указывающая направление в сторону Мекки? А как выглядят кафедра проповедника и зеленое знамя? А где бассейн для омовения? А какая лестница внутри минарета? А сколько ворот во двор?»
Мечетей в Шемахе я помнил три: Сары Топрак и Джума помещаются на главной улице старого города. Первая– у выхода на юго-западную дорогу, вторая – на юго-восточную. Третье здание стояло на одной из перпендикулярных улиц, поднимающихся в верхний город; двое боковых ворот вели из просторного двора в узкие пустынные переулки. Когда-то, еще школьниками, мы с Халилом долго ос
Поэт при дворе ширваншахов
53
матривали первые две, и я решил, что сейчас мы опять пойдем туда как-нибудь вместе; ему, наверное, будет интересно при осмотре услышать рассказ человека, уже кое-что знающего по этой части из книг и лекций.
«Что это за мечеть? – подумал я, вступив во двор и осматриваясь. – Как она называется? Забыл я или совсем не знал?» Мне вспомнилось, как в 1922 году, еще мальчиком, полный ужаса и любопытства, я наблюдал из верхнего города религиозную процессию шиитов, шедшую где-то здесь, по этим старым каменистым улицам. Громадная толпа мерно колыхалась, полуголые люди били себя – одни кинжалами по голове, другие цепями по плечам. Стоны боли тонули в криках: «Шах Хусейн! Вах Хусейн! Шах Хусейн! Вах Хусейн!» Я еще не знал тогда, что Хусейн – внук основателя ислама Мухаммада, сраженный в битве при Кербела в 680 году. Шииты, одно из двух крупнейших направлений мусульманства, оплакивают его гибель в течение уже тринадцати столетий... Все больше крови обагряло пыльные камни, все большее исступление овладевало процессией. И потом... не сюда ли она повернула, не здесь ли запылали костры, на которых кипели котлы с мясом жертвенных баранов? Да, кажется... кажется...
Я оглядел широкий пустынный двор. Над ним, давно нетрево-женная, звенела знойная тишина. Потрескавшиеся плиты дорожек, просторные площади и овальный бассейн заросли травой, высохшей и поникшей под долгим летним солнцем. Прямо передо мной стояли осыпавшиеся, с пустыми проемами стрельчатых окон, бывшие стены мечети. Я заглянул внутрь – то же запустение царило и там такие же серые камни, полускрытые дикой желтой растительностью. Белые и коричневые бабочки беззаботно порхали над лиловыми цветами репейника. Ни одного звука не доносилось извне, нигде не было видно ни души. Мне вдруг стало не по себе из-за странного чувства отчужденности от живого мира, которое охватывало меня, чем дольше я стоял у руин и пытался представить краски, когда-то переливавшиеся в этом умершем здании, слова, давно отзвучавшие. Где люди, толпившиеся здесь, как сложились их судьбы? Когда в последний раз они покинули эти стены? Что было на этом месте прежде? Я стоял и думал; век минувший, давно пережитый и оцененный, глядел изо всех углов, постепенно вливаясь в меня, как вода.
Потом оцепенение прошло; в каждом из нас, какой бы силой воображения и степенью перевоплощения мы ни обладали, настоящее сильнее прошлого. Я встряхнул головой и медленно пошел вокруг
54
Книга первая У МОРЯ АРАБИСТИКИ
мечети. В дальнем углу двора показалось небольшое строение. «Что это? – подумалось мне. – Здесь кто-то живет? Здесь, в этой глуши?»
Нет, это не было обиталищем живых. Густая решетка в единственном окне была сплошь повязана разноцветными лоскутами материи – знаками посещения чтимой могилы, принятыми у мусульман. Я понял, что это «пир» – усыпальница святого, предмет поклонения верующих. В Шемахе было несколько таких «пиров», обычно при мечетях, но помимо этого один на склоне холма в верхней части города, где возвышался православный собор, другой – напротив, под двором бывшей летней резиденции бакинского нефтепромышленника Лалае-ва. Может быть, и здесь когда-то стояли мусульманские храмы?
Рядом с окном, прорезанным на уровне земли, несколько потрескавшихся каменных ступенек сходили к узкой дощатой двери, на которой висел замок. Он был не заперт, а только навешен; я распахнул дверь и заглянул внутрь. Еще ряд ступеней вел вниз, в полутьму. Спустившись, я очутился в подвале; от каменных стен веяло холодом, потолок тонул во мраке. Посреди помещения, освещенный трепетным светом лампы в боковой нише, стоял саркофаг под черной тканью. Две медные чашечки, испещренные ритуальными надписями, тускло мерцали у изголовья. Пол был чисто подметен, метла и кувшин с водой виднелись в одном из углов. Весь вид святилища говорил о постоянном уходе за ним.
«Кто здесь погребен? – подумал я. – Надо спросить у Халила, а еще лучше у Али-дай...» Али Наджафов, седой охранник в местном отделении Госбанка, старожил, которого весь город уважительно звал Али-даи – дядя Али, знал меня чуть ли не с пеленок. В смутные годы армяно-азербайджанской вражды у него на глазах зарезали его родителей. Но он не был озлобленным или скорбным. Он был добрым, словно именно добром хотел он почитать память тех, кто дал ему жизнь. Мальчиком я засыпал его вопросами о Шемахе:
«Что было здесь? А там? А кто жил в этом доме? А что написано над струей этого фонтана на тихой боковой улице?» Морщинистое лицо становилось задумчивым, Али-даи вспоминал... «Конечно, он знает про этот "пир", – бежала во мне мысль, – надо у него спросить... Потом прийти еще раз и осмотреть все снова... А кто этот доброхот, поддерживающий здесь огонь, подметающий?.. Али-даи, если даже сам не знает, может меня с ним свести, и я узнаю еще одну историю из летописей старого Ширвана. Летописей... которых уже, может быть, давно никто не пишет... А написанное, где оно, бог весть...»
Поэт при дворе ширваншахов
55
Я вздохнул и, еще раз обведя взглядом подвал, направился к выходу. Уже у двери мои глаза вдруг заметили нишу в стене, противоположной той, откуда светила лампа. Я напряг зрение: в нише что-то неясно белело.
Бумага.. Рукописи! Трепетное мерцание лампы осветило несколько верхних листов, с которых скатились кусочки упавшей на них штукатурки Вычурное письмо каллиграфа средней руки, лишенное той золотой меры, которая делает книги старых арабских писцов произведениями искусства Смотришь такую книгу, переписанную около тысячи лет назад, и не налюбуешься. Думаешь, как это он так смог, как у него не дрогнула рука, не сфальшивил глаз?.. А здесь был почерк без души, деланный, угодье тяжелого пера.
Но что же за буквами, о чем здесь речь? Я прочитал несколько первых строк и разочарованно положил листы на место: это был Коран, одна из миллионов копий священного писания мусульман. Конечно, и среди них могут попадаться интересные образцы, в основном с точки зрения палеографии, однако шанс мал; обычные сборники не имеют большого научного значения.
Рукопись Корана заключала в себе стопку разрозненных листов среднего формата; я не уверен, что в них был представлен полный текст. Другой экземпляр, лежавший под первым, имел вид томика меньшей величины и тоже был лишен переплета; заключительная часть книги не сохранилась. По-видимому, ничего особенного не было и в остальных бумагах. Я уже собрался отойти от ниши, как вдруг, на всякий случай пошарив рукой под осмотренными рукописями, нащупал третью, последнюю стопку листов. Это была кипа тетрадок, перевязанная накрест.
«Какие-то комментарии к святому писанию, – мелькнула мысль, – сколько их в мусульманском мире!» Каждый богослов, в большей или меньшей степени думавший над Кораном – думавший, конечно, в дозволенных верой рамках, – считает нужным дать свое толкование по целому тексту или его части. Изучение таких толкований подчас бывает очень полезным при научном переводе и комментировании Корана и потому, что ряд источников, по которым они составлены, до нас не дошел, и потому, что среди богословов нередко действовали весьма эрудированные люди. Однако в большинстве случаев мы видим сумму сухих схоластических рассуждений, не прибавляющих ничего нового к тому, что знает арабистика о Коране.
56
Книга первая: У МОРЯ АРАБИСТИКИ
Я достал найденную связку, чтобы убедиться в правильности своей догадки, и первое, на что упал мой взгляд, когда наудачу раскрылась верхняя тетрадка, были слова «ва-каля айдан».
«Ва-каля айдан!» Я насторожился. Эта фраза, означающая по-арабски «и сказал также», или «еще он сказал», или просто «еще», чаще всего ставится в «диванах» – поэтических сборниках, где она, подобно нашим заглавию или пробелу, отделяет одно стихотворение от другого. «Стихи?.. – прошептал я. – Целая книга! Ее надо посмотреть очень тщательно. Что, если здесь неизвестная копия дивана какого-нибудь знаменитого арабского поэта?»
Сердце мое учащенно забилось. Молодости свойственно делать скоропалительные открытия, ибо ей непременно хочется, чтобы они были, и чувства в этом возрасте обычно опережают разум. Я бережно завернул рукопись в газету и вышел из подвала. Солнце клонилось к закату. За стенами мечети шел крутой подъем в новый город. Яркий свет и свежесть воздуха постепенно возвращали меня из мира грез в мир действительности. Еще несколько минут назад я упоенно думал: «Чей же это диван? Ахталя? Абу Нуваса? Абу-л-Аля? Какая сенсация! Невозмутимый Игнатий Юлианович будет потрясен...»
Мне уже представлялось заседание Ассоциации арабистов с докладом о неизвестном унике, поздравления... публикация... И вдруг с усталостью от ходьбы в гору пришла мысль: «А может быть, это просто набор нравоучительных виршей какого-нибудь провинциального мудреца, пресное пособие для благонамеренных обывателей на все случаи жизни, составленное набожным законодателем мод?» Сколько таких пособий в арабской литературе! Сколько их тлеет в старых книгохранилищах Азии, Африки и Европы! Домой я пришел с головной болью и плохо спал ночь. Едва дождавшись утра, склонился над рукописью – арабские буквы, выписанные спокойным, твердым почерком, пристально смотрели мне в глаза – склонился и не вставал до вечера, забыв обо всем.
«Атааллах, прозываемый Ширвани, а родом из Аррана, поэт и ученый Ширвана, сказал, когда ему повелело сердце... Ведь ум, оглядываясь на обстоятельства, оберегает жизнь и поэтому, видя сильного врага, приказывает сердцу: молчи! Но как быть, если жизнь короче времени, когда нужно молчать? Ум труслив, а сердце бесстрашно. Много сочинителей сложили по многу книг, изучаемых многими поколениями. Я, один из сыновей благословленной столицы поэтов, сложил всего одну книгу, которую прочтет ли хоть одно поколение? В
Поэт при дворе ширваншахов
57
жизни моей совместились восток и запад, стужа и пламень, тлен и благоухание. Я родился под жестоким небом, осыпавшим меня грозами и ливнями; но солнце, попирающее просторы неба, взрастило во мне эту книгу...
Если бы захотелось наделить ее именем, то какое выберу? Тюрок назовет мои стихотворения "конями златогривого табуна", а перс – "лепестками золотой розы", индиец – "звездами жемчужного ожерелья", араб – "жемчужными каплями родника в пустыне". Что выберу? Ищущий, ты найдешь здесь все это, если аллах – да возвысится он! – подвигнет ум твой к исканию и отвратит от самодовольства...»
Я задумался. Ширвани, а может быть Аррани, – не помню, чтобы Игнатий Юлианович называл такого автора в своем курсе литературы, хотя, конечно, он и не мог – по количеству часов – дать исчерпывающего списка. Нужно по возвращении в Ленинград посмотреть у Брокельмана. Карл Брокельман... Трудолюбивый немецкий ученый всю жизнь составлял перечень арабских авторов и их произведений, с учетом всех рассеянных по миру рукописей, где эти произведения содержатся. Его двухтомная «История арабской литературы», настольная книга каждого арабиста, вышла еще в 1898-1902 годах, а повторно, в значителыно увеличенном объеме, сорок лет спустя. В конце второй мировой войны престарелый подвижник науки был еще жив; ленинградский коллега, оказавшийся на земле Германии в составе Советской Армии, видел его в нищете и поделился с ним тем немногим, что имел.
Самому мне имя автора поэтического сборника ничего определенного не говорило. Я знал, что в прошлом столетии в Шемахе действовал Сеид Азнам Ширвани– именем его назван городской музей; был еще, кажется, Гаджи Зейнаддин Ширвани. Но Атааллах... Впрочем, всех ли Ширвани мы уже знаем? Ведь так, по-древнему названию области, центром которой была Шемаха, мог называть себя каждый пишущий ее житель. А пишущих в Ширване, должно быть, насчитывалось немало: Шемаха была не только «столицей поэтов», но и столицей суверенного государства, принимавшего у себя и западных, и московских послов. Побывал здесь пять веков назад и первый русский путешественник по Индии – тверской купец Афанасий Никитин. Так что Ширвани – это не «Москвин», а скорее «москвич» или, как говорили когда-то, «москвитянин». К тому же наш автор мог войти в историю литературы как Аррани – уроженец Аррана, степной части Азербайджана, ближе к рекам Кура и Араке. Все это должно было выясниться позже.
58
Книга первая: У МОРЯ АРАБИСТИКИ
Рукопись оказалась сборником стихотворений, главным образом, на арабском, отчасти – на персидском языках, чаще всего небольших по объему; значительная доля приходилась на рубай– четверостишия, форма которых хорошо известна по творчеству Омара Хайяма. Выяснилось, что из традиционных шестнадцати метрических схем поэт пользуется наиболее ходкими, главным образом, тавилем и му-такарибом. По арабской традиции страницы не были пронумерованы; вместо этого внизу каждой из них переписчик выставил первое слово следующего листа. Проверка показала, что все листы сохранились – отлегло от сердца, можно было спокойно знакомиться с найденным сборником.
Первый день работы подошел к концу. Что-то скажет последний?
Вернувшись осенью в Ленинград, я бросился к своду Брокельма-на. Ни «Лепестки золотой розы», ни другие из приведенных имен книги, ни их автор у него не значились. Я обратился к «Истории арабской литературы» Хаммер-Пургшталля– нет! К «Энциклопедии ислама» – нет! Игнатий Юлианович тоже ответил отрицательно:
– Ширвани? Аррани? Не припомню... Судя по именам, это скорее персидский литератор, не зря он отсутствует у Брокельмана!
– Но он писал по-арабски...
– Может быть, это просто перевод с персидского?.. Может быть, это новейший автор, не попавший в поле зрения просмотренных вами справочников? Понимаете, здесь все очень сложно. Можно хорошо разобраться во всех особенностях рукописи, выяснить стиль писателя, даже его источники– и при этом биться над идентификацией всю жизнь; часто бывает, что такие целеустремленные поиски ничего не дают, иной готов уж и рукой махнуть на это, как вдруг неожиданно, при работе над совсем другой темой, может всплыть ответ на то, что давно мучило: вот, оказывается, в чем дело, и только в этом! Так и вы с вашим поэтом можете проискать до конца дней своих, а уверены, что он этого стоит? Мой вам совет: не беритесь за преждевременные работы и не распыляйтесь. Все-таки вы пока студент, и ваше основное дело сейчас – накапливать знания. Издание стихотворного дивана требует большой подготовки. Приобретайте ее постепенно, наука не терпит спешки. Отложите ваш сборник на дальнейшее и не ставьте себе никаких сроков...








