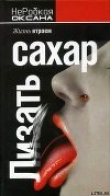Текст книги "Raw поrно"
Автор книги: Татьяна Недзвецкая
Жанр:
Эротика и секс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Иду на кухню. Иду и чувствую, как же я ненавижу Виктора. В этот час ярость и обида за все мои неудачи сконцентрировались в образе этого ублюдка. Я выдвигаю кухонный ящик, достаю оттуда большой кухонный нож. Мое пьяное воображение рисует фантазии в духе хичкоковского «Психо»: я крошу ножом Виктора, он кричит. Его рот огромен, как черная дыра. Струи воды окрашены кровью.
Трогаю лезвие ножа. Понимаю, насколько глупа моя фантазия: и инструмент недостаточно острый, и сил во мне маловато. При таком раскладе жертвой запросто могу оказаться я сама. Оглядываюсь вокруг, пытаясь найти более достойное орудие для убийства. Надо, чтобы было «быстро и наверняка».
Вилка, нож, кастрюля, сковородка, при большом желании возможно и ими. В задумчивости открываю холодильник – там, на вид уже несвежая, лежит колбаса. Секунду живу абсурдной идеей сделать бутерброд – такой, чтобы Виктор им подавился! В мировой статистике существует какой-то там процент погибающих от удушья из-за попавшей в дыхательные пути пищи. Лично знаю одну пожилую и воспитанную даму, муж которой в ее отсутствие подавился куском колбасы и задохнулся. Лежал под порогом с посиневшим лицом, пока жена не вернулась с работы.
Секундой позже сама дивлюсь этой дебильной мысли: «Дорогуша, – говорю себе со смехом, – разве позарится Виктор на этот, уже начинающий дурно пахнуть, кусок колбасы?» Вряд ли.
Я начинаю перебирать в памяти виденные мной по криминальным новостям нелепые убийства, где совершившие насилие были немощными, вдвое, а то и втрое меньше своих жертв. Вот восьмилетний внучек убил бабушку, крепко стукнув ее молотком по виску. Убил зато, что она громко храпела. Две хрупкие и юные подружки лесбиянки закололи мамашу одной из них – здоровущую, дородную женщину – за то, что она препятствовала их запретной любви. Восьмилетняя малышка зарубила топором спящего отчима, насиловавшего ее три года подряд. Блядь, сколько же в мире всякой мерзости!
Отгоняю от себя овладевшие мной социальные мысли. Концентрируюсь на собственных ощущениях и собственной ситуации. Что я могу поделать в данной передряге – тепличное создание, рохля, видевшая трупаки лишь по телевизору?
Слышу, как шум льющейся воды в ванной затихает. Начинаю суетиться. Вбегаю в комнату. Но по-прежнему держу большой кухонный нож в руке. «Хер с ним, раз не смогла убить, так пускай просто ограблю», – думаю я. Хватаю какую-то спортивную сумку, бросаю туда свои вещи – оденусь где-нибудь на лестничной клетке. Суетливо шарю в ящиках комода. Ага, вот небольшая пачка зеленых бумажек. И это что еще за агрегат? Беру его в руки, разглядываю. За этим занятием меня и застает Виктор. Вокруг его бедер обернуто белое полотенце. Мокрые волосы закинуты назад. Он неприятно поражен картиной: ящики комода открыты, я пьяная и голая, да еще и с кухонным ножом!
– Эй ты, сука, – зло говорит мне Виктор, – положи это на место!
Меня вдруг пробирает на смех, мне смешны его позыв, его испуг и его тон.
– Я сказал, положи пистолет, – зло и серьезно повторяет он.
– Чего-чего? – честно удивляюсь я.
И тут до меня, дуры пьяной, наконец-то допирает, что непонятная хрень, которую я держу в руках, – это пистолет, стреляющий резиновыми пулями. Точно. Подобное чудовище я видела опять-таки по телевизору. «Дизайнеры – уроды, – подумала я тогда, – неужели нельзя, не выпендриваясь, придерживаться традиционных форм?»
Виктор, оценив мою нерешительность, идет ко мне. Я понимаю, что медлить больше нельзя. Я поднимаю эту ни на что не похожую чертову пушку. Целюсь Виктору в голову. Стреляю. Изо всех своих немощных сил жму на курок – металл врезается в мякоть пальца.
Первый раз я сочно мажу мимо. Виктор пугается. Он не ожидал, что могу выстрелить. Остальные пули я выпускаю с относительно хорошим результатом. Мой ненавистный кавалер ударами оглушен. Тихо сползает на пол.
Словно дикая кошка, прыгаю на него с размаху и со всей силы рушу на него удары ножом. Слышу хрип Виктора. Слышу мерзкий звук рвущихся тканей. Наверное, со стороны я похожа на большую заводную куклу, совершающую однообразное, заданное внутренней пружиной, действие. Кровь струится, брызжет, пачкает мои руки и одежду. Меня тошнит, я сблевываю прямо в распоротое горло Виктора. Густая рвотная масса смешивается с его кровью. От этого зрелища меня тошнит еще больше.
Мне кажется, что я сейчас потеряю сознание. Солнце. Громадное липкое солнце, пульсирующее в моей голове. Солнце и воля. Печень… Селезенка… Меня выворачивает с такой силой, что кажется, будто внутренности мои и мозг вылетят вон. Не сдержавшись, падаю плашмя на Виктора. Мое лицо погружается в смесь моей блевотины и его крови. Слабость. Сознание шаткое, туманное.
С неимоверным усилием воли поднимаю себя. Каждой клеткой тела ощущаю нечеловеческую усталость. Кошмар произошедшего не позволяет мне верить в то, что случившееся… нет, более того… – совершенное мной! – что это – реальность. Мне хочется верить в невозможное: произошедшее – всего лишь темная игра моего подсознания. Мне хочется свернуться клубочком около теплого трупа Виктора и заснуть. Заснуть и забыть этот день навсегда.
Заснуть рядом с Виктором. Чувствовать, как он остывает, костенеет в противоестественном положении. Заснуть в этой кошмарной вони, а проснуться в собственной чистой постели. Я укладываюсь рядом. И вдруг меня непроизвольно начинают душить рыдания. Я раненый зверь. Расстрелянная браконьерами росомаха. Я понимаю, что все, что случилось, – было взаправду.
Я встаю, смотрюсь в висящее напротив зеркало. Голая, измазанная кровью и блевотиной. Никогда я не казалась себе более красивой.
Мой бедный разум работает остервенело. Он выдает мне решения, краткие и кажущиеся логичными. Иду в душ и долго моюсь. Вытираюсь полотенцем. Спешно одеваюсь. Забираю найденные мной деньги. Не пересчитываю – на вид около трех тысяч долларов. Мне они пригодятся. Разум говорит мне, что нужно вымыть здесь все как следует: моя блевотина хороший способ меня идентифицировать. Но я не в силах этого сделать. Я уже такая чистая и ароматная, вылившая на себя два флакона шампуня, я не могу еще раз измараться. Я выхожу из квартиры Виктора. Бесшумно и осторожно. Спускаюсь по лестнице. Покидаю пахнущий мочой подъезд.
Уходя, никого не встречаю – ни любопытной соседки, ни случайного гостя, но в удачу свою я не верю. Убеждена в том, что кто-нибудь не спящий меня полностью либо частично, но хорошенько заприметил.
Прихожу домой. Со мной случается истерика. В ожидании ареста несколько суток не выхожу из дома. Первоначально меня сковывает страх. Я не в силах что-либо делать вообще. Я не могу нормально спать. Вздрагиваю от малейшего шороха. Мне кажется, что меня вот-вот поведут в тюрьму, в изолятор, в камеру пыток. Бросят на гнилую солому, на холодный цементный пол. И тогда моя прошедшая, казавшаяся мне бессмысленной жизнь определенно покажется мне моей однофамилицей (то бишь – раем), а обретенное новое существование будет сущим кошмаром. Страх парализует все мои движения.
После на меня вдруг нападает деятельность. Подхлестываемая непонятным оптимизмом, я затеваю сбор нужных мне вещей. Я перебираю какие-то безделушки и начинаю плакать. Тихо и беззвучно – вот так я, оказывается, люблю какие-то маленькие, бездушные, ничего не значащие предметы. Сломанная брошка в виде стрекозы, пластмассовая фигурка поросенка, с перламутровым покрытием шариковая ручка. Понимаю, что этих ранее ничего не значащих для меня предметов я буду лишена. Плачу от никчемной жалости к себе. Лежу ничком и щедро смачиваю подушку слезами. Впадаю в забытье – бессвязные, несуразные вижу сны.
Мне снится лето. Теплый воздух. Ощущение надежды, возможности счастья. Мне снится P.P. – он улыбается мне. Рад меня видеть. Я подхожу к нему совсем близко. Становлюсь перед ним на колени и склоняюсь к его талантливым рукам художника. Я начинаю сосать его пальцы, как молочный теленок сосет коровье вымя. P.P. смотрит на меня сверху вниз. Смотрит на меня ласковыми, карими глазами. Я спрашиваю его, почему он не хочет быть со мной? Почему он не хочет быть рядом с той, для которой он – все? P.P. молчит. Я жду его ответа. Ласкаю его набухающий член, сквозь ткань брюк. P.P. наконец-то отвечает, что именно поэтому он и не хочет, потому что он для меня – все.
Я начинаю методично объяснять ему, что именно я могу ему дать забвение. P.P. слушает меня. Слушает внимательно, не прерывает и не останавливает. Я замолкаю сама, понимаю, что доводы мои не трогают его. Смотрю на него. Опять начинаю сосать его пальцы. Моя любовь, словно жадная крыса, пожирает меня изнутри. Сосу пальцы P.P.: моя нежность сменяется остервенением. Зубами сдираю кожу с его пальцев, сдираю мясо. Его руки навсегда искалечены. Он теперь – никто. P.P. корчится, он пытается вырваться. Мои внутренности сочатся невысказанными слезами. Моя любовь, словно жадная крыса, пожирает меня изнутри…
В мое видение вдруг вторгается надоедливый зум. Он рушит образы. Я просыпаюсь. Ужасный этот звук исторгает мобильник. Экранчик светится опиумным именем – Ядвига.
В этот час она мне на хрен не нужна. Отключаю телефон. Но заснуть более не могу. Встаю. Слоняюсь по квартире, мне совершенно нечем себя занять. Сажусь напротив компьютера, нажимаю кнопку «Пуск», выхожу в Интернет. Читаю новости, глупости, анекдоты и гороскопы, смотрю порно. Грустное действо. Жопа кверху, жопа книзу. Один хуй там, другой здесь. Члены маленькие страшненькие, большие и красивые. Растянутые, широчайшие и псевдодевственные, узкие вагины. В жопе красивой до пошлости блондинки – баклажан. Картинки эти не вызывают во мне ни вожделения, ни простого глупого возбуждения. Сквозь мегабайты этой информации вдруг отчетливое во мне возникает желание соприкоснуться с Виктором.
Бытует мнение – преступник всегда хочет вернуться на место преступления. Нет, его убогую нору, где пол перепачкан моей блевотиной и его кровью, я видеть не хочу. Но не могу отделаться от мысли, что поступила неправильно. Вновь и вновь возвращаюсь к мысли, что я в этом самом Викторе, возможно, что-то не поняла, не разглядела, не рассмотрела. Случаен ли случай? Почему именно на него я обратила тогда внимание? Меч ли я карающий, что предначертан ему судьбой? Либо глупое недоразумение, природное уродство, что прервало его жизнь? За что ему такая кара? Либо он есть мое наказание? И настоящая жертва не он, а я? От мыслей этих у меня кружится голова.
Мне вдруг безумно хочется с Виктором пообщаться. Я понимаю, что сделать это нереально, но вспоминаю, что он был начинающим писателем. Дальнейшее свое размышление в равной степени было банальным и здравым: ничто не отражает мысли человека лучше, чем его письменное творчество.
В поисковике набираю фамилию, вернее псевдоним, под которым вышла книга Виктора. Об этом он мне сообщил еще в переписке. Ага, вот сайт, вот выдержки из книги, предупреждение: данная книга не рекомендуется для тех кто младше восемнадцати, так как содержит эротические сцены и сцены насилия – замечательно, именно это мне и интересно!
С первых строк мне становится ясно, что я столкнулась с классическим образцом мужского творчества. Драматическое повествование о жизненных перепитиях некого Никиты, он был здесь главным действующим лицом и, несомненно – альтер-эго автора. Он был настоящим героем и отличался не только мужественной физией, но в отличие от остальных многочисленных уродов морально-этическими и прочими нравственными качествами. Обитать же он был вынужден в прогнившем и протухшем городе Москве. Никита мужественно, вооружаясь злобным матом, продирался по пробкам города, пробовал пройти в модные ночные клубы – с переменным успехом действия эти у него получались. Он томился ожиданием по настоящим чувствам, задыхался от мировоззренческой узости окружающих – ненавидел всех: всех считал лишь быдлом и стаей, короче, трали-вали, стандартный набор. В перерывах же между этими занятиями герой сей пребывал на спецслужбе (ого!). Именно там он встретил наконец-то девушку своей мечты – Маришу, которая «была в соответствии со вкусами Никиты, а он был приучен только на голливудский стандарт». Но в отличие от остальных Мариша не была безмозглой заезженной московской телкой, у которой в мыслях только бабки и тряпки, а была милой и покладистой, умной, принципиальной и порядочной. К тому же Никита не раз замечал, что рассказы его она слушает так внимательно, что даже открывает свой «прелестный ротик». В принципе на этом месте чтиво это можно было и оставить, но я решила пойти до конца.
Лучше бы мои глаза лопнули до того момента, прежде чем я начала читать описание эротического действа, что происходило в джакузи. Пизду героини автор именовал словом «прелести»: «прелести Мариши нежно коснулись воды, и у Никиты закипела кровь». Хуй у героя был необычный: он был с мозгами – «достал обезумевший от возбуждения орган мужской гордости». Остальные же конечности были названы уменьшительно-ласкательно: глазки, спинка, ножки, пальчики, а груди – два прелестных бугорка. Суммируя эти данные, получалось следующее: «Мариша выгнула спинку, Никита, разогнав пенку водой, плеснул водой на два ее прелестных бугорка, она закрыла глазки и приоткрыла ротик, он раздвинул ее ножки, вошел в ее прелести своим органом мужской гордости и включил максимальную скорость…»
«Ну что ж, – подумала я, – себя он видел рыцарем и искал для себя благородную даму». Увы, мечтаний и надежд Виктора я не оправдала, зато теперь одним хреновым писакой было меньше. С праздником в душе, я выхожу со страниц виртуальной книги теперь уже покойного писателя. Аминь!
СОБАЧЬЯ ПОКОРНОСТЬ
Нахожу пульт от телевизора. Включаю. Смотрю передачу о всемирной поп-звезде. Друзья, коллеги, все те, кто сталкивался с ней, наперебой вещают о том, сколь многого она добилась и какая она умница. Я не умница. Я не добилась ничего и ничего добиваться не собираюсь: «нет ничего более развращающего, чем маленький, но стабильный доход», – кто-то из философов эту мысль изрек. Жизнь моя – хорошая иллюстрация этому постулату. Мой образованный, мой умница отец, словно стирая вину за безразличие к моему воспитанию в детстве, позаботился не только о жилище в столице (когда мне было пятнадцать – он купил мне квартиру), но и о небольшом ежемесячном доходе, что получаю я, невзирая на бескрайнее мое безделье.
Денег этих – не много, их хватает ровно настолько, чтобы я могла не голодать и от случаю к случаю покупать себе недорогие шмотки. Конечно, я могла бы потратить все – разом, но тут проявляются мои благоразумие и трусость. Таков уж мой характер: не поверите, но в данном деле медленное тление я предпочитаю яркому огню. Утешением и даже манией величия меня наделяет знание, что подавляющему проценту живущих подобная денежная сумма (а то и меньше) достается за месяц неинтересной, ненавистной, ублюдочно-скучной работы.
Обеспечивая меня этим минимумом, отец не предполагал, что я буду существовать лишь на то, о чем он столь великодушно, в благом порыве позаботился. Он мечтал, чтобы я училась, чтобы я стремилась, добивалась, участвовала в борьбе за выживание. Мне бы двинуться дальше, используя свою базу как пособие, мне бы стать писателем, актрисой, режиссером. Да мало ли кем возможно стать, имея желание? Но мне с ранней юности стало ясно, что я не стану тратить свои жизненные силы на такие глупости, как удовлетворение тщеславия. Мне никому и ничего совсем-совсем не хотелось доказывать. Мне было безразлично, что делаю и в какие места – модные или нет – я хожу. Вернее – не хожу. Безразличием своим я частенько ставила не знавших меня в недоумение: «Как вы, такая красивая, и не были там-то, не участвовали здесь?» – «Да, не участвовала и не ходила, потому как это мне было неинтересно, а потому я и посчитала это для себя ненужным». Я не хотела самоутверждаться, менее всего мне нужно было кому-то что-то доказывать. Какая разница? Я просто есть и этого – довольно.
Я донага раздевалась перед зеркалом. Я смотрела на свое отражение: я видела прекрасные ноги, руки, грудь, живот. Мое предназначение – быть созданной для любви. Вот о чем говорило мне отражение. Это то единственное, ради чего я хочу жить. Ради чего я готова тратить свое время, душевные и физические силы. Но именно на этом поприще из-за тупых и нерадивых особей человеческих, неготовых принять мою любовь, у меня всегда случался сбой.
Все, что было однажды, – будет всегда… Все, что происходит в самый-самый первый раз, не забывается… Ни-ког-да… Особенность защитной системы организма: чтобы быть готовым отразить агрессивное вторжение внешнего, надо помнить. Краеугольные камни первого полового акта и первой любви.
Москва была чужой. Она казалась мне запутанной и бескрайней. Изгибы улиц напоминали мне кольца затаившейся змеи. И одновременно город этот был для меня муравейником – ограниченным и тесным. Я задыхалась, как запертый в каморке больной клаустрофобией, и одновременно терялась, как хлебная крошка на полу заводской столовой. Неуютным этим ощущениям немало способствовало то, что горизонт Москвы не оголен, как я к тому привыкла, прожив детство в родном приморском городишке. Горизонт Москвы был и есть скрыт серыми крышами высотных домов и редкими острыми шпилями башен. Запах моря в Москве отсутствует напрочь, и если улица узка и резко уходит вниз, то это не значит, что она упрется в прибрежный песок, как я к тому привыкла. От непривычного мне большого количества людей Москва казалась мне хаотичного рисунка гигантской мозаикой.
Но этот город был напоен тайными желаниями, и я, превозмогая робость и страх, – чувствовала это. Мне казалось, что за плотным психозом поверхностного есть пузырчатая, тонкая пленка чего-то настоящего, манящего, чуточку развратного (а быть может, и не чуточку…).
Он увидел меня, когда я, презрев подземные переходы, с немалым риском для жизни осуществляла переход проезжей части Тверской. Его позабавило. Еще бы! «Выживет, обязательно познакомлюсь!» – пронеслось у него в голове. Лавируя между машинами, гудящими с негодованием, я, перепуганная, наконец-то добралась до незнакомца, который с едкой ухмылкой и любопытством наблюдал за моим путешествием.
Поравнялась с ним и короткий, ничего не значащий бросила на него взгляд. Вскользь подумал: «Она меня не заметила, я был для нее ничем не примечателен. Посторонний, наблюдатель, не имевший отношения к ее жизни».
Я прошла мимо него неторопливой походкой. День был летним. Теплым и душным. Пасмурным и хмурым. То и дело редкие крупные капли собирались грянуть ливнем, но, будто пугаясь, вновь прятались. Небо ожидало какого-то особенного часа, потому никак не могло решиться на поступок.
Внезапно и разом безо всякого предупреждения (лишь несколькими мгновениями привычный городской шум стал глуше), безо всякого там «грома и молний», даже не капли, а целые струи теплого летнего ливня обрушились на город. Тверская, что была такой многолюдной, разом стала пустой: все прохожие попрятались под козырьки крылец, подъезды, вывески, кафе и магазины. Одна я продолжала свое, неизвестно куда нацеленное, путешествие. Моя дешевая белая юбка насквозь промокла.
«Сумасшедшая», – думал он, меня догоняя. Я обернулась – тонкими лучами от сосцов расходилась мокрая ткань блузки.
Ни удивления, ни злости не отразилось на моем лице. Мокрые пряди волос прилипли к щекам.
– Вы не боитесь простудиться?
– Не боюсь, – только и всего, что я ему ответила и собралась идти дальше, но замешкалась и улыбнулась.
«Смуглое лицо, карие глаза, тонкая и беззащитная шея. Стояла предо мной, раздетая теплым летним ливнем. Вся одежда хоть и была на тебе, но была лишь призраком и ничего не скрывала от моего взгляда», – позже, срывающимся голосом, словно стыдясь внезапного приступа романтизма, делился он впечатлением от нашей первой встречи.
– Как тебя зовут? – спросил он.
Я ответила и почему-то не спросила его имени.
Мы пошли дальше вместе: я – нареченная, он – безымянный. Ливень кончился так же внезапно, как и начался. Постепенно улица стала заполняться людьми, что в отличие от меня и моего спутника были сухими (крылечки, подъезды, кафе и магазины – уберегли горожан от влаги). Я в мокрой своей одежде на фоне сухих и успешных горожан казалась жалкой. К тому же вид мой постепенно стал вызывать недовольство старушек и насмешки подростков. Я, проникаясь ханжеством прохожих, густо покраснела. Шла, опустив голову.
– Мне неловко. Как-то… – сказала я.
– Я живу рядом. Мы можем зайти ко мне.
– Там ты пообсохнешь, – предложил он.
– Ага, прям счас! – грубо ответила я. Но тут же осеклась.
– Я, правда, не думал ничего такого, – сказал он.
В тот вечер мне некуда было податься, никто меня не ждал. Он постелил мне в соседней комнате. В тот вечер он меня не тронул. Бессонно ворочался, прислушивался к сонному моему дыханию.
«Взять да и наброситься на нее прямо здесь, прямо сейчас. Изнасиловать, зажав ей рот ладонью, а там будь что будет!» – подумал и наконец-то заснул.
Когда я проснулась, он еще спал. Тихонько, передвигаясь на цыпочках, я оделась, съела булочку с сыром – как следы преступления оставила грязный ножик, крошки на столе и кусочек мякиша, со слабыми отпечатками зубов.
Прошло около трех месяцев, и он почти перестал обо мне думать. Лишь изредка вспоминал мои соски, что так упрямо натягивали ткань мокрой блузки. Работа и регулярный секс с покладистыми и многочисленными московскими красавицами занимали его пустоту.
Сентябрьским днем он, войдя в свой подъезд в обнимку с какой-то весьма перезрелой шлюхой, увидел меня. Я сидела под дверью его квартиры. Представьте себе, миленькое мое заявление: «Здрасьте! Мне негде ночевать». Полное вранье с моей стороны, но зато эффективное. Шлюхе он, смутившись, объяснил, что я есть его блудная незаконнорожденная дочь, и вместе с ней, оказавшейся весьма отзывчивой дамой, потратил около двух часов, прежде чем нашел мне пристанище, которое мне на фиг не было нужно.
Почему он в ту ночь опять не решился? Точный ответ на этот вопрос предоставить сложно. Демонстрировал остатки порядочности перед шлюхой? Вряд ли. Вера ли в мою непорочность либо желание себя потомить двигали им? Сомнительно… Быть может, уверенность в том, что я так беззащитна и он может поступать со мной так, как ему заблагорассудиться? Вот это скорее всего…
Через три недели повез меня на Корсику, где снимал просторный дом и где весь летний сезон толпилась целая стая его друзей-товарищей и прочих прихлебателей. Временем на отдых он не располагал, потому через день он вернулся в Москву, оставив меня в компании бывшего школьного приятеля – Леши, – у него были серьезные проблемы с психикой, но, как многие недоразвитые, он был добрым малым, к тому же был предан. Водителя, двух малолетних детей (два года – мальчику Петьке, пять лет – девочке Ане), няньки, удовлетворявшей свою похоть с вышеупомянутым водителем, сварливой мамаши, исподтишка приглядывающей за всеми и знавшей все обо всех. Как я приживусь в этом сообществе, его не заботило. Он считал, свой поступок – отправить бедную девочку в теплые края на полный пансион – не самым плохим.
Вернулся недели через три. На этот раз он рассчитывал пробыть на Корсике подольше. Едва он принял радостные вопли, объятия и поцелуи от Пети и Ани и окунулся в атмосферу своего корсиканского дома, то понял, что я за все это время так ни с кем и не сдружилась и держалась особняком. Мамаша его, улучив минутку, отозвала в сторонку, ничуть не стесняясь того, что я все неплохо слышу, начало ему выговаривать: «Кто это такая да растакая? Нелюдимая и злобная тварюжка!» Хватило ли ему мозгов догадаться, что я слишком застенчива и попросту не знаю как себя вести в чужой компании, или привычным были подобные замечания от родительницы? Не знаю.
Краем уха вслушиваясь в наговоры по мою душу, я сидела в кресле в гостиной и с усилием делала вид, что заинтересована замусоленным журналом, который пребывал на столике не менее месяца и в подобные неловкие для меня минуты немало меня выручал.
Забыла сказать главное – он приехал не один. Взял с собой свою давнишнюю подругу Таню. Ему нравилась искренность, с которой Таня нечасто (в этом была его вина, а не ее), но всегда так искренне, без каких либо ухищрений, но с неподдельным жаром-пылом, ему отдавалась. Что же касалось манер – вот уж кто-кто, а Таня знала, как себя вести, при желании могла завоевать симпатии кого угодно. Потому уже через пару часов пребывания Тани на Корсике она весело и непринужденно щебетала с его сварливой мамашей. Та не выпускала из рук привезенную ей в подарок Таней сумочку, лучилась улыбкой и была в полном восторге от новой гостьи.
Все дни напролет он, Таня и я (изредка к нам присоединялся Алексей) только и делали, что бездельничали, катались на лодке, валялись на пляже. Как-то утром он и Таня уединились на пляже, спрятавшись за валявшуюся на песке огромную корягу… В тот момент, когда Таня взяла его член в рот, он заметил, что я за ними подглядываю. Я сидела на корточках чуть поодаль, держала в руках веточку и делала вид, что рисую на песке, но глаза мои, наполненные едкой и обжигающей ревностью, пристально за ними наблюдали. Заметив, что я все вижу, действия Тани он не прервал: даже не попытался укрыться, перейдя в какое-нибудь укромное место, несомненно, получая удовольствие от моего подглядывания, он неторопливо и изощренно Таню выебал.
Медленные мои полудетские каникулы все текли и текли. Утро начиналось с шума поливалок, что включались автоматически. Тонкий запах цветов, веселое настроение утра, предвещающего жаркий день, запах белого, раскаленного солнцем песка и моря. Я просыпалась рано. Спускалась к морю, купалась там и возвращалась к завтраку. Частенько, сорвав с росшего напротив окон моей комнаты куста ярко-розовый цветок, втыкала его себе в волосы. На как-то раз заданный им вопрос, что это за цветок, ответила: «Гибискус», – и не утруждая себя каким-либо объяснением, удалилась. Невзирая на глубоководную и обоюдную симпатию, разговор между нами все никак не мог ни завязаться, ни склеиться. Я закрылась от него, как улитка в раковине, для понимания оставив дурацкую полуулыбку.
Тем памятным вечером ему взбрело в голову поехать в город на дискотеку. Таня села на переднее сиденье: «Оттуда лучше видно, а то, что же, я приеду, и мне будет совсем нечего рассказать». Рядом с ним на заднее сиденье села я. Он незаметно придвинулся ко мне ближе. Я понимала, что ему приятно мое присутствие. Долгой дорогой он мял мою ладонь, указательным пальцем проводил по линии жизни и легонько, словно невзначай, тыльной стороной кисти касался моего соска, топорщившего тонкую футболку.
Дискотека оказалась безнадежно закрытой. Обратной дорогой он дремал. Говорила ли я о том, что он был старше меня ровно вдвое? Короче, не важно, той теплой ночью на песке, минуя легкое сопротивление моей плевры, он проник в меня. Безучастная к его неторопливым и обстоятельным движениям, я не издала ни звука, смотрела на него в упор раскрытыми глазами. Он не мог понять, боль ли он мне причиняет, либо наслаждение. «Приласкай его», – сказал он, подводя к моей ладошке свой вздыбленный член. Мои руки были неумелы. Не кончив, он потащил меня в дом. Мы шли через кусты, что царапали мне ноги, моя испорченная девственность обильно кровоточила.
Затащил меня в душ. Хорошо намылил руки, стал мыть мои ноги и промежность. Тугую струю душа направил мне на клитор. Потом взял под мышки, приподнял кверху, насадил на свой член. Я чувствовала себя мотыльком, наколотым на булавку. Его движения были резкими. Мне казалось, что меня сейчас разорвет изнутри. Потом поставил раком и выебал с еще большей яростью. Вытащил из душа, укутал в полотенце, потащил в спальню. Сел на краешек кровати и настырно стал совать свой член мне в рот. Я не сопротивлялась, но была не готова к подобным действиям и порядком устала. Никак не могла совладать с зубами – те то и дело неприятно скребли член, а это ему не слишком это нравилось. В конце концов, он прервал эту обоюдную пытку и заставил меня ему дрочить. Кончая, он прерывисто сказал: «Мы сейчас друг к другу прилипнем».
Хорошая плюха спермы попала ему на живот, он опустил в нее свой палец и засунул его мне в рот. Вкус и запах спермы, опробованные впервые, показались мне отвратительными. Я сморщилась и деликатно отвернувшись, сплюнула в кулак и, разжав ладонь, вытерла ее о простынь. Виновато и одновременно с упреком улыбнулась. «Ничего. Привыкнешь», – сказал он и уснул.
Той ночью он ужасно храпел, потому заснуть рядом с ним я не смогла. Убежала в свою комнату.
Наутро он при всех подошел ко мне сзади, залез руками под футболку, лбом уткнувшись в мой затылок, губами присосался к шее. Я увильнула из его объятий и как ни в чем не бывало села за стол рядом со всеми собравшимися. Видели бы вы рожу мамаши! Я думала, что от удивления она сожрет салфетку вместо тоста. Таня перекинулась взглядом с мамашей и с видом оскорбленной гордости стала наливать себе чай. Лexa-дурачок ни черта не понял, а водитель плотоядно улыбнулся.
Произошедшее ночью не изменило моего поведения. Я продолжала ходить по дому с равнодушным видом и так же неохотно общалась с его обитателями.
Теми душными корсиканскими ночами он, прижимая меня к себе, признавался в том, что рядом со мной остро и радостно ощущает собственное существование, кажется себе истинным и настоящим, не фантомом, набором переливчатых мнений, а чем-то цельным, и непреложным, и твердым, и вечным, словно скала.
Целуя мои губы, заглядывая мне в глаза, он безуспешно искал разгадку в себе, перебирал свои ощущения и мысли, но не мог найти ответ на мучавший его вопрос: почему именно я? Почему именно я, неловкая, нескладная, задавленная стеснением, волную его. Он не мог найти ответ оттого, что не сразу догадался, что ищет его не там. Он силился найти разгадку в себе, а она крылась во мне. И решение это было до жуткости простым и пошлым: я была в него влюблена. Втюрилась в него настолько сильно, насколько способно быть влюбленным существо, не испорченное размышлениями и страхом за собственные чувства.
Но об этом он догадался много позже. Пока что мучительной проблемой ему казалась моя пресловутая стеснительность. Он с остервенением стал ее искоренять. Однажды он наголо выбрил мне лобок и убедительно попросил меня делать это каждое утро. Он ложился между моих ног и рассматривал мое перламутровое, розовое нутро. Я не протестовала, подлым румянцем горели мои щеки, а клитор, набухая, высовывался из-под укрывавшей его кожицы. Желая меня помучить, он не торопился и ко мне не прикасался до тех пор, пока я не начинала извиваться и издавать какие-то неясные, несвязные звуки. Дразнил меня: