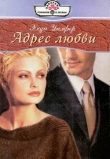Текст книги "Невротички (СИ)"
Автор книги: Татьяна Белоконская
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
– Какие деньги? – недоумевала Верочка, примчавшись на крики супруга из кухни, и Мария Ивановна, вынужденно оказавшаяся на месте трагедии, так как за мгновение еще спокойно перебирала цибулю в гостиной.
– Доллары! В мешках поцвели, куда их теперь? – мужчина вытер сопли клетчатым платочком и достал из старого мешка пачку купюр, переплетенных красной ниткой и упакованной в старый целлофановый кулек, внутри которого невооруженным глазом был виден конденсат. Зеленые деньги выглядели уныло и безрадостно, ибо на каждой купюре располагалась выцвель, переливающаяся цветовой палитрой от темно-зеленого до багрово-коричневого оттенков. Борислав пытался соскрести лезвием плесень еще в гараже под болтающейся мерцающей лампочкой на толстом проводе, но ничего не выходило. Пришлось нести богатство в дом и искать семейной поддержки.
– Как куда? Боже, сначала скажи, откуда? – верещала Вера, изрядно расцветшая краснотой на щеках от взгляда хоть и на подпорченную, но все же кучу денег, которые супруг так нехотя и частично выдавал в день зарплаты.
– Оттуда... – Борис дернул рукой в непонятном направлении, скорее, от психов, нежели желая продемонстрировать источник обогащения.
– В банк сдай, – посоветовала Мария Ивановна.
– Не примут. Вернее, примут, но половину отсчитают из-за дефекта.
– И что? Хоть что-то получим! – завопела Верочка, натягивая на раздавшуюся фигуру после родов мгновенно нафантазированное платье и шляпу с широкими полями, о которой женщина мечтала всю жизнь. Чтобы как Шанель.
На этом диалог был закончен.
Борислав не сдал деньги в банк – получить меньше показалось плохой затеей, поэтому не получил вообще ничего. Не ради этого он месяц в реанимации провалялся. Однажды мужчина приполз еле живой домой, сильно избитый по морде, с большими гематомами на глазах и голове, и попросил вызвать доктора. Скорая приехала быстро – наложили по гипсу на каждую ногу от пальцев до бедер, а сломанные ребра оставили как есть. Семья догадывалась о причинах избиения и искренне надеялась, что Борислав научится «делиться с дядями».
Мужчина не рассказывал, каким образом в его руках оказалось содержимое мешков. Вера подозревала, что муж занимается еще чем-то, помимо прямых обязанностей по КЗОТу на заводе, но никогда не спрашивала прямо. И как спросить, если разговаривать в семье не принято?
Мешок с деньгами и грибком хранился в углу гостиной пару месяцев как символ несбывшихся, но все-таки надежд – отчаянно безнадежных, с привкусом суицидальности. Ибо сдохнуть хочется о того, что о нормальных вещах приходится мечтать. А вдруг он изменится? «Ведь бывают же чудеса, и со мной непременно должно одно из них произойти, я же принцесса», – думала Верочка, смотря на клетчатый химмешок, в котором покоились ее чаяния на лучшую жизнь.
Привести деньги в порядочный вид не удалось, и мешок был положен в еще один и отправлен обратно в гараж. Не выбрасывать же?! После того, как семья узнала о деньгах, Борислав периодически и крайне нехотя приносил домой часть тех, которые не выцвели.
Мужчина всегда вел здоровый образ жизни, никогда не курил и алкоголь принимал на душу в минимальных количествах и только на Новый Год. Расслабиться и дернуть стопочку в конце рабочего дня или просто для настроения было чем-то невозможным от слова «трансцендентальность» по Канту. Борислав за всю жизнь ни разу не напился, не накурился и не наболтал лишнего в пьяном забвении, сидя на скрипучем диване в цветы вместе с каким-нибудь другом-собутыльником о том, насколько скудное существование ведет и как мог бы прожить жизнь иначе.
Вместо этого ежедневно делал зарядку и мечтал жить в лесу, подальше от людей. Последнему не сбыться не судилось, ибо жена, теща и наличие людей в мире, с которыми все же нужно было взаимодействовать, пусть и молча. Слишком «в себе», малоэмоциональный, твердолобый и нечувствительный.
Верочка же была воздушной, творческой, ориентированной на красоту мира эстеткой. С прекрасной русой шевелюрой из вьющихся волос, большими глазищами и «коренастой» фигурой, украшенной бюстом третьего размера. В селе сложно родиться утонченным физически, ибо ежедневная дойка коровы или колка дров как-бы «накачивают руки», делая их внешне рабочими. Несмотря на семейную педагогическую интеллигентность Вера помогала по хозяйству наравне со взрослыми.
Стремилась быть полезной, доброй и отзывчивой. Ей очень нравились слова благодарности от других, особенно от мамы. Редкие комплименты в ее адрес взращивали невидимые крылья на спине под ситцевым домашним халатом в мелкий цветочек, который носила каждая первая совковая хозяйка. Более того, Верочка прилагала максимум, чтобы получить одобрение. Часто это одобрение проявлялось в просьбе о добавке ужина Бориславу или мамином «о, наконец-то нормально вышло». Ну хоть так.
Два противоположных мироощущения сплелись в единую субстанцию, ибо так положено. И держалась эта диалектическая семейная помесь на том, что никто не рассказывал о своих чувствах, настоящих желаниях и не озвучивал потребности. Как будто никто их не имел. Первый и последний раз: «Я тебя люблю» было сказано Верой и Бориславом в день свадьбы тридцать лет назад. Иногда каждый «вылазил» из общего контекста, пытаясь ухватить чуток счастья и глотнуть воздуха, но его быстро запихивали обратно: «Сидеть. Семья».
Семья же больше походила на стайку обезумевших от голода гиен, периодически откусывающих у слабого кусок живой плоти на бедре. При этом роль слабого блестяще и посменно отыгрывал каждый. В армии могли бы позавидовать тому, что человек без напоминаний, уговоров и устава самостоятельно заступал на вахту. То Борислав обижался и объявлял молчанку, прекращая говорить две традиционные фразы «Я ушел» и «Добрый вечер» – это значило, что Вера чем-то сильно провинилась. Порой сама женщина превращалась из тирана в жертву и демонстративно плакала на глазах у черствого и скупого супруга. Мария Ивановна держала нейтралитет, разыгрывая спектакль счастливой семейной жизни перед внучкой, которая не должна была узнать о том, что нормальные люди так не живут. Поэтому девочку часто водили по театрам, на прогулки в далекие парки и читали вслух украинскую классику, чтобы наполнить голову хоть какими-то словами.
Вечером женская часть семьи устраивалась на небольшом и твердом кухонном уголке, садясь на который нужно было подкладывать перину даже очень тучному человеку с объемным задом – в совке изготавливали мебель не для комфорта, а чтобы чем-то заставить дом. Верочка насыпала цейлонский чай в керамический чайник с перламутровым отливом – единственная часть из большого сервиза, который хранился в серванте на случай... На какой случай – ни одна советская женщина не могла бы ответить, но хранить нужно было и непременно в серванте. Если что-то нечаянно разбивалось при попытке снять пыль, это приравнивалось к катастрофе, и с виновником не разговаривали месяцами. Поэтому к таким сервизам мало кто осмеливался прикасаться, отчего они настолько загрязнялись и залипали, что после 90-х их просто выбрасывали.
Верочка нарушила правило и позволяла домочадцам пить чай из сервизного чайника. Мария Ивановна доставала из холодильника, стоявшего в коридоре из-за отсутствия места в кухне голландский сыр, а Оля несла вишневое варенье домашнего приготовления. Каждое лето Верочка закрывала баснословное количество банок с вареньем – яблочное, тыквенное, с добавлением лепестков роз, которое делалось по ее тайному рецепту несколько суток, и, конечно, вишневое. Последнее было самым вкусным, ведь готовилось без косточек. Женщина гробила сутки, чтобы подоставать косточки из каждой вишенки, а потом столько же, чтобы каждую ягодку проверить еще раз. Ведь если делать, то идеально. В этом отношении Вера действительно заслуживала прозвище «мньоха», которым ее величала мама.
Вечера были очень душевными, пахучими, ведь тогда сыр действительно пахнул сыром, а чай на самом деле требовал заваривания, а не кипятка, чтобы покрасить чашку. Женщины обсуждали прошедший день, Мария Ивановна раздавала полезные советы на завтра, Верочка сильно плямкала, тщательно пережёвывая еду, и громко сербала горячий чай, так как употребляла исключительно кипяток. Маленькая Оля молчала, впитывая вербальный опыт у старших. Такие посиделки были редкими, но желанными, поэтому дамы уходили на ночной покой далеко за полночь.
Двухкомнатная квартира походила на элитную мусоросвалку. В ней размещались неописуемой красоты разнообразные безделушки и предметы роскоши, которые в советские времена достать было невозможно, но Верочке, ценительнице прекрасного, это мистическим образом удавалось. Формат малогабаритного пространства и убранство квартиры не сочетались между собой, но тонкий вкус женщины нуждался в реализации. Особым местом силы и женственности было трюмо из прямоугольного зеркала, прибитого на два гвоздя в стену, и низкого шкафчика с двумя дверками ал-я «муж, золотые руки, сделал сам». Сбоку, слева от зеркала, висел необыкновенного изящества светильник в виде двух свечей, включая который можно было осветить свою и соседскую квартиру. Яркие лампочки выедали глаза, но смотрелось крайне эффектно. В шкафчике хранился настоящий клад в деревянных овальных шкатулках с узорами из цветов, покрытых лаком. Когда их открывали, слышался характерный скрип от разъединения прилипших друг к другу шкатулки и крышки, а коридор наполнялся запахом хвои.
В одной, украшенной абстракцией, похожей на клетчатый шерстяной плед, Верочка хранила пуговицы: разных размеров, толщин, форм и историй. Другая шкатулка с портретом Маши Ростовой вмещала украшения: пластмассовые колечки, бантики в волосы, ленточки-браслеты на руку, булавки под золото и медь, игральные кубики и цветные стеклянные шарики, о предназначении которых домочадцы не знали.
Также внутри шкафчика можно было отыскать еще кучу всего: безделушки, шелковые шарфики, красивые бумажные пакетики, бархатные коробочки с кольцами из драгметалла, пустые баночки из-под кремов, которые хранили запах, флакончики начатых и новых духов.
В погоне за эстетикой сорокалетняя женщина превращалась в маленькую инфантильную девчонку, собирающую красивые бессмысленные безделушки. Верочка входила в волшебный мир красоты и грации каждый вечер после ванны, стоя у трюмо, любовно разглядывая себя и обмазывая лосьоном лицо.
При этом женщина спокойно относилась к тому факту, что свитера, юбки, простыни и трусы складируются на стульях, ровненько выставленных под стеной. Приобретение большого шкафа стало событием для всей семьи из двух поколений, но и это не спасло стулья от складирования – всегда находилось, что повесить.
Абсолютно не приспособлена к ведению хозяйства, оплате счетов и планированию бюджетных средств, которые Борислав редко выдавал скрипя зубами, Верочка могла потратить четыре часа времени на приготовление куриного бульона, двое суток на перебор кулька с кульками и несколько вечеров на примерку одежды в коллаборации с украшениями из своих волшебных шкатулок и аксессуаров. При этом образы никогда не имплементировались в жизнь, но систематически демонстрировались у зеркала самой себе.
Для закрытия бытовых вопросов у Веры была мама, которая занималась приобретением социального продовольственного пакета, приготовлением пищи, поддержанием порядка в доме, обеспечением чистого белья всем членам семьи и помощью Оле с уроками. Без отпуска и выходных.
При этом Вера была прекрасной женщиной вне семейного контекста. Яркая, умная, начитанная. В компании могла и стих рассказать, и длинную прозу наизусть, благо семья была читающей. Никакого труда не составляло произнести тост, от которого гости рыдали и шморкались в накрахмаленные салфетки, предварительно уложенные под тарелки. Гостеприимству женщины не было предела. Несмотря на то, что Борислав не любил общество и сам никого в дом не приглашал, Верочка устраивала шумные «гости» с песнями, стихами, веселыми историями, которые супругу оставалось просто перетерпеть. Со временем мужчина втянулся, с некоторыми людьми даже подружился, отчего громкие застолья казались ему менее отвратительными и бесполезными. Вера с Бориславом надевали свои лучшие наряды, которые специально были куплены для гостей. В советское время мало кто позволял себе носить красивую одежду просто так – неприлично было радовать себя без повода и чтобы другие не видели.
Верочка надевала красивое сиреневое платье со струящейся оборкой, цепляла брошь из цветных камней в железной оправе на грудь, рисовала губы красным и дополняла образ туфлями на высокой шпильке с железными набойками, которые страшно натирали ноги, но были очень красивыми. В таком наряде хозяйка выходила к гостям, а дом наполнялся хорошо ощутимым запахом губной помады Lancome, за которую женщина каждые три месяца давала взятку товароведу в центральном универмаге. Цвета выбирать не было возможности, да и выдавали только алых оттенков, но Верочке шло все.
Борислав был скромнее супруги, надевая рубашку, брюки и оставаясь в тапочках. На отсутствие туфлей на мужчине никто не обращал внимания, так как в те годы было принято так выглядеть «при гостях», как бы мягко напоминая, что «не в сказке живем». Тем более, что ковры на стенах для утепления и сокрытия экономии, так как под них обычно обои не клеились, и рваный коричневый линолеум на полу подтверждали этот посыл.
На юбилеи и дни рождения от Верочка ждали индивидуально оформленных букетов и открыток, в которых в формате 2 на 2 сантиметра мог разместиться эпос или религиозная притча о духовном. При этом религиоведы или простые верующие, зачитавшие Библию до дыр, в жизни бы не нашли того, что женщина видела краем глаза или считала очевидным. Кому был дан талант глубокого осмысления действительности, чувствования прекрасного и публичных выступлений, чтобы раздосадовать и прослезить даже мертвого, так это Верочке.
К сожалению, ее тонкая душевная организация была непонята, непризнана и обесценена суровыми семейными буднями, где ребенок требовал лечения, муж сторонился нежностей, а мать ограничивалась хозяйственными вопросами.
Поэтому Верочка «погуливала» с другими мужчинами, тем более, что найти менингит на голову с ее внешностью и подачей было «как два пальца».
Видная красотка, умелица слова ловила восхищенные взгляды мужчин и дико кайфовала от интереса, вызываемого противоположным полом. Мужчины западали на нее мгновенно, ибо энергетика неудовлетворенной внутренней страсти и женственности невидимым клеем цепляли всех.
– Мне нужно отлежаться, – просила Вера сестру выделить ей диван и время для уединения после аборта от очередного бандюка, который так и не узнал, что от него могло быть потомство. У Зои уже имелась отдельная квартира, семья и глубокое человеческое сострадание к несчастной.
– Я на работу уйду, а ты полежи. Может, лекарств надо? Тебе выписали?
– Нет, уходи, – нервно сквозь зубы шипела Вера, явно недовольная результатом запретной любви.
– Я вечером буду. Если что, звони в скорую, я соседку предупредила, что у меня сестра болеет.
– Что ты ей сказала?
– Ничего не бойся, никто не знает. Зачем ты так поступила?
– Что ты понимаешь в любви, дура?
– Поматросил же... – Зоя глубоко вздохнула и укрыла сестру пледом.
– Тебе не понять, – Вера накрылась с головой и отвернулась.
Женщина отлеживалась, а Зоя спешила вечером домой и тащила сумки с витаминами – фруктами и костями для бульона. Кости в те времена были лакомством, правда, за ним не нужно было выстаивать длинную очередь, когда на половине отстоянного, предварительно договорившись со стоящим сзади, что обязательно вернешься, узнавать, что дают! Многие участники очереди не понимали сути собрания, но реалии жизни убеждали, что стоять необходимо. Однажды так Вера выстояла с утра до вечера два зеленых свитера с черными полосками у манжетов. Они оказались качественными и красивыми, потом передавались младшим по наследству. Возможно, сейчас, если потрусить старый платяной шкаф, оттуда вывалится один из них.
Женщина ничего не выбрасывала, бережно хранила обноски, а новые покупки старалась не распаковывать и бирки не отрезать. Все ждала подходящего времени или случая, чтобы надеть или постелить в праздник.
Жизнь шла, а ценники затирались – подходящих случаев оказалось не так уж много. Но Верочка все равно ждала настоящую жизнь завтра, а сегодня – подготовка ежиков к зиме.
Однажды все же случилось срезать бирку с красивого бирюзового платья, чтобы пойти на свидание – Верочка крепко влюбилась, и взаимно.
Женат. Двое детей.
Человек оказался порядочным, добродушным и с далеко идущими планами. Настолько далеко, что через пару месяцев после знакомства подал на развод и потерял тепленькое чиновничье местечко из-за неблагонадежности. Нельзя было изменять жене без ведома партии. Вера же после двухлетнего романа за спиной у мужа и заманчивой перспективой сменить его на другого предложением и кольцом от любимого, пошла на попятную.
Об этих отношениях знали все – Борислав, 16-летняя Оля, Мария Ивановна и Зоя. Ждали, что как-то рассосется. Любовь не рассасывалась, а решение требовалось уже сейчас.
«Ну и на что ты меня содержать будешь? Разведешься – я приму сторону отца!», – боясь остаться без папиных скудных, но все же денег, говорила дочь.
«С Бориславом налажено, привычно, ребенок растет. К тому же, в гараже клад хранится – на правнуков хватит. А с тем что? Бросит, одна останешься! Остепенись, малохольная!», – в страхе остаться без семьи, где в ней нуждаются, говорила мама.
Борислав резал больно и один раз, очерчивая Верочкины перспективы после развода: «Я тебя на улице оставлю с больным ребенком. Ни копейки не получишь на свои платья и помады! Сдохнешь под забором в нищете, так и знай!»
С Зоей не советовались.
Вера остро нуждалась в мужчине. Вот приходилось искать компенсации на стороне: надевать лучшее платье, чтобы нравится, хохотать на празднике громче всех, чтобы обратить на себя внимание, спать с мужчинами, которые тебе не принадлежат. Тогда хотя бы на час, потершись об очередного кобеля, который в качестве прелюдии предлагает восторженно-похотливый взгляд, обрамленный в вербальную банальщину, возникает ощущение правильности жизни, ведь эта штука должна быть в кайф.
А потом оказывается, что измена – это не столько поиск лучшего, а вуалирование того, что когда-то выбор был сделан в пользу худшего. И не каждый готов признать ошибку, тем более, что маминым голосом звучит: «Послушне телятко двох маток ссе». Значит, менять устоявшуюся жизнь на неведомо что нельзя. Вера прекратила роман.
Брак не прогарантировал любви, зато стал гранитной защитой от физического одиночества. Шкаф снова начал наполнятся тряпками с бирками.
***
Внутрисемейная гранитная плита надломилась, когда вечно болеющая дочка-внучка-21-летняя-астматичка Оля, внезапно прекратив болеть, вышла замуж и затребовала обособленный угол.
Такого даже Мария Ивановна себе не позволяла, посвятившая себя Верочке и поставившая крест на собственной жизни. У нее была маленькая, но отдельная жилплощадь, и встречались достойные порядочные мужчины. Последних гордая женщина отвергала, а собственный угол ждал лучших времен. Ведь когда-то же наступит момент настоящей жизни? Периодически мама приходила убираться, проветривать пустое одинокое помещение, платить по счетам. После удалялась туда, где в ней нуждались.
Оля требовала свободу и отдельность неистово, так как сильно хотелось слиться по уважительной причине с этого двухкомнатного ада, в котором никто не был счастлив. Мария Ивановна отдала ключи от своей однушки.
Олю семейным табором холили и лелеяли. Она была худой, высокой, с большими карими глазами «в маму» и масштабным объемом груди. Друзей не было, ибо на прогулки в одиночестве не имела права. Как ей удалось познакомиться с мужчиной и выйти замуж – для всех осталось загадкой.
В подростковом возрасте потенциальных любовей и спиртного Оля была жестко осажена семейным собранием, когда папа потребовал незамедлительно обрезать ногти, стереть малиновый лак и забыть о мальчиках. Робкие попытки попробовать побыть чьей-то возлюбленной натыкались на контроль и обесценивание: «Кому ты такая больная нужна?», и подслушиванием телефонных разговоров по параллельному аппарату. Как только у Оли представилась возможность сбежать из холодной каменной крепости, она тут же ею воспользовалась.
Ее болезнь считалась страшной и неизлечимой, требующей контроля, круглосуточного наблюдения и соблюдения режима дня. И жизни. Воспитательную часть надсмотра выполняла Мария Ивановна – уроки, питательные и разнообразные обеды, чистота белья и вечерние допросы о прошедшем дне. Отчетности избежать было нельзя, так как Оля спала в одной комнате с бабушкой. В небольшой и всегда душной непроветриваемой комнате посередине располагались две большие односпальные кровати, сдвинутые друг к другу, на одной из которых опочивала бабушка, а на другой, накрытой деревянной доской для равной спины, засыпала Оля. Ни расслабиться, ни помастурбировать.
Иногда ночью Мария Ивановна слушала Олино дыхание. Просыпаясь от шума склонившейся в темноте бабушки, девочка приходила в ужас, но ничего сделать не могла. Оставить ребенка в покое и дать капельку свободы было невозможно, ибо Мария Ивановна – педагог.
Раньше, будучи учителем, когда женщина заходила в класс с очумевшими на перемене учениками, помещение моментально становилось кристально тихим. Стоя у двери, начинала читать какое-нибудь стихотворение. Медленный темп бархатного голоса успокаивал даже тех, чье призвание было «рот не закрывается никогда, а бесцельные телодвижения – это жизнь». К Марии Ивановне и учительскому статусу дети относились с благоговением, ибо та не ругалась и не повышала голос. Когда ей нужно было подтянуть ученика или объяснить, что литература – это не мусор украинской недонародности, использовала взгляд и манипуляции совестью младшего поколения а-ля «стыдно чего-то не знать и посредственно учиться». Ибо преподаваемые предметы – это не абы что, а клетки души нации, верный указатель на различность добра и зла в сложные времена. Времена были сложными всегда, поэтому не знать предмет мало кто решался.
Педагоги – это отдельная раса людей. В мозге у них особые нейронные связи, курирующие потребность в наставлениях других. Если человек не нуждается, значит, он еще тупее, нежели предполагалось изначально. Ибо педагог выше, знает лучше, понимает глубже. А тот, кто сопротивляется, должен быть либо уничтожен, либо усилиями педагогического превосходства перетянут на сторону добра. Оля не хотела умирать так рано, поэтому внимала наставлениям бабушки и слушала дополнительные образовательные лекции помимо заданных на дом в школе.
Верочка курировала медикаментозную часть – приводила в дом профессоров, возила дочь на многомесячные оздоровления по здравницам, писала записки учителям, чтобы много от ее ребенка не требовали. Олины болезни стали для Веры настоящим спасением. Во-первых, где еще женщина с повышенной потребностью быть нужной может реализоваться, как не у кровати больного ребенка? Во-вторых, чем больше Верочка лечила, тем больше детский организм болел, поэтому от безделья женщина обезопасила себя на долгие годы.
Оля представлялась в глазах родных женщин ограниченным олигофреном, который заправляет в носки брюки делового костюма. Такой себе больной полудурок-аутист, диагноз которому поставлен мамой, интересующейся медициной.
Просматривая Олины фото из детского альбома, гости и друзья часто удивлялись: «А почему ребенок летом в колготах?» На это Вера демонстративно закатывала глаза, чмокала губами мол «идиоты» и вздымала руки к небесам: «Как почему? Так кашляла и задыхалась, что в тепле нужно было держать круглый год!»
Мария Ивановна с Верочкой образовали лечебно-обучающий конгломерат, добровольно выходить из которого было запрещено. Оля мечтала сбежать из этого сумасшедшего дома, чего-то самой достичь или хотя бы немного побыть в одиночестве. Поэтому вышла за первого, кто предложил сепарироваться из бабо-матерьского гнезда. Горю покинутой матери не было предела:
– Я всю жизнь ей посвятила, – глотая слезы, жаловалась женщина подруге. – А она даже не вспоминает мать!
– В попу их целуешь, себе во всем отказываешь, так на старости никто не спросит о самочувствии... – поддерживала Внрочку Жанночка, тучная одинокая женщина иерусалимских корней. Втихаря гордилась, что участь «маму использовали и выбросили на помойку» ее миновала. Жанночка родила сына для себя и с мужчиной под одной крышей никогда не сожительствовала. Мишенька рос глубоко маминым, достойно выполняя роль ребенка, хозяина, мужчины и надежды на стакан воды в старости. Когда случайно забеременев одну красотку и родив внука, Миша неосмотрительно предупредил маму о планах переезда, Жанночка от неожиданности среагировала не сразу. Лишь на вторые сутки ее потенциально покинутый организм выдал предсмертное повышение давления. Сын с красоткой и ребенком остались у матери. Ненадолго. Вынести Жанночкин деспотичный нрав стало непосильной задачей, и истощенная красотка покинула Мишу. Жанночка осталась при своем мужчине.
– Помню, надо было в санаторий определить. У нее же астма, дистония, вечно с бронхитами и недобором веса. Больной дистрофан, кожа да кости, ножки как ниточки. Так я в ноги падала заведующей, чтобы путевку дала. Поезд, попутки, автобусы грязные, денег ноль. Куча вещей, на месяц едем. Санаторий на холме. То я с поезда на плечах свою доходягу тащу, в руках кошолки и чемодан, весом с меня. Иду и плачу. Ветер в лицо, а я даже слезы вытереть не могу, рук не хватает.
– Да за что ж тебе такое?
– Иду и рыдаю над судьбой и больным ребенком. Борислав мало спонсировал.
– Жлоб.
– Да! Когда не хватало денег, устроилась в лабораторию банки из-под анализов мыть, чтоб хоть рубль на лечение заработать. А теперь она мне не звонит! Моя жизнь распята на кресте ее болячек, – Верочка зарыдала и бросила трубку, забыв уточнить, как у приятельницы дела. Ибо когда не любят, ты становишься сумасшедшим.
Мама с Верочкой приносили обеды и вешали на ручку входной двери Олиной квартиры, звонили по четыре раза в день с вопросом «Как ты?» или заявлениями «Там бабушка пошла, через 15 минут будет» и периодически рекомендовали уйти от недостойного работяги, который крутил в машинах гайки и смел прикасаться к Олиному первенцу без предварительной стерилизации. По мнению женщин, Оля была неспособна к правильному и адекватному уходу за живым существом, поэтому вмешательство с целью контроля в молодую семью было необходимо.
– Я им говорю, что сама приготовлю, так они без предупреждения просто звонят в дверь и вручают пакеты с судками! – жалуется Оля подруге о наболевшем.
– Так не открывай дверь, – та хохочет.
– Я раз и не открыла. Оставили еду под дверью.
– Съели?
– Съели. Бабушка вкусно готовит. К тому же с малым нянчатся, я могу на сутки отдать, вообще без проблем.
– Может, няню?
– Зачем?
– Чтобы отказаться от помощи тех, кто тебя раздражает, – размышляла подруга.
– Они – моя семья.
– А муж кто?
Оля продолжала на словах бунтовать против системы, но успешно пользовалась ее благами, оставаясь частью системы.
Пяти лет жизни в условиях концлагерного надзора Олиному мужу хватило, чтобы поставить супруге ультиматум: «Или они подальше или я насовсем?» На это женщина, подкармливаемая из «папиных волшебных мешков» мило отвечала: «Они добра хотят, не перебарщивай. Тем более, ты столько, сколько папа дает, не зарабатываешь». Посему Ирочкин супруг продолжал ворчать по-тихому в спальне, а собственные именины терпел в кругу любящей дружной семьи супруги.
Та же встречалась с другими мужчинами и приносила домой неподъемные букеты цветов, индивидуально написанные картины, украшения и тоску по жизни, которую могла бы иметь.
– Что с тобой? – спрашивал муж, когда Оля периодически плакала по ночам.
– Я несчастна, – спокойным гробовым голосом отвечала женщина.
– Что нужно сделать, чтобы ты была счастлива?
– Ничего.
– Тогда как же ты станешь счастливой?
– Не знаю.
– Чего ты хочешь?
– Ничего.
– Как можно жить и ничего не хотеть? Ты со мной несчастна?
– Отстань, – привычно успокоившись после беспокойства нелюбимого супруга, Оля отвернулась и заснула.
***
– Мне сон приснился странный, – заявила за завтраком Мария Ивановна.
– О чем? – тщательно разжевывая бутерброд с ветчиной и свежими домашними огурцами с дачи, интересовалась Вера. Ее манера жевать всех выводила из равновесия – оказавшиеся у женщины во рту продукты, долго и скрупулёзно перемалывалась в жидкую кашицу с характерным собачим плямканьем. Процесс поглощения пищи занимал кучу времени и нервов окружающих.
– Я иду по коридору и вижу в конце сидит мой Назар.
– Каким он был? Папа редко к тебе приходит...
– Сидит на табуретке вдали от меня в костюме сером, в котором хоронили, и пристально смотрит. Чистый, стрелки на брюках. Интересно, кто их там нагладил? И рубашка белая. Я ему: «Назар, ты чего здесь сидишь?» А табуретка, видно, неустойчивая, сидит и шатается. А он мне: «Тебя жду...»
– А ты что? – Верочка наконец доела бутерброд и уставилась на маму.
– А я отвечаю, что пока не могу. Тут у меня куча дел, дети, внуки. Постирать много накопилось за неделю, – глаза Марии Ивановны наполнились водой и женщина сглотнула.
– И?
– А он мне: «Я подожду, не спеши».
Мария Ивановна умирала два года. В голове у 72-летней женщины нашли опухоль. На излечение цистита гарантий не дают, а тут рак. Помимо лишнего в мозге у мамы имелся сахарный диабет, гипертония и проблемы с сердцем – пакет must have в ее возрасте и гарантированный отказ в операции.
Верочка не могла смириться с тем, что маму даже не попробуют вылечить. Она обивала пороги институтов, врачей, доцентов и государственных структур, посылающих ее к чертовой матери, но все же договорилась об операции без каких-либо гарантий. Женщина, которой не впервой стоять на коленях перед доктором, измотала светилу хирургии настолько, что тот не просто назначил дату операции, но и согласовал с Верочкой протокол хирургического вмешательства. А что, смотреть дома у телевизора как мама отходит?
Марию Ивановну прооперировали, и та впала в кому. Сутками дети и внуки наблюдали полуживое тело в дорогостоящей, посему крайне вежливой клинике, где привозили на специальных каталках завтрак/обед/ужин, предназначенный пациенту. Пациент по объективным причинам довольствовался едой по трубкам, поэтому провизию поедали родственники. В горло казенные харчи особо никому не лезли, так как Верочка устрашала всех ключевыми периодами после операции: то 3-тьи сутки поворотные после операции, то 10-й день показательный, то 14-й решает вопрос о дальнейшем выздоровлении. Перечить «доктору» не хватало духу ни у кого, поэтому кивали, соглашались и ждали. Мария Ивановна не открыла глаза ни на 3-й день, ни на 203-й.