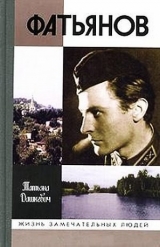
Текст книги "Фатьянов"
Автор книги: Татьяна Дашкевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
2. И снова сестры
Уютная Москва тридцатых со звонкими трамваями, пышной зеленью и вековечным уютом Садового кольца была бесконечно привлекательна для одаренного юноши. На подмостках лучших театров страны играли известные всей стране актеры и актрисы, в садах пели соловьи и певчие люди, музеи влекли своей стариной. Алексей часто садился на паровик и мчался в древнюю столицу за неисчерпаемыми ее возможностями. Тогда он смотрел спектакль К. Финна «Вздор», режиссером которого был будущий его наставник Алексей Денисович Дикий. Может быть, в тот час и зародилась идея поступать учиться именно к этому мастеру. Необычный театральный почерк А.Д. Дикого не мог не пленить ребячески открытого Алексея, который мечтал стать прославленным актером.
А жизнь наращивала темпы, словно подчиняясь требованию человека: время, вперед!.. Тамара Ивановна в шестнадцать лет вышла замуж за офицера и уехала в подмосковное Пушкино. Там она работала телефонисткой. Детские их с Алешей игры закончились давно и навсегда. Ночные дежурства сестры и ранние, нескончаемые хлопоты по дому сделали ее недоступно взрослой.
Судьба Наталии тревожила и родителей, и Алешу.
Еще до 1935 года ее семья жила спокойно и обеспеченно. Наталия Ивановна продолжала прерванную во время болезни матери учебу, а к мелочам быта приставлена домработница. В квартире за ужином часто собирались люди, пили чай с пирогами, оживленно разговаривали, ужинали. Потом вдруг стало не до пирогов – Виктора Николаевича арестовали с конфискацией имущества. Наталии же Ивановне предложили в 24 часа выехать за пределы Москвы. Так ее повела судьба на печально знаменитый «сто первый километр», в отстойник «антисоциальных элементов». Жилось более, чем трудно. Евдокия Васильевна и Иван Николаевич прятали Ию на Лосино-Островской, не хотели, чтобы девочка попала в детский дом. Сами же они переехали на Ново-Басманную, чтобы сохранить за семьей комнату их несчастных детей: Николая, потом – Наталии. Имущества не стало. На Басманной тогда еще что-то можно было найти от бывших жильцов. Собрали для дочери кое-какую мебель из заброшенных квартир, а то с уличных свалок, которыми еще долго была славна Москва. Нашли на такой свалке железную койку, крепкие еще стулья, притащили продавленный диванчик, старинную вешалку в полстены. Этой вешалкой отгородили кровать, благодаря чему получили спальню и кабинет.
Куда только не писала Наталия Ивановна, чтобы ей разрешили проживание в Москве. Ей помогла Н.К. Крупская, у которой Сталин грозился отнять статус вдовы вождя мирового пролетариата. Сестра вернулась, но очень долго ей не удавалось устроиться работать. Куда ни придет – не берут. От жены «врага народа» шарахались, как от прокаженной. Мужнины знакомые Луковы, что жили на Покровке неподалеку от свекрови, посоветовали:
– Наташа, ты не говори никому, что у тебя муж арестован…
Только смолчав где надо, Наталия Ивановна устроилась в бюро проверки метеорологических приборов. Это была работа со ртутью, которая считалась и являлась вредной. «Вредность» помогала жить: давали бесплатное молоко, премировали продуктами и деньгами.
Потом Наталию Ивановну послали учиться в Ленинград и присвоили ей звание инженера.
Едва оправившись от удара судьбы, она трудно начала привыкать к размеренной жизни. А в 1935 году скончалась Евдокия Васильевна. Алексею тогда было шестнадцать лет.
На Ново-Басманной
1. Письменный стол
Москва постепенно приучала к себе, «приручала». Пришел срок, и она позвала Алешу, дав ему приют все в том же доме № 10 по Ново-Басманной улице. Когда уезжали с Ново-Басманной соседи, то оставили Севостьяновым большой буфет. Этим буфетом отгородили еще один угол – получилось три комнатки. Одна предназначалась Наталии Ивановне, вторая – шестнадцатилетнему Алеше, третья – Ие. Кабинет был без окна: закуток, в нем – письменный стол и диван. В комнате было всего два окна, одно из них балконное. Это был далеко не тихий уголок столицы. Балкон квартиры располагался прямо над рельсами Курской железной дороги. Паровозы в любое время суток громко приветствовали столичный вокзал зычными гудками. Эти паровозы словно готовили в истории место для образа своих собратьев, которые прибудут на «фатьяновскую» станцию в 1957 году:
Лишь составы идут за составами,
Да кого-то скликают гудки…
На Ново-Басманной выпускник и поэт делил письменный стол с десятилетней племянницей Ией. Стол был маленьким, однотумбовым, его не хватало для двоих. Тогда на него положили большую филенчатую дверь, сверху – прикрыли листом фанеры и застелили сукном. По этому своему столу скучал потом Алексей Фатьянов на фронте. А пока по вечерам присаживались к нему с двух сторон юный дядька и племянница. В одной стопке тесно лежали рукописи, во второй – школьные учебники. В одной тетради появлялись алгебраические уравнения, во второй – поэтическая клинопись чувств и мыслей. Когда девочка шла спать, Алексей располагался свободнее.
В доме напротив, через железнодорожные пути до поздней ночи светилась в чьем-то окне такая же зеленая лампа. По всей вечерней Москве горели тогда одинаковые зеленые настольные лампы… Алеша увлеченно фантазировал о том, что одинокая прекрасная девушка грустит в пустой квартире, ожидая счастливого дня встречи с ним – неизвестным еще поэтом.
Но не только романтические настроения навевала близость большой российской дороги. Однажды Алексей услышал, как на железнодорожных путях женщина кричала о помощи. Он быстро отправил домой играющих во дворе ребятишек и один поспешил на помощь. Он силой удерживал шпану до тех пор, пока не подоспели вызванные им же милиционеры. Женщина была спасена, обидчики – наказаны.
2. Литератор Толстой
На Ново-Басманной у Алексея появлялись друзья. Он любил приходить в дом в Спасо-Коленном переулке, где жила семья малоизвестного тогда литератора Сергея Николаевича Толстого. Потомок небогатой тверской ветви Толстых, дворянин, человек высокой внутренней культуры, владелец обширной домашней библиотеки, он был на одиннадцать лет старше Фатьянова, но этой разницы не чувствовалось и юноша был в его доме желанным гостем. Домашняя библиотека Толстых, напоминала утраченную отцовскую – Алексей всегда уходил отсюда с книгой.
Сергей Николаевич Толстой, мыслитель, публицист и стихотворец, не печатался в силу своих убеждений. Он был хоть и молодым человеком, но личностью другой эпохи, иного государства, постороннего режиму склада. Все им написанное целых шесть-семь десятилетий находилось «в столе». И только в 2000 году вышел первый том собрания сочинений этого только теперь открываемого нами литератора. Изданием занялась его невестка, филолог, музыкант, семейный архивариус… Будущий ее муж, Николай Сергеевич, тогда, в конце тридцатых, был ребенком. Он помнит, как в дом приходил рослый парень Алеша Фатьянов, просиживал вечера, говорил увлеченно, но сдержанно и ровно, словно сохраняя дистанцию. С отцом они беседовали о литературе и жизни, открыто, не боясь друг друга, высказывались о перипетиях времени. Детская Коли, сына писатели, была вдалеке, в глубине трехкомнатной квартиры. Мальчик прибегал, садился рядом со взрослыми и смотрел, как они спорили, как разговаривали, как играли в карты. Можно лишь предположить, что Сергей Николаевич Толстой мог знать Николая Ивановича Фатьянова, скаута. Они жили рядом, их идеалы совпадали, их объединяла одна уходящая натура любимой эпохи. Будучи моложе старшего брата Алеши всего на 10 лет, мальчиком Сергей Николаевич вполне мог быть одним из юных скаутов-фатьяновцев.
Замечательным человеком в семье Толстых была Вера Николаевна Толстая, старшая сестра писателя. Эта удивительная женщина прекрасной и тонкой души опекала всю семью незримой и ненавязчивой заботой. Ее называли «мама Вера». Мама Вера любила Алешу и подружилась с его сестрой. Вера Николаевна часто приходила на Ново-Басманную, интересовалась жизнью семьи, поздравляла всех с именинами.
Семья Толстых сохраняли русские традиции.
К Рождеству наряжали елку, на которую тайно приглашались дети друзей и единомышленников. Этот красивый праздничный обычай считался «пережитком прошлого» и мог быть наказуем. Алеша приводил на Елку в Спасо-Коленном переулке свою Ию. Тихонько шли они по морозным, совсем не праздничным московским дворам. Но на сердце было светло и хорошо. На Ново-Басманной, не страшась запретов, тоже наряжали небольшую новогоднюю елочку, которая стояла до Рождества Христова.
Алексей, вопреки столь частой юношеской неразборчивости в привязанностях, тяготел к знакомствам с крупными личностями. Там же, у Курского вокзала, жил Андрей Андреевич Андреев – бывший нарком путей сообщения и рабоче-крестьянской инспекции СССР, секретарь ЦК, действующий депутат, который провел большую работу по сплошной коллективизации и ликвидации кулачества, и как бы являлся прямым врагом «фатьяновского» сословия. Алешу же привлекала воля и целеустремленность этого человека, который начинал свой путь «мальчиком» в одном из московских трактиров. Андрей Андреевич за свою жизнь успел поработать официантом в ресторане «Гранд-отель», механиком на колбасной фабрике. Он лил гильзы к патронам в империалистическую, служил больничным кассиром, а с началом революции в первых рядах участвовал в большевистском движении…
В дом пятидесятилетнего чиновника из высшей советской номенклатуры Алексей был вхож из-за сердечной привязанности. Он был влюблен в дочь Андрея Андреева и Доры Хазан. Его приветливо встречали родители девушки и даже считали женихом. Однако, это увлечение быстро прошло. Коммунистический фанатизм родителей, недостаточно искренняя обстановка в семье, бессознательное, может быть, классовое неприятие оттолкнуло юношу от Андреевой-Хазан. И как-то позже, через полтора десятилетия он проговорился своему другу Сергею Никитину – писателю и дворянину, люто ненавидевшему «вещизм» мещанства, что ему становилось не по себе вдруг среди буржуазного уюта тогдашних «новых русских».
– Каждая вещь казалась мне виноватой в слезах детей… – сказал тогда Фатьянов.
Ему ближе были Толстые, которые во многом повлияли на миропонимание Алексея. Искренняя любовь к России, смелость выражения своих мыслей, трезвая, мудрая оценка обстановки тех лет – таким было мироощущение Сергея Толстого. Юноша с Ново-Басманной, да еще единицы преданных друзей – вот все, кому он мог доверять. И не ошибся.
3. Старшая сестра
Наталия Ивановна была старше Алексея на 18 лет. Она приняла на себя обязанности его матери. Пришлось ей стать и сиделкой – Иван Николаевич чувствовал себя все хуже. Однажды он слег и оставил работу в Торгсине.
Тогда жесткие тиски бедности стали заметно и неумолимо сжиматься. Молодой разведенной женщине необходимо было кормить двоих детей и пожилого отца. Тогда же в медицинский институт поступил ее двоюродный брат Коля Меньшов. И он тоже жил на Ново-Басманной и привозил из походов в деревню гостинцы: сушеные вишни, сало, варенье. Однако, жили все равно голодно, продуктов не хватало.
– Я хорошо помню, как мама принесет полкило колбасы, порежет, – рассказывает Ия Викторовна о довоенной жизни. – Я пока соображу, что надо взять… А ребята молодые, есть хочется – и тарелка сразу пуста. Я помню, как мы пили чай. У нас были стаканы… Алеша как-то спрашивает: «Что это за стаканы такие?» – словно впервые их увидел. Я говорю ему: «А что стаканы? Стаканы, как стаканы!» Щадя его самолюбие и душевную уязвимость, я не сказала ему, что бабушка подобрала их ни весть где, когда маму высылали из Москвы…».
Наталия Ивановна не только кормила Алексея, она его и окормляла.
Брат всегда делился с нею своими личными переживаниями, показывал новые стихотворения. Эта сыновняя привязанность к сестре сохранилась у Алексея Ивановича до самых последних дней.
– Наталья! Я выучусь и не дам тебе жить в нищете. И в гроб я тебя положу в котиковой шубе! – Говорил он ей среди вопиющей бедности, а она понимающе улыбалась столь галантному обещанию брата. Его искренность часто была вызывающей, доходила до гротеска, дабы то, что он хотел сказать, было услышано. Близким на всю жизнь человеком всегда была Алексею и племянница Ия. В свою очередь он занимался ее воспитанием, помогал разбираться в чтении книг. Он без всякого сомнения будил ее по ночам и читал ей свои новые стихи. На тонком восприятии юной племянницы он испытывал еще и свое мастерство чтеца, проигрывая выученные басни, прозаические отрывки.
В ту пору Алеша увлеченно готовился к поступлению в театральную студию А.Д. Дикого.
4. Абитуриент
Смущало же Алексея два обстоятельства. Первое – аттестат его был не блестящим. По главным предметам – русскому языку и литературе – стояли тройки. Второе: для поступления не хватало ему двух лет жизни, в студию принимали только с восемнадцати. Он успокаивал себя тем, что даже у Чехова были тройки.
– А насчет возраста – так внутренне я всегда себя чувствовал старше биографии, – оговаривался он на этот счет.
Он и был старше: душа поэта всегда знает о жизни гораздо больше своего возраста. А запись в свидетельстве об окончании Лосиноостровской школы говорила следующее: «Фатьянов выполнял общественную работу по драмкружку и стенгазете, дисциплинирован вполне и проявляет склонность к сценическому искусству». Отцу, Наталии Ивановне, Ие, нравились его голос, дикция, мимика. Вдобавок он был просто красивым парнем, имел в плечах сажень и в глазах – все богатство души. Близкие уверяли его, что он поступит в студию. А Иван Николаевич, сам по складу своему человек артистичный, видел в сыне состоявшегося себя. И говорил: «Алеша у меня будет известным человеком».
Он был уверен, что сын станет как минимум народным артистом, и его ждут успех и слава.
Никто не мог предположить, что парень станет народным поэтом.
К будущему абитуриенту приезжали на паровике друзья из Лосинки – студенты Виктор Шеманский, Георгий Глекин и хозяйский сын Вячеслав Марков. Алексей демонстрировал им свое актерское мастерство, а в паузах читал стихи, появившееся за последние ночи. Они слушали эти стихи и, как непревзойденные знатоки поэзии, давали советы, хвалили или безжалостно критиковали сочинителя. Алексей тоже часто ездил в Лосинку, скучал по товарищам. Чтобы уж наверняка быть уверенными в актерской состоятельности друга, они пригласили авторитетнейшего критика – студента театра-студии Николая Волчкова «посмотреть» абитуриента. Этот предварительный экзамен проходил в дачном саду Марковых и был выдержан блестяще. Коля сказал пророческие слова:
– Алеша, у тебя есть талант. Ты будешь знаменит. Дерзай!
Школа А.Д. Дикого
1. Атмосфера школы
Заметный юноша с броской внешностью, богатырь «володимирской породы», очаровал приемную комиссию. Без труда поступил Алексей в театральную школу при театре ВЦСПС, которой руководил А.Д. Дикий. До 1935 года, когда в нее поступил Фатьянов, школа называлась музыкально-литературной студией А.Д. Дикого.
Занятия проходили в двухэтажном клубе деревообделочников, в Бобровом переулке. Это было по-своему символично. Потому что «первоклассники» были еще не актерами, а лишь одушевленным пластическим материалом, из которого мастерам предполагалось вылепить актерские судьбы. Среди преподавателей, по мнению студийцев, были олимпийцы. Молодые Иван Романович Пельтцер, Константин Федорович Кочин уже тогда были знамениты. А прежде них, в бытность школы студией, в ней преподавали В.О. Топорков и К.С. Станиславский. Среди старших студентов были П.М. Ершов, Л.Н. Горячих, А.В. Миропольская, О.П. Солюс, А.Г. Ширшов, О.И. Якунина, С.И. Якушев. Георгий Павлович Менглет, поступивший в студию годом раньше Фатьянова, в первых же постановках получил главные роли – Любовника в спектакле «Ревнивый старик», Сервантеса и Сергея в «Леди Макбет Мценского уезда» по очерку Лескова в постановке Дикого.
Алексей Денисович Дикий был известен нашумевшими спектаклями «Человек с портфелем» А. Файко, «Первая конная» Вс. Вишневского, «Вздор» К. Финна, «Интермедии по Сервантесу», среди которых – «Саламанская пещера», «Ревнивый старик», «Два болтуна». Это были спектакли, направленные на раскрытие человеческой психологии при помощи яркой красочной театральности. Смелый режиссер, если это слово применимо к той эпохе эксперимента, был кумиром театральной молоди. Он не презирал традицию, но и желал на сцене видеть новое, уверенно вплетаемое в традицию. Это «новое» и было – «свое». Его принцип «идите нехоженными путями» действовал на начинающих актеров, как огонь на сухие березовые дрова. Студенты горели театром, зачарованные творческой манерой мэтра, они дорожили своим положением учеников этого буяна и ниспровергателя. Революционно гротескный Мейерхольд, маэстро светотени Таиров, сам Станиславский в их глазах бледнели перед авторитетом Дикого. В год учебы Алексея Фатьянова Дикий ставил спектакли «Девушки нашей страны», «Матросы из Катарро», «К вершинам счастья», «Глубокая провинция». Звучные, новые названия пьянили и будили творческий полет. Алексей вместе с другими второкурсниками выходил в массовках на большую сцену. Он приобщался к сценической жизни актеров.
Поздно вечером, приходя из театра, молодой актер присаживался к письменному столу. Если не читал и не работал, то весь принадлежал домашним. Любил поспорить, особенно на театральные темы. И всегда оказывался прав, он просто не мог не победить в споре. Ия и Наталия Ивановна иногда вызывали его на турнир: они играли в слова. Алеша вступал в соревнование увлеченно, как будто доказывал, кто знает больше всех: «Ну, что я вам говорил?». Конечно, он всегда выигрывал.
2. Предощущение песни
Он по-прежнему ходил на концерты Доливо-Соботницкого со старыми друзьями. В компании появлялись девушки. Знакомые по театральному классу еще с Лосинки актрисы Ирина Сафонова и Галина Степанова теперь были однокурсницами Алеши. Часто они бывали на концертах вместе, и нам сегодня можно лишь предполагать: могло ли горячее сердце поэта оставаться равнодушным к девушке, сидящей в соседнем кресле партера. Да и какой юноша исподтишка не любовался золотистым профилем юной театралки, не восхищался хрупкостью ее запястий и глубиной взора? Кто не открывал себе женской красоты впервые, будто проснувшись, вглядевшись в черты знакомого лица, показавшегося вдруг божественно прекрасным?
Однажды он взял с собой племянницу Ию на спектакль «Глубокая провинция» по пьесе Михаила Светлова, а в антракте познакомил ее с автором. Девочка запомнила ощущение общения со знаменитостью на всю жизнь. Алексей пришел по личному приглашению поэта, чем гордился. Он любил стихи Светлова, восторгался его личными качествами.
– Это – личность! – взволнованно говорил он, и рысьи глаза его вспыхивали и зелено мерцали, когда он читал: – «…Отряд не заметил потери бойца и «Яблочко» песню допел до конца…»!
В тридцатые годы Алексею Ивановичу особенно близка была поэзия Михаила Исаковского. Это время вознесения Уткина, Безыменского, Жарова, Багрицкого, время обэриутов и прочих конструкторов-дизайнеров, перманентных революционеров. А у него, у бурного юноши, свой царь – Исаковский! Он был покорен простотой ясных и певучих стихов. Ощущение, что они были всегда, просто росли где-то в лугах и садах, словно были плодами самой природы, а не ума человеческого, не давало покоя Фатьянову. Он хвастался ими, как своими, читал знакомым и радовался. Это были настоящие русские стихи, идущие от традиций Пушкина и Некрасова, гениальные в своей простоте. Пожалуй, еще тоньше Исаковского сумел Фатьянов выразить движения вечно тоскующей по утраченному дому русской души – спокойной соловьиной души замиренного ненадолго военного времени. Жаль только, что Исаковский не разглядел в Фатьянове этих достоинств. На одном из послевоенных семинаров Литературного института стихи песни «Соловьи» он назвал «мурой», за исключением двух строчек. Порадоваться удаче собрата – это, видимо, тоже особый дар…
3. Хлеб насущный
Алексей успевал везде. И сегодня нам можно лишь восхищаться тем, что всюду, даже у себя дома, он был всегда подтянут и опрятен. Никто не должен был знать, как трудно ему это давалось. И только маленькая Ия видела это и молча страдала вместе с ним и за него. Она была влюблена в своего дядю, как в лирический образ, и по-женски детским своим сердцем чувствовала его. Уже постаревшая эта девочка рассказывала мне о юношеских днях Алексея, и в словах ее и интонациях сквозили любовь и сожаление:
– Бедный гардероб, скудная еда повергали его в уныние, уязвляли бывшую в его характере барственность. Ему хотелось делать красивые жесты, бросать цветы к ногам театральных знаменитостей и хотя бы изредка угощать красивых женщин чашечкой кофе, а близким – дарить все, чего их душа возжелает. Но его представления о жизни никак не вязалось с внешними обстоятельства. Он был широким человеком… Пытался подрабатывать, но «массовочные» копейки не могли спасти положения. Он страдал…
Я сам починял ботинки
И ставил на брюки заплаты
И, чтоб не заплакать от горя,
Читал юмористов на сон… —
пишет юный Алексей в стихотворной повести «Этапы», конечно, про себя. Светло-серый костюм, единственный в его распоряжении, носил на себе те щемящие знаки бедности, которые так мешают вести себя в обществе свободно, каким бы ты ни был выдающимся поэтом, артистом или философом. Единственные парусиновые туфли столь же красноречиво рассказывали о материальном положении их обладателя. Иногда Алеше приходилось сидеть дома оттого, что он выстирывал костюм и ждал, пока ткань высохнет. Глотнув унизительной нищеты в молодости, после он никогда не копил денег и не откладывал «про черный день». После войны его можно было назвать и щедрым, и расточительным. Бедность его угнетала. Казалось, всю свою недолгую жизнь он воевал за деньги, но против них…








