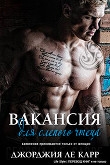Текст книги "Ироническая Хроника"
Автор книги: Тарас Бурмистров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
На митинге, при большом стечении народа, наши поводыри продолжали те же речи, что ранее в печати. Генеральный директор НТВ Евгений Киселев сказал, что ему "хотелось бы верить, что власть в этой стране будет считаться с общественным мнением". При всей кажущейся простоте лексика этой фразы необыкновенно выразительна; особенно характерны обороты "хотелось бы верить" и "в этой стране". Последнее выражение вообще является одной из типичнейших примет речи русских диссидентов; оно и впрямь великолепно передает их чемоданное мироощущение.
Ирина Хакамада заявила, что "мы не имеем права получать свободу порциями, как баланду в тюрьме". Обратите внимание на это "не имеем права"; только в России, наверное, свободу понимают как трудную и почетную обязанность, как долг, который надо неукоснительно исполнять. "Мы будем за свободу бороться", отметила Хакамада. К этой борьбе, по ее мнению, должно подключиться и молодое поколение, которое "совсем расслаблено". "Они ходят по ночным клубам, слушают рок-музыку, ищут рабочие места, пользуются этой свободой и думают, что с этим родились", пояснила Ирина Хакамада.
"Удавить НТВ по-тихому не удастся", резюмировал Евгений Киселев, удовлетворенный тем вниманием, которое проявили москвичи к его затее. На Пушкинской площади в самом деле собралось несколько тысяч человек, от трех (по данным РИА "Новости") до десяти (по данным НТВ). Лучше бы гендиректор НТВ порадовался, что власти теперь уже не прибегают к таким шумным аргументам, как раньше, во время легендарного митинга на Сенатской площади. "Первые два выстрела рассеяли безумцев с Полярною Звездою, Бестужевым, Рылеевым и достойными их клевретами", писал тогда Карамзин. Не знаю, удалось ли телеканалу НТВ заменить собой "Полярную Звезду", но век таких проектов в России всегда был не слишком долог.
Сто сорок лет назад П. А. Вяземский, гениальный поэт и мрачный реакционер по убеждениям, написал замечательное стихотворение, которое теперь выглядит как эпиграф ко всему, уже истекшему, ХХ веку. Привожу его здесь полностью:
Послушать: век наш – век свободы,
А в сущность глубже загляни
Свободных мыслей коноводы
Восточным деспотам сродни.
У них два веса, два мерила,
Двоякий взгляд, двоякий суд:
Себе дается власть и сила,
Своих наверх, других под спуд.
У них на все есть лозунг строгой
Под либеральным их клеймом:
Не смей идти своей дорогой,
Не смей ты жить своим умом.
Когда кого они прославят,
Пред тем – колена преклони.
Кого они опалой давят,
Того и ты за них лягни.
Свобода, правда, сахар сладкий,
Но от плантатора беда;
Куда как тяжки их порядки
Рабам свободного труда!
Свобода – превращеньем роли
На их условном языке
Есть отреченье личной воли,
Чтоб быть винтом в паровике;
Быть попугаем однозвучным,
Который, весь оторопев,
Твердит с усердием докучным
Ему насвистанный напев.
Скажу с сознанием печальным:
Не вижу разницы большой
Между холопством либеральным
И всякой барщиной другой.
12 Апреля 2001 года Хвост дракона
Неделю назад в мире произошло событие, которое, несмотря на кажущуюся свою незначительность, может ознаменовать собой ни много ни мало, как начало новой эпохи. В изложении газеты "Коммерсантъ" оно выглядело так: "Председатель КНР Цзян Цзэминь (Jiang Zemin) перед вылетом в турне по странам Латинской Америки сказал, что США должны извиниться перед китайским народом, и кроме того, сделать что-то полезное для развития американо-китайских отношений". Прочитав это, хочется встряхнуть головой или ущипнуть себя как-нибудь побольнее, чтобы поскорее прийти в себя и вернуть себе чувство реальности. "Председатель КНР перед вылетом в турне по странам Латинской Америки"... это звучит так же, как если бы китайский лидер явился в Конгресс США с проверкой – на предмет строгого соблюдения демократических процедур в американском парламенте, или нагрянул с инспекцией на какой-нибудь натовский авианосец. А требование "извиниться перед китайским народом"? Со времен распада советской империи с Америкой, по-моему, еще никто не разговаривал таким тоном. Но обо всем по порядку.
Первого апреля мировые информационные агентства распространили новость, которая поначалу могла показаться традиционным первоапрельским надувательством. Сообщалось, что американский разведывательный самолет ЕР-3, совершавший "обычный патрульный облет китайской акватории", был перехвачен китайскими истребителями, столкнулся с одним из них, и, получив сильные повреждения, совершил экстренную посадку на острове Хайнань. Экипаж американского самолета не пострадал, китайский пилот пропал без вести.
Инцидент, что и говорить, неприятный, но дальнейшее развитие событий можно было предсказать заранее. Китайское правительство ударилось бы в амбицию, но напускную, дежурную и наперед уступчивую, а под шумок постаралось бы выторговать у США какую-нибудь неустойку, вроде вступления в очередную международную торговую организацию. Американцы сквозь зубы выразили бы свое сожаление, больше похожее на "нечего было под ногами путаться", и постарались бы не раздувать дело. Поначалу казалось, что все так и будет. Вашингтон потребовал от Китая взять на себя ремонт американского самолета и обеспечить его немедленное возвращение. Китайцы, однако, вместо того, чтобы взять под козырек, повели себя совершенно неожиданным образом. Они возложили всю ответственность за инцидент на американскую сторону, заявили ей решительный протест, и предложили начать переговоры о компенсации ущерба, нанесенного Китаю. К членам экипажа американского самолета представители США допущены не были, и все, что стало известно о судьбе этого экипажа, это то, что он "устроен должным образом".
Америка отреагировала на эту эскападу так, как и должна была это сделать ведущая мировая держава. Три эсминца Седьмого оперативного флота США, направлявшиеся к берегам Америки, изменив свой маршрут, немедленно двинулись к китайскому острову Хайнань. Американским властям было чего опасаться: совершивший вынужденную посадку ЕР-3 оснащен сверхсекретным оборудованием электронной разведки, и Пентагон вовсе не радовала перспектива ознакомления с этой начинкой китайских военных специалистов. Однако уже на следующий день американские эсминцы были отозваны из Южно-Китайского моря; с заупрямившимся Китаем, видимо, решено было обращаться более аккуратными методами.
Между тем, как показали съемки из космоса, китайские военные, не теряя времени даром, установили вокруг американского самолета стеллажи, и начали, спокойно и не торопясь, раскладывать на них снятые с борта части разведывательного оборудования. Оторопев от такой дерзости, Вашингтон объявил свой самолет суверенной территорией США, и вновь потребовал от Китая освободить ЕР-3 и его экипаж. На Китай, однако, это не произвело большого впечатления: МИД КНР заявил, что именно США являются виновником инцидента, поэтому Вашингтон должен "признать свою ответственность за случившееся, дать надлежащие разъяснения и принести Китаю извинения".
После этого американцы еще раз попытались надавить на Китай. Президент Буш отказался приносить какие-либо извинения, и распорядился разработать ряд мер воздействия на Пекин; в их списке были предложения отозвать американских дипломатов, отменить запланированный визит в Китай президента США, и даже "возражать против проведения в Китае Олимпиады-2008". "Мы способны на многое, если нас к этому вынудят", сказал по этому поводу конгрессмен Генри Хайд. "Не понимаю, почему они хотят, чтобы мы приносили им извинения. Это мы должны требовать, чтобы они извинились за то, что следят за нашими самолетами и подлетают к ним так близко". Пентагон тоже вознамерился устроить китайцам показательную порку, и отменил свое решение о закупке в Китае черных армейских беретов, которые в этом году должны были стать частью формы почти всех видов вооруженных сил США. Председатель Цзян Цземинь в ответ на этот нажим, однако, сделал заявление, от которого американское ухо уже давно отвыкло. Китайский лидер потребовал от США прекратить разведывательные полеты над территорией Китая, отметив при этом с самым хладнокровным видом, что "они не способствуют развитию нормальных отношений между двумя сверхдержавами".
Помимо крупной артиллерии, в этой дипломатической войне с обеих сторон были пущены в ход и орудия поменьше. Сенатор Джон Маккейн призвал приложить все усилия, чтобы не допустить китайцев на борт самолета, хотя тут же обреченно добавил, что "китайцы наверняка воспользуются сложившейся ситуацией". Маккейну можно верить – он сам когда-то был сбит в небе над Северным Вьетнамом и просидел в Ханойской тюрьме несколько лет. Другой известный сенатор, Хиллари Клинтон, также не упустила случай выступить с заявлением, в котором сообщила, что она полностью поддерживает позицию, занятую администрацией Буша. "Нет никакого оправдания факту задержания властями КНР американского самолета", отметила г-жа Клинтон, несколько злоупотребив здесь родительными падежами. Это заявление прозвучало особенно пикантно на фоне постоянных обвинений экс-президента Клинтона в том, что он своими постоянными "потаканиями и заигрываниями" распустил Китай, позволив ему стать чуть ли не главным игроком во внутренней политике США.
Китайские власти тоже не остались без поддержки, в том числе и международной. Кубинский президент Фидель Кастро выступил в парламенте своей страны, выразив уверенность, что "Бушу не удастся запугать китайский народ". Незапуганный китайский народ тем временем начал устраивать шумные антиамериканские демонстрации, громить посольства и писать на заборах "верните нам нашего летчика!". Энтузиазм простых китайцев в этом отношении сильно подогревается еще и усилиями властей, которые из исчезновения своего героя-авиатора сделали полномасштабное политическое шоу. Пропавшего Ван Вэя ищут десятки военных кораблей и самолетов, сотни местных рыболовецких судов. Министр обороны КНР лично навещает жену пилота, которая лежит в больнице под капельницей, и обещает сделать все возможное для спасения ее мужа. Центральные китайские телеканалы непрерывно показывают рыдания несчастной женщины, а газеты навзрыд пишут, что шестилетний сын летчика Ван Чжи "все еще не знает, что его отец пропал без вести". Пекинская полиция усиливает охрану в районе посольства США, опасаясь, что на него обрушится неудержимая волна народного гнева.
Оценив обстановку, президент Буш решил несколько смягчить свою позицию. Извиняться Соединенные Штаты очень не любят, хотя иногда им и приходится это делать. Некогда Северная Корея захватила в международных водах американский разведывательный корабль с занятным для русского слуха именем "Пуэбло"; его экипаж провел в заточении несколько месяцев, и был отпущен лишь после унизительных извинений со стороны США. Сейчас американская администрация полагает, что до такого унижения на этот раз дело не дойдет, но продемонстрировать свою добрую волю уже не помешает. Тщательно взвесив слова, Джордж Буш выразил свое "сожаление по поводу судьбы китайского пилота", по-прежнему отказавшись, однако, извиняться за действия американской стороны. В Пекине это назвали "шагом в правильном направлении", но, тем не менее, сочли этот шаг "недостаточным". Видимо, для того, чтобы подбодрить президента Буша и поощрить его к дальнейшим высказываниям в том же духе, китайские власти распорядились начать допросы плененных американцев.
В это время Председатель Поднебесной Цзян Цземинь прибыл наконец в Латинскую Америку, "мягкое подбрюшье США", если пользоваться выражением Черчилля, и там вновь потребовал официальных извинений от Вашингтона. В ответ на это Буш опять публично выразил свое "сожаление" по поводу исчезновения китайского летчика, после чего неожиданно добавил, что "мы молимся за пилота и его семью". Правда, упрямый техасец тут же заявил, что "мы молимся также и за наших мужчин и женщин – военнослужащих" (странное разграничение; наверное, это еще одно проявление пресловутой американской политкорректности). "Они должны вернуться домой", сказал президент; на вопрос, намерены ли США извиниться перед Китаем за инцидент, он, однако, так и не дал прямого ответа. Америка, похоже, решила держаться до последнего и не просить прощения ни при каких обстоятельствах. В какой-то момент стало казаться, что эта твердая политика уже начала приносить свои плоды: по дипломатическим каналам распространилась информация, что китайская сторона готова отказаться от своего категорического требования об извинениях и удовольствоваться выражением соболезнования, "если оно будет получено в письменном виде за подписью президента США". Но вскоре это сообщение было дезавуировано; Пекин заявил, что он по-прежнему настаивает на "извинениях перед китайским народом", а всякие "сожаления" и "соболезнования" для него неприемлемы.
Я потому так подробно остановился на всех этих лингвистических тонкостях, что они-то, как ни странно, и играют первостепенную роль в этом конфликте цивилизаций. Когда официальный Вашингтон утверждает, что он "предпочел бы разрешить спор как можно скорее и без потери лица с обеих сторон", он пытается здесь заговорить на языке китайцев, но делает это не слишком удачно. Американцы вообще, как правило, слабо представляют себе китайскую специфику, коренящуюся на очень древней, идущей еще от Конфуция традиции. Стержень этой культурной традиции составляет труднопереводимое понятие "ли", которое известный русский китаист В. М. Алексеев передает как "образцовое приличие", "нравственность", "благочестие", "благочиние", "чин", "регламент", "ритуал", "порядок", "право", "законность", "обрядность", "устав" и иногда как "китайские церемонии". Это то самое "ли", которое, как говорит Алексеев, "бросилось в глаза европейцам при первом же их столкновении с китайской культурой и для перевода они в своих языках не могли и доселе не могут найти адекватного слова, которое могло бы охватить собою эту колоссальную этико-культурную систему или даже, может быть, целый ряд таких систем, выходящих из единой идеи, но покрывающих собою те именно культурные разрезы Китая как древнего, так и современного, которые ни с какою другою культурой не совпадают". Иероглифически оно означает "строгое служение при совершении ритуальных обрядов древности", а фонетически совпадает, с одной стороны, со словом "ли", означающим "тайные, но основные линии всего сущего", а с другой – следование неким идеальным образцовым нормам поведения. Китайцы придают непомерное значение этому своему веками отполированному ритуалу, который строится на жесткой иерархичности их общества. К любым проявлениям мятежа и бунта Конфуций относится резко отрицательно, возводя "подчинение старшим" в краеугольный камень своего учения. Весь вопрос, однако, заключается в том, как именно выстраивается эта иерархичность, когда речь заходит не о глухой китайской деревне, а о мировом сообществе.
В пору расцвета советско-китайской дружбы китайцы совершенно искренне и без какого-либо внутреннего сопротивления (не говоря уже об иронии) называли СССР "старшим братом". Русская культура несопоставимо моложе китайской, но новое, построенное на самой передовой идеологии общество Россия создала на несколько десятилетий раньше, чем Китай, и именно ей принадлежала честь этого открытия. В конфуцианстве огромную роль играет понятие "сверхчеловека" (цзюньцзы), о котором Мэн-цзы говорит: "сверхчеловек – это учитель всех поколений". Другой блестящий идеолог конфуцианства, Су Сюнь, вообще ставит своего "сверхчеловека" над временем и пространством, приписывая ему единолично построение общества, изобретение ритуала (ли) и сотворение живописи, литературы и музыки. При таком подходе перенести эти воззрения на мироустройство в целом уже не представляло особого труда. Вместо людей и сверхлюдей в нем появились державы и сверхдержавы, причем первые не играли никакой своей роли, целиком идя в чужом фарватере, а вторые, то есть сверхдержавы, определяли мировой порядок, устанавливали всеобщий ритуал, и создавали для всего остального мира кино, литературу и музыку.
В начале 90-х Россия добровольно отказалась от своей роли сверхдержавы, и Китай, подождав из вежливости (опять-таки строго регламентированной конфуцианским ритуалом) целых десять лет (не передумают ли?), теперь решил, похоже, наконец занять это вакантное место. Именно этим объясняются его очень странные, на взгляд американцев, теперешние притязания. В претензиях Китая нет ничего необоснованного, по крайней мере, для самих китайцев. Китай как государство намного старше США (с конфуцианской точки зрения это очень существенно), культура у него несравнимо более глубокая и древняя, экономика по размеру ВНП сейчас уже почти не уступает американской, а скоро и превзойдет ее. Территория Китая больше территории США, а население превышает американское в четыре раза. Неудивительно, что постоянные попытки американцев "прищемить хвост китайского дракона" вызывали сильнейшее раздражение в Поднебесной. Пока Америка и Китай не сталкивались лбами непосредственно, все это не играло слишком большой роли. Но мировое пространство стремительно сужается, и рано или поздно должно было настать время, когда этим двум циклопам станет тесно в одной пещере. Последние события показывают, что этот момент уже наступил.
29 Апреля 2001 года Sein Kampf
В последние недели то, что называется у нас "укреплением властной вертикали" на глазах приобретает зримые и выпуклые очертания. Несмотря на большую занятость в связи с разгромом телеканала НТВ, власти не упустили из виду и бунтарей-одиночек, арестовав знаменитого писателя и политика Эдуарда Лимонова. Произошло это на далеком Алтае, поэтому пикантные подробности этого события стали известны широкой публике лишь через несколько дней. В Алтайском крае Лимонов находился в творческой командировке. Жил он там на пасеке известного барнаульского травника Семена Пирогова (в 10 км от села Банное, в красивейшем ущелье Усть-Коксинского района). Как рассказал один из алтайских соратников Лимонова, писатель "мирно пьянствовал на пасеке в окружении пятнадцати друзей. В это время пасеку оцепили пятьдесят вооруженных до зубов головорезов, которые прилетели в Банное на вертолете. Они ворвались в помещение и арестовали всех присутствующих". Это были сотрудники московского (!) отделения ФСБ; по другим данным они, однако, прибыли в Банное не на вертолете, а пешком, для чего им пришлось целую ночь карабкаться по горной местности, утопая в глубоких сугробах. Как утверждает адвокат Эдуарда Лимонова, этот маневр был специально предусмотрен руководством ФСБ, чтобы группа захвата заранее пришла в соответствующее настроение и арестовала лимоновцев уж как следует. В результате, как отметил адвокат, "само задержание происходило с такими особенностями, что можно роман писать; я думаю, Лимонов и напишет". Я не в первый раз уже слышу мнение, что жизненные неурядицы идут только на пользу хорошим писателям; у самих писателей, правда, эти идеи почему-то обычно вызывали сильное отторжение. "Левочке можно нанимать дурного управляющего", говорил как-то один родственник Льва Толстого, "управляющий нанесет ему убытку на две тысячи рублей, а Левочка опишет его в романе и получит за него пять тысяч рублей". Подобные речи доводилось слышать и Пушкину:
Постигнет ли певца незапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье,
"Тем лучше, – говорят любители искусств,
Тем лучше! наберет он новых дум и чувств
И нам их передаст".
Заточенье, постигнувшее Лимонова, наделало много шуму в печати и особенно в Интернете. Как заметил анонимный посетитель одного из сетевых политических форумов, это событие обсуждалось на нем еще оживленнее, чем даже "бомбежки Югославии и проблемы метафизики конца света". Особенно торжествовали в связи с этим арестом почему-то члены политического объединения "Евразия", провозгласившего на недавнем учредительном съезде своим девизом, казалось бы, далекий от злободневной политики принцип "евразийской общности" и "цветущей сложности". "Лимонов – налип на теле новой России-Евразии", заявил в Интернете один из "евразийцев". "С великим ВВП (видимо, Владимир Владимирович Путин – ТБ) идут новые люди. Их логика не укладывается в категории нашего рассудка, потому что ее источник принципиально иной – это загнанное в угол, упрятанное в плен времени само БЫТИЕ". Другие отклики были не менее красноречивы, хотя и не более вразумительны. Жаль, что сам "ВВП" не имеет обыкновения с ними знакомиться; я думаю, его изрядно подивило бы такое, например, толкование мотивов его последних действий: "страну, где стали производить слишком много хорошего пива, страну, где сознанию большинства людей привиты идеалы мелких лавочников, готовят к новому крестовому походу, дальше, на Восток".
Другие участники сетевых дискуссий понимали происшедшие события более приземленно. "Накануне страстной недели страсти обуяли наши доблестные органы", писал один из них. "Арестован Эдуард Лимонов. Этот человек достоин уважения. Факт остается фактом: молодежь, даже из очень обеспеченных семей, тянется к Лимонову, чувствуя его внутреннюю честность и искренность". Потянувшаяся к Лимонову молодежь, как известно, осенью прошлого года устроила впечатляющий дебош в Латвии: угрожая деревянной гранатой, лимоновцы захватили в центре Риги башню собора Св. Петра и удерживали ее в течение довольно долгого времени, вывесив флаг с символикой своей партии. Сейчас они находятся под арестом в Латвии. Многие посетители интернетовских форумов сочли, что и вождю движения было бы весьма полезно на какое-то время разделить участь своих соратников. "Насколько мне известно", заметил один из участников дискуссии, "пожилой писатель и публицист еще нигде не сидел, кроме как на собственной жопе". "Арест Лимонова не трагедия", пишет другой любитель русской словесности. "В последние годы этот старый идиот окончательно протранжирил остатки таланта. Вместо посадки его следовало бы выслать в Париж, в его квартирку".
Сам Эдуард Лимонов спокойно воспринял свое задержание, несмотря на самые зловещие слухи, циркулирующие вокруг его дела (по одному из них, писателю будет предъявлено обвинение в приобретении крупной партии оружия, в том числе китайских ракет класса "земля-земля"). Как утверждает адвокат Лимонова, писатель чувствует себя "в принципе хорошо", и условия его содержания вполне нормальные. "Он сидит в камере с каким-то наркобароном, занимается спортом, пишет новую книгу. Кормят его вполне сносно. Лимонов говорит, что будет сидеть столько, сколько потребуется", – сказал адвокат. Уже известно даже то, какого рода будет новая книга Лимонова: "в тюрьме я напишу "Mein Kampf"", сообщил литератор.
Спору нет, тюрьма – это одно из самых благоприятных для литературной деятельности мест на земле. Как заметил Александр Бестужев, "Вольтер лучшую свою поэму написал углем на стенах Бастилии". Что там Вольтер с его жалкой поэмой! В заключении писались такие основополагающие для мировой культуры произведения, как "Дон-Кихот" Сервантеса, "Хорошо темперированный клавир" Баха, "Жюстина" де Сада. Лютер в замке Вартбург переводил Библию на немецкий язык. Что уж говорить о России! Петропавловскую крепость можно смело считать первым прообразом советских домов литератора – там жили и работали декабристы, Радищев, Достоевский, Чернышевский, Бакунин. Так что Лимонов попал в хорошую компанию.
И вообще ему, похоже, повезло. В такие бурные эпохи, как наша, интерес к литературе закономерно падает; для того, чтобы привлечь к себе внимание, литератору нужно все время совершать какие-нибудь экстраординарные действия. В последние годы Лимонову удавалось это делать все хуже, несмотря на все его усилия. Теперь власть взяла эти проблемы на себя, и он может спокойно заниматься литературой, не отвлекаясь более на self promotion. С другой стороны, само по себе ограничение ельцинской вольницы, усиленно проводимое сейчас властями, может поспособствовать расцвету русской культуры больше, чем все демократические завоевания предшествующего периода. "Нимфетки не водятся в арктических областях", заметил однажды Набоков. Точно так же и высокая культура, эта хрупкая и пугливая бабочка, избегает "открытых обществ" ("open society") и "свободных стран" ("free country"). Но она удовольствием залетает в государства деспотические и даже тиранические. Многие поэты и писатели понимали это; даже такой приверженец американского образа жизни, как Иосиф Бродский, мечтательно отметил это в своем стихотворении:
Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река
высовывалась бы из-под моста, как из рукава – рука,
и чтоб она впадала в залив, растопырив пальцы,
как Шопен, никому не показывавший кулака.
Чтобы там была Опера, и чтоб в ней ветеран
тенор исправно пел арию Марио по вечерам;
чтоб Тиран ему аплодировал в ложе, а я в партере
бормотал бы, сжав зубы от ненависти: "баран".
4 Мая 2001 года Северная столица
Два месяца назад я окончательно женился, и поселился в Стрельне, ближнем петербургском пригороде. Недавно жена говорит мне:
Твои джинсы пора уже стирать, но сначала их надо замочить.
В сортире? – спрашиваю.
Что-что?
В сортире замочить?
Ну если ты так хочешь, можно и в сортире...
Я же не виноват, что наш августейший сосед так выражается...
Большой Стрельнинский дворец, который сейчас отделывают под морскую резиденцию Путина, находится в пяти минутах ходьбы от нашего дома. Сразу за ним открывается великолепный парк, с тремя продольными каналами, идущими от дворца к морю, и четко, по-французски расчерченными аллеями. У самого Финского залива каналы, обрамляющие сад, изящно изгибаются, образуя остров идеально круглой формы, явно искусственного происхождения. С песчаного морского берега, усеянного соснами, видна вся западная оконечность Петербурга – дома, храмы, дворцы, по вечерам ярко подсвеченные заходящим солнцем. Слева, прямо из водной глади, вздымается внушительная громада Морского собора, подавляя своим мощным куполом приземистую кронштадтскую архитектуру. Где-то здесь, на берегу Финского залива ("au bord de la mer", по его собственному признанию), юный Лермонтов, впервые прибывший в столицу, написал свой "Парус". И сейчас в погожие летние дни все пространство от Стрельны до Кронштадта покрыто парусными судами; в Стрельне расположен знаменитый яхт-клуб, удобно разместившийся в небольшой бухте, отгороженной от моря песчаной дамбой. По старой русской традиции, все это (т. е. все вышеперечисленное, от Петербурга до русской литературы) было основано Петром I, который по совместительству был первым стрельнинским яхтсменом, архитектором, садовником, строителем и мелиоратором. Петр спроектировал местоположение дамбы, портового канала и входного фарватера в порт Стрельны, сориентировав его на свой дворец, построенный невдалеке на возвышенности, и проложил несколько центральных улиц. По его распоряжению реку Стрелку перегородили плотиной, от чего образовалось большое озеро, давшее воду для любимой забавы царя – фонтанов. Впоследствии, правда, Петр увлекся новой игрушкой, Петергофом, и Стрельна на долгое время погрузилась в прочное забвение. Этот недостаток внимания к ней чувствуется и по сей день. Конечно, отсутствие праздных зевак, свободно разросшиеся деревья, полуразрушенные мостики, общий вид заброшенности и запустения придают этой местности свое особое грустное очарование. Но все это уже в прошлом. Сейчас, прогуливаясь по некогда пустынному парку вокруг дворца, то и дело наталкиваешься на схоронившиеся в кустах служебные машины, за рулем которых сидят странного вида субъекты, почему-то, как правило, в темных очках. Совершив гигантский круговорот, власть снова возвращается сюда, в новом обличье и под новым именем.
Вообще в тяге Путина ко всему петровскому есть что-то мистическое; в Петербурге на свидетельства этого наталкиваешься на каждом шагу. Свадебный ужин у нас с женой был в ресторане "Кронверк", старинной шхуне, пришвартованной у Адмиралтейской набережной. В тот день весь огромный корабль был совершенно пуст, и на один вечер оказался полностью в нашем распоряжении. А несколько недель спустя в том же роскошно обставленном трюме ужинали Путин со Шредером, удобно расположившись за столиком и непринужденно болтая по-немецки. Так и вспомнишь известную сцену из пушкинского "Арапа Петра Великого", в которой царь, навестив один боярский дом в Петербурге, расположился там пообедать. "Хозяин, из почтения и радости, ничего не ел, гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года". Путину со Шредером, я думаю, тоже было о чем поговорить. А в двух шагах от них, на набережной, замер, как бы прислушиваясь, бронзовый плотник с топором в руке, сработанный в Голландии и не так давно подаренный нашему городу.
В Стрельне от колоссального путинского дворца до скромных "попутных хором" Петра Великого всего несколько минут ходу; но и другая президентская резиденция, в особняке на Петровской набережной, тоже вплотную, стена к стене, примыкает к домику Петра. Этот домик, или, как раньше, его называли, "первоначальный дворец", несмотря на свой невзрачный вид, играет огромную роль в петербургской метафизике: это первое строение в городе. Как повествует рукопись "О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга", 14 мая 1703 года Петр I осмотрел Заячий остров и принял решение заложить тут крепость. Взяв багонет, он вырезал два куска дерна, сложил крестообразно и водрузил сверху деревянный крест. Сразу после этого Петр перешел через протоку по плотам на правый берег Невы, и срубил там ракитовый куст, а немного дальше еще один. На месте первого куста была поставлена Троицкая церковь, а на месте второго – "первой дворец", то есть домик Петра. Собран он был всего за три дня из сосновых тесаных бревен, и в таком виде, почти не изменившись, сохранился до наших дней.
Эти подробности очень важны для понимания структуры "петербургского мифа", сложившегося в своей основе уже тогда, в первые дни после основания города, и существующего и поныне. Как пишет Д. Л. Спивак, автор великолепного недавнего труда по метафизике Петербурга ("Северная столица", СПб 1998): "Все, что произошло в момент рождения города, тем более то, что было отмечено современниками – принципиально важно". "Последовательность действий Петра – своеобразный гражданский ритуал, разметивший главные точки будущего Города, и своего рода via sacra – священная дорога – установившая направление позднейших процессий".